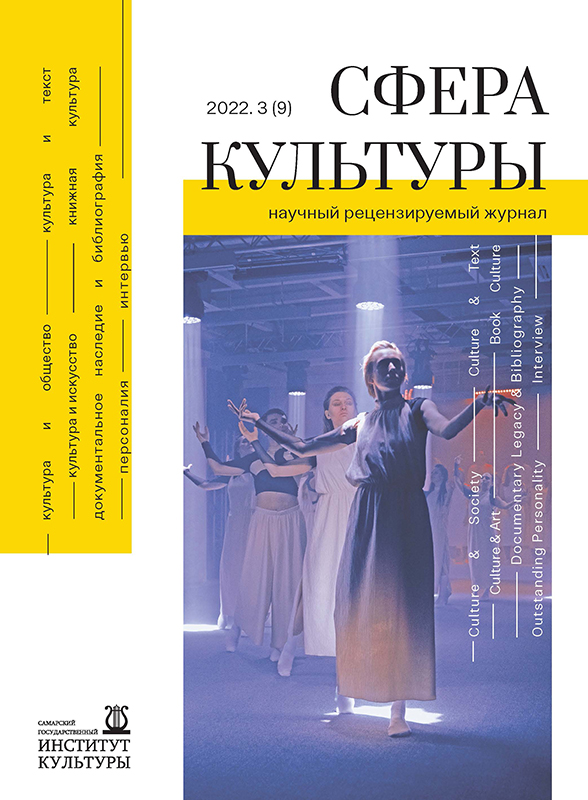Беседа о смыслах и назначении культуры в эпоху социальной турбулентности
- Авторы: Ионесов В.И.1, Хренов Н.А.2
-
Учреждения:
- Самарский государственный институт культуры
- Государственный институт искусствознания
- Выпуск: Том 3, № 3 (2022)
- Страницы: 114-128
- Раздел: Интервью
- Статья опубликована: 14.12.2022
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/117533
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2022_9_114
- ID: 117533
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Редакция журнала представляет беседу доктора культурологии, профессора СГИК В.И. Ионесова и доктора философских наук, профессора ГИИ Н.А. Хренова с обсуждением различных аспектов исторических и современных трансформаций культуры, смены её жизненных циклов, социальных и художественных парадигм. Рассматриваются особенности культурного кода в контексте духовных традиций России, обосновывается роль искусства, диалога культур и символических практик в меняющемся мире. Раскрываются смысловые позиции концептов «культурный лидер», «драйвер культуры», «социальное мифотворчество», «переходный процесс», «визуальная коммуникация» и «художественная трансформация».
Полный текст
Н.А. Хренов
В.И. Ионесов
В.И. Ионесов (ВИ): Глубокоуважаемый Николай Андреевич! Прежде всего, позвольте поздравить Вас с юбилеем! С Вашим именем связана целая веха в развитии отечественной науки о культуре. Многие Ваши работы стали настольными книгами для российских культурологов и искусствоведов. Вы – автор концепции смены культурных циклов и переходного развития. Признанный эксперт по теории и истории социокультурной динамики, психологии искусства, визуальной коммуникации и масс-медийной культуры. Ваши труды позволили прояснить возникающие в истории переходные процессы, их культурные смыслы и назначение. Решение задачи, связанной с построением и классификацией моделей переходных процессов, раскрыло функции искусства в условиях социальной неопределенности и эпохальных трансформаций. Ваша научная деятельность является настоящим образцом высокого профессионализма и гуманистической культуры. Благодарю Вас за возможность побеседовать о насущных вопросах современности и меняющейся культуре.
Н.А. Хренов (НХ): Признателен Вам за поздравление, за добрые слова и высокую оценку моего скромного вклада в науку о культуре.
ВИ: Давайте начнём с того, что выступает в качестве драйверов культурных преобразований? Нынешние проекции культуры определяются теми структурными сдвигами, которыми сопровождается глобальная трансформация: меняются язык и формы коммуникации, смещаются границы повседневного опыта, ломаются стереотипы поведения, наращивается социальная мобильность, появляются новые знания, генерируются мультимедийные ландшафты, преумножаются возможности информационного обмена, идёт экспансия креативного, новаторского, виртуального. Культура на переходе нуждается в новых символах, концептах, образах, имеющих эмоциональное воздействие. Это мир, в котором художественное творчество и креативные индустрии всё настойчивее позиционируются драйверами экономических и социальных преобразований. Между тем, мир сталкивается с беспрецедентным потоком инноваций, ответы на вызовы которых почти всегда запаздывают. В условиях нарастающих перемен нужна новая стратегия жизнедеятельности общества, основанная на эффективных культурных практиках. Встаёт задача понять, насколько успешно культурные институции адаптируются к изменениям цивилизационных контекстов и становятся катализаторами перемен. Так кто и что сегодня выступает драйвером культурных изменений?
НХ: Интересный, однако, вопрос. Если я верно понимаю то, что подразумевается под словом «драйвер», то я бы ответил так. Сегодня такими драйверами, т.е. демиургами, выступают политики, чиновники, идеологи, в общем, управленцы. Это они придумывают новые социальные конструкции и пытаются их реализовать в жизни. Конечно, функционеры для разработки намечаемых проектов приглашают ученых. Один такой проект осуществлялся драйверами большевистского происхождения на протяжении почти всего ХХ в. Он имел социалистическую направленность. В границах этого проекта разрабатывался специальный проект «культурной революции» и создания новой культуры. Но он, как мы сегодня это понимаем, потерпел фиаско. Чтобы построить принципиально новую культуру, которой в мировой истории ещё не было, нужно отвергнуть большую часть культурного наследия. За образец большевистские демиурги взяли авангардистские художественные проекты. Сегодня мы понимаем, что свое значение сохранили только те художественные ценности, которые были созданы не благодаря, а вопреки новому проекту. Какой вывод? Такого рода драйверство несостоятельно. Нельзя отрывать общество от культурного наследия. Никакой революции в культуре быть не может. Все, что происходит в обществе, происходит в границах культуры. Выйти из этой матрицы невозможно. Невозможно даже в том случае, когда общество в результате демиургических экспериментов, вопреки замыслу, деградирует и регрессирует. В конечном счете культура не исчезает, она переключается на свои ранние уровни, возрождает традиции, возникшие на стадии архаики. Даже в этом случае культура осуществляет свою главную функцию – она способствует выживанию общества. Вывод у меня будет банальным. С культурой шутки плохи. Мы уверены, что контролируем её развитие и функционирование. Ничего подобного. Это она контролирует нас, а не мы её. Выход? Давайте же, наконец, изучать культуру, понимать её, а не навязывать ей утопическую, а, следовательно, разрушительную логику. Ведь утопию невозможно реализовать в жизни в принципе. А, следовательно, культуролог и только он может этому способствовать. Он и является, вернее, должен быть драйвером. Вообще, вопрос-то актуальный. Что должны сегодня, после фиаско глобального социального эксперимента, делать новые драйверы, и существуют ли они? Чтобы они появились и успешно работали, первоначально сложится некая схема, идея, новый проект. Скажем, новая идеология. А где она? И вообще, нужна ли она? Может быть, и не нужна, особенно такая, какая была, но что-то должно быть. Вопрос оставим без ответа.
ВИ: При всех вызовах, откатах и претензиях культура всегда выдвигается на передний план общественных преобразований. Но способна ли культура дать оценку своего лидерства? Расширение пространства культуры диктует расширение полномочий лидеров культуры и их ответственности. Ведь движение вперед – это всегда импровизация, риск и эксперимент. Вероятно, нельзя не согласиться с утверждением, что лидеры культуры должны превратиться из «институциональных инженеров» в «подлинных агентов перемен» (Ч. Лэндри, М. Пахтер). Кто же он, современный лидер культуры?
НХ: Смотря кого подразумевать под этим понятием («лидер культуры»). Имеется ли в виду практик, то есть сам художник, поэт, режиссер, композитор, продюсер или представитель какой-то другой сферы. Культура ведь не сводится к искусству, к эстетике. Значит, лидером не обязательно может быть художник. А где его искать? В науке? В философии? В государственном управлении? То есть подразумевать под ним функционера, чиновника, того, кто отвечает за культурную политику. Тут много персонажей, начиная от Екатерины Алексеевны Фурцевой. Она-то запомнилась. Но ведь до неё было много тех, кто исполнял аналогичные обязанности. Начиная с Анатолия Васильевича Луначарского. А вообще, какая среда испытывает потребность в лидерстве? Среда многое определяет. Культура – она отчасти осознается и даже регулируется (хотя этим не следовало бы злоупотреблять), но, по сути, это стихийный процесс, подобно природе. Конечно, существует немало охотников выдвинуть и утвердить в качестве лидера того или иного человека. И с помощью средств массовой коммуникации, пропаганды и политтехнологии его раскручивают. Так ведь часто и делается. Но только в реальности мы имеем дело со стихией. Лидером не рождаются. Лидером того или иного человека делает среда, общество, масса, наконец, ситуация. Но и элита способна навязать массе своего лидера. Правда только в том случае, если она достаточно укрепила свои позиции в массе, успела пройти свой драматический путь к окончательному утверждению себя как арбитра в оценках, когда эти оценки принимает. Так произошло с советской культурой. Там лидеры навязывались и даже имели успех. Они массой принимались. Но многие ли имена таких лидеров сегодня мы помним. Скорее помним тех, кто был в тени, кого не печатали, как А.А. Ахматову и тех, кого преследовали, как О.Э. Мандельштама. Лидерами, во всяком случае, они стали сегодня, после смерти – у тех поколений, которые пришли позже. А вот с лидерами, которые были на слуху в Серебряном веке, в первых десятилетиях ХХ в., произошло обратное. За исключением, может быть, только С.П. Дягилева, который хотя сам и не был художником, тем не менее, многое определял. Он был лидером. На рубеже ХIХ–ХХ вв. в России талантов было много во всех сферах. Ведь начинался славянский Ренессанс. Но все же элита не успела распространить тогда свои ценности и не достигла контакта с массой, с обществом. Разрешить противоречие помешала революция. Помешало «восстание масс», последствия которого дают о себе знать и по сей день. И эти отвергнутые имена к нам придут лишь позднее и станут кумирами новых поколений. Отвергнутое возвращается. Но если искать лидеров в художественной сфере, в литературе, например, или в науке об искусстве, то в свое время такими лидерами были Д.С. Лихачев или Ю.М. Лотман, хотя, конечно, здесь следует иметь в виду более близкую к искусству среду и часть общества. В большей степени ауре лидера во второй половине ХХ в. отвечает, пожалуй, А.И. Солженицын. Но значение его личности выходит за границы искусства и литературы. Он ещё и политик, понятый и принятый массой в ситуации, когда кризис государства в его советских формах стал предметом размышлений простого человека. Лидерство – феномен массовой психологии и вообще социальной психологии. В конце ХХ в. лидером был А.А. Тарковский, резонанс творчества которого вышел за пределы России. Его влияние будет продолжаться ещё долго. Он один из тех, кто разрешил противоречие между новой элитой, возникшей в Серебряном веке, и массовым обществом. Хотя и ему не все удалось. Что касается лидерства в политических сферах, то, наверное, в эпоху «восстания масс» «периклов» больше нет. Ну какой Перикл Э. Макрон или Д. Байден? Тот Перикл, в Афинах, поддерживал искусство, философию, да и сам любил философию. Эффект «восстания масс» проявляется в том, что представители массы оказываются на верхних этажах социального устройства. Что из этого получается? Очевидно. Ни один из них не дает творческого ответа на сегодняшний хаос, который представляет серьезный вызов, ведь человечество оказывается накануне войны с использованием атомной бомбы. Ну невозможно же серьезно говорить о лидерстве в кругах поп-музыки и эстрады. Но и там появляются претенденты на лидерство. Власть вынуждена с ними работать. Вообще, под занавес, приведу ответ на вопрос о лидере культуры формулу Н.А. Бердяева: в творческих эпохах ведущая роль принадлежит художнику. Остается доказать, что мы существуем в творческую эпоху. Я не отвергаю творческого характера современной эпохи. Хаос меня не пугает. Ведь и в начале ХХ в. многие оценивали ситуацию как декаданс, но вот, поди же, декаданс перерос в ренессанс.
ВИ: Значительное место в Ваших исследованиях занимает русская культура. При этом Вы отмечаете её транзитивную природу, основанную не на разделении начала и конца, а на их взаимопроникновении, экзистенциальной смычке, дуализме, что позволяет видеть в русской культуре проекцию непрерывной длительности и изменчивости. В своей фундаментальной монографии «Культура в эпоху социального хаоса» (2002) Вы пишите: «В России история оказывается историей перманентного перехода. В этом русская культура предстает исключительной культурой, не имеющей прецедентов». И далее: русская культура «может быть названа не культурой начала или культурой конца, …а именно культурой перехода». Какие открываются возможности, и какие возникают препятствия на пути преобразований для общества, в котором переходность служит его экзистенциальной проекцией?
НХ: Да, феномен переходности многолик и многозначен. Надо признать, что вопрос морфологии русской культуры, пожалуй, является для нас самым значимым, в том числе для понимания переходности как социального явления. Кажется, что в ней отсутствует один из значимых морфологических уровней, связанный с уравновешиванием и смягчением крайних полюсов. Крайние полюса есть в каждой культуре. Но в них они могут постоянно возвращаться к «золотой середине», к гармонии. Строение русской культуры эту логику исключает. Поскольку здесь уравновешивающая и гармонизирующая середина отсутствует, то история превращается в противостояние полюсов. Побеждает один полюс и начинает разрушать полюс противостоящий. Но торжество первого полюса недолговечно. Рано или поздно побеждает противостоящий полюс и, естественно, разрушает ценности, созданные первым полюсом. Вот такая вот драматическая история получается. Что из этого проистекает? А то, что русская культура – это «пороговая» культура. Я это понятие беру у этнолога Арнольда ван Геннепа, а он переводит слово «limen» как «порог» и больше использует понятие не «порогового», а «лиминального» типа. Что же такое лиминальный тип? Тип личности, тип общества, тип культуры. Но это и есть переходный тип. Понятие «перехода» используется А. ван Геннепом при анализе обрядовой практики в традиционных обществах. Но переход можно в данном случае использовать для характеристики русской культуры. Если в ней не существует гармонизирующей середины, то её история превращается в перманентную переходность. Это и будет тем, что Освальд Шпенглер называет «прасимволом» как ментальным ядром каждой культуры. Делая этот переход таким прасимволом, мы выявляем исключительность русской культуры в морфологической картине, её нишу. Спрашивается, а что все-таки определяет подобное строение русской культуры? Думаю, что географическое положение России способствует тому, что в ней западное начало сосуществует с началом восточным. М. Горький писал, что у русского человека две души. Одна тяготеет к Западу, другая – к Востоку. Вот и в своей истории русская культура демонстрирует то поворот к Западу, то к Востоку. Но эта разрушительная для социума и культуры стихия может быть рассмотрена и с психологической точки зрения. Скажем, в России, как и в каждой культуре, существует множество типов личности. Но есть базовый, то есть определяющий тип. Думаю, это и есть пороговый, лиминальный тип. Г.П. Федотов утверждал, что в России можно выделить не один определяющий, а два основных типа личности. Одного он называет «странником», а другого «оседлым». Один постоянно находится в странствиях. И это странствование может означать не только географическое передвижение, но и богатое воображение, что, конечно, способствует творческому духу и предрасположенности к искусству. Так вот, в истории России случаются эпохи, когда рушится все уже построенное, совершаются революционные сдвиги. Но это не навсегда. Проходит время, и это «странствование», приводящее к перестройкам, заканчивается, и начинается возвращение к тому, что оставили предки, срабатывает оседлый комплекс. Я эту идею развиваю в своей книге «Субкультурные картины мира в российской цивилизации». Удивительно конечно, что эта переходная ментальность у нас, русских, прорывается на политический уровень. И мы начинаем громить и взрывать храмы, как это сделано с храмом Христа Спасителя, а потом, спустя десятилетия, их восстанавливаем. Раз начинаем восстанавливать, значит базовым типом личности в России становится почвенник, москвитянин, строитель и хранитель традиции. Вроде он пришел ещё во время перестройки. Но что-то непохоже, чтобы он задержался. Опять хочется чего-нибудь иного. Снова будем крушить и разрушать?
ВИ: Быть может, прав Фёдор Иванович Тютчев, который прозорливо заметил, что история России до Петра I – сплошная панихида, а после – одно уголовное дело? Россия – страна крайностей, или, выражаясь словами М.К. Мамардашвили: «Целая страна без середины»?
НХ: Тютчев много чего наговорил парадоксального. Это такое метафорическое, афористическое видение истории. А что же и в самом деле происходит в российской истории? Я в своих работах постоянно развиваю мысль о том, что не только после Петра I начинается другая история. Не важно, преимущественно криминальная или, наоборот, либеральная. Хотя и в самом деле, о каком либерализме можно, применительно к России, говорить? Я не стал бы делить нашу историю до Петра и после Петра. Хотя в каком-то смысле тут есть логика. Есть очень глубокая работа В.Н. Топорова о том, что ХХ в. «смотрится» в ХVII в. как в зеркало. В эпоху царя Алексея Михайловича, уже задумавшего реформы, которые будет проводить его сын, была смута, длящаяся все столетие. Но и ХХ в. – перманентная смута. Об этом хорошо писала П.П. Гайденко в книге о Вл.С. Соловьеве. Но я бы обратил внимание вот на что. Вся история России, повторюсь, – сплошной маятник. В ней можно фиксировать два полюса, которые сменяют друг друга. Один полюс получил выражение в периоде, который ещё на памяти нашего поколения, и который нами воспринимается как оттепель. Это период, когда к власти пришел Н.С. Хрущев. Мы этот период идеализируем, и он наделяется гуманистической аурой. Ну как же? Социализм, как прозвучало во время «Пражской весны», уже обретает «человеческое» лицо. Если иметь в виду искусство, философию, гуманитарные науки, культуру, то можно утверждать, что это был один из лучших периодов в нашем искусстве. Подъем в литературе, в частности в поэзии, кино, театре. Придет время, и этот период ещё назовут новым Ренессансом, как называли Ренессансом самое начало ХХ в. до 1917 г. Но начало ХХ в., которое мы называем Серебряным веком, тоже было оттепелью. Тут можно сослаться на Д.С. Мережковского, который, сравнивая этот период с одним из периодов поздней античности, так и обозначает его, используя слово «оттепель». Ну а что такое эпоха Александра II с её гласностью, освобождением крестьян, замышляемыми реформами? А что такое эпоха Александра I, как не ещё одна оттепель? Но вот ведь что интересно. Все эпохи такого рода недолговечны, и они заканчиваются тем, что можно было бы назвать «заморозками». Если иметь в виду вторую половину ХХ в., то она у нас ещё на памяти. «Заморозки» начались со смещения Н.С. Хрущева, хотя по инерции «оттепель» какое-то время ещё продолжалась, а потом вновь вспыхнула, когда к власти пришел М.С. Горбачев. Чем все это закончилось, Вы видите сами. Так что живем и существуем по принципу маятника. Как говорится, в России нужно жить долго. Тогда можно быть очевидцем многого. Спрашивается, это только история России такая? Нет конечно. Это можно фиксировать и в истории других народов. А вообще «оттепель» – это древнейшая традиция, возникшая, как я уже успел отметить, в античности и впервые вызванная к жизни Эпикуром. Его идея была связана не с «расчеловечиванием», которое происходит при всех жестких режимах, а с «очеловечиванием», впуском в культуру природной стихии, а эта природная стихия всегда приходит с хаосом, который пугает. Но тут ничего поделать нельзя, ведь без хаоса культурный космос не возродится. Нужно этот болезненный этап пережить. Вот это и происходит время от времени и в истории, и сегодня.
ВИ: Вопрос о мифах. Маркируя реальность символами и знаками, человек освящает, то есть мифологизирует мир и делает его доступным и прогнозируемым. Кроме того, обозначенные границы «картографируют» открытое пространство и обеспечивают человека необходимым культурно-знаковым путеводителем. Иногда представляется, что мифотворчество становится основным способом конструирования социума и его картин мира. Нельзя не признать, что с древнейших времён между людьми всегда находился знакомый и верный мифологический посредник. Это могли быть слова, жесты, символы, волшебные предметы, образы, и даже природные ландшафты. По существу, в мифах и ритуалах действительно сконцентрированы почти все ключевые сюжеты культурных трансформаций. Следовательно, такие механизмы трансформации, как «ломка традиции в рамках самой традиции» (К. Маркс) и «ритуализация социальной драмы» (В. Тернер) являются в ситуации перехода важнейшим адаптивным инструментарием культурных изменений. Спрашивается, так ли уж плохо иметь о своей стране мифы? Может ли Россия жить без мифов?
НХ: Смотря какой смысл мы вкладываем в понятие «миф». В обычной жизни мы подразумеваем под мифом что-то вроде выдумки – то, чего в жизни не существует, что придумано и к жизни не имеет отношения. Но это не то, что интересует ученого. Он-то знает, что были времена, когда кроме мифологического сознания другого способа понять мир и жизнь не было. Это только потом появится философия, наука, идеология. Вопрос о том, существует ли миф сегодня – это вопрос нашего сознания, мышления, памяти и, конечно, творчества, понимаемого в самом широком смысле. Гегель, например, считал, что мифологическое мышление безвозвратно ушло в прошлое. Да в этом был убежден уже Аристотель. Но не все так просто. Есть такая точка зрения, согласно которой во время второго цветения европейской цивилизации, а это эпоха Просвещения, успехи науки – и не только естественной, хотя в основном естественной, но и бурное развитие философии – привели к тому, что все другие сферы и формы мысли окончательно исчезли. В том числе мифологическое мышление. Гегель ведь даже прогнозировал смерть художественного мышления. Зачем? Философы ХVIII в., в соответствии с культом разума, присущим эпохе Просвещения, полагали, что логическое, научное мышление – самое эффективное, а все остальные формы являются несовершенными. А раз несовершенными, то и обреченными на исчезновение. Ведь даже А.Г. Баумгартен, основывая одну из первых гуманитарных наук – эстетику, полагал, что чувственное, то есть художественное мышление – это какая-то несовершенная форма, не достигшая того высшего уровня, которого достигла наука. С таким выводом покончил Фридрих Ницше. Он не просто реабилитировал миф. Это ещё не главное открытие Ф. Ницше, поскольку интерес к мифу пробудили оппозиционеры просветителей – романтики, в частности близкий к романтикам Фридрих Шеллинг, для которого миф – перманентная тема в его философской биографии. Но он был в этом смысле одиноким. Настоящее новаторство Ницше в понимании мифа заключается в том, что он дал ему культурологическое обоснование. Прекрасный знаток античности, филолог по своему образованию, он предложил интерпретацию античной культуры, альтернативную концепции Иоганна Винкельмана. У него миф оказывается подпочвой этой культуры. Вывод Ницше, как мы его понимаем, таков: сохранение мифа в культуре есть необходимость. Вместе со «смертью» мифа начинается «закат» античной цивилизации, как (делаем мы вывод) и каждой цивилизации. Ведь Ницше, предложившего анализ и мифа, и культуры, интересовала, как это не покажется странным, не античная, а европейская культура, которая, как её ощущал философ, входит в свой «закатный» этап. Но Ницше, естественно, не был певцом «заката» Запада. Он пытался найти выход и усматривал его во «вспышке» на Западе музыкальной стихии. А эту вспышку он видел в Людвиге ван Бетховене, Рихарде Вагнере и т. д. Из этой логики Ницше следует, что миф в его разных, в том числе художественных, музыкальных и прочих формах, есть свидетельство жизнеспособности, а не «заката» культур. Остается лишь понять, а есть ли миф в русской культуре, в том числе современной. Проблема даже не в этом, а в том, можем ли мы это доказать. Видимо, наш миф нашел себе приют в массовом утопическом сознании, в политике, в идеологии, в ментальности. Мы же наблюдаем, как какая-то стихия ломает все выстраиваемые политиками конструкции, возвращая жизнь в какую-то жесткую матрицу, задаваемую историей. Да, история, в том числе российская, несмотря на свою неожиданность, внезапность, беспрецедентность, утопизм, свидетельствует о «своем» пути, все время возвращается в какую-то общечеловеческую матрицу, невзирая на усилия конкретных и могущественных политиков этому сопротивляться. Значит, в сознании людей и в самой истории действует миф. Но поскольку это иррациональная стихия, то нам следует её в конечном счете разгадать.
ВИ: Важнейшим средством диалога культур является искусство. Живое воображение всегда есть духовная сила, формирующая полноту бытия. Искусство как вершина духовности «всегда ориентировано на красоту» (Н.А. Бердяев) и только в ней дух обретает полноту и смысл бытия, то есть совершённую целесообразность. Как отмечает А.Ф. Лосев, «человеческая культура благодаря своему созидательному характеру восстанавливает равновесие мира и снова делает его тем, чем он всегда был в своей сокровенной сущности, – добром, светом и красотой». В произведениях искусства «дух… становится видимым» (Плотин), благодаря чему достигается жизненная гармония и слияние духовного и материального, скрытого и явного, конечного и бесконечного, временного и вечного. Предметом Вашего изучения выступает искусство, особенно в формах его функционирования на этапе смены эпохальных циклов культуры. Действительно, потребность в искусстве часто усиливается на драматических поворотах истории. Искусство помогает преодолевать страх – страх одиночества, страх неопределенности, ибо оно дает человеку то, в чем он нуждается, чего ему больше всего не хватает, что его успокаивает. Как отмечает русский мыслитель Николай Иванович Надеждин, «во время наслаждения прекрасным вся природа наша действует в неразрывной своей целости, полноте». В искусстве человек избавляется от отчуждения мира. Больше того, «искусство как преодоление показывает нам благодаря опыту этого преодоления границы возможного в жизни» (В. Краус) и делает человека истинным творцом бытия, воспитывая в нем «всемирную отзывчивость» (Ф. Достоевский). В фокусе Ваших исследований всегда присутствуют различные явления художественной культуры – музыка, кинематограф, живопись, театр, символические практики, масс-медиа и, шире – зрелищные искусства, наследие, язык и творчество. В основе любого художественного процесса лежит сдвиг и преобразование культурной реальности. Вы это очень убедительно раскрываете в своей книге «Искусство в исторической динамике культуры» (2015). Действительно, преображение – ключевое понятие, позволяющее описать процесс переходности в истории человечества. Вы замечательно показываете, что акт преображения является в том числе и эстетическим действом. При этом, согласно другой Вашей работе, «Культура в эпоху социального хаоса» (2002), «искусству здесь предназначена особая роль. Оно способно предвосхитить переход и осуществлять его в эстетических формах до того, как он совершится в бытийных формах». Это очень важная онтологическая установка. Рассматриваете ли Вы искусство как инструмент умиротворения культуры или как главного нарушителя спокойствия в меняющемся обществе?
Н.А. Да, действительно, разрабатывая общие проблемы переходности в социологическом, психологическом и культурологическом аспекте, я все время держу в сознании конкретную проблематику, связанную с искусством. Для меня процессы, которые развертываются в искусстве, дают возможность обобщать процесс уже на теоретическом уровне. Но дело не только в этом. У нас ведь как принято, даже не принято, а просто так сложилось, если мы говорим «культура», то это что-то вроде синонима «искусства». Казалось бы, искусство наполняется конкретным содержанием, а культура – нечто общее, объединяющее искусство и другие сферы культуры. Но, в общем, это одно и то же. Однако я ставлю акцент не на единстве искусства и культуры, а на их сложных взаимоотношениях. Вы спрашиваете: является ли искусство инструментом умиротворения культуры или оно – главный нарушитель спокойствия? Вообще, потенциал искусства громадный. Оно может выступать неким громоотводом, позволяющим изживать общественные настроения, массовое возбуждение, нарастание конфликтности, что может привести к смуте, к пролитию крови. Переоценить в этом смысле роль искусства невозможно. Но и недооценивать его тоже нельзя. Ведь не случайно уже Аристотель обнаружил в искусстве механизм катарсиса. Да, человек – сложное существо. Никакое общество не способно реализовать тот потенциал, что человек имеет. Частично он реализует его в своей деятельности, но и она не исчерпывает всех его способностей и дарований. Личность, подобно актеру, стремится играть самые разные роли и, следовательно, выражать себя сполна. Но это ведь часто просто неосознаваемый процесс, не гарантирующий оптимальный вариант. Значит, тут необходимы какие-то способы самовыражения – в фантазии, воображении, творчестве, сопереживании с другими, в идентификации с героями каких-то произведений. Таким образом, искусство становится средством умиротворения, как Вы выражаетесь, гармонизации, успокоения. И наоборот, искусство способно лишить человека этой гармонизации, возбуждать его, призывать к каким-то акциям, подчас разрушительным, но не только. Однако это проблема, которая интересует психолога. Мы с Вами культурологи. Все эти вопросы, связанные с искусством как укротителем или возбудителем, необходимо ставить применительно к культуре. От постановки проблемы в персонологическом аспекте следует перейти к тем процессам, что развертываются в крупных коллективных сообществах. Так вот, способно ли искусство выступать разрушителем по отношению к культуре. Да, может. Тут сразу следует задать и следующий вопрос: а конструктивно ли это? Да, это может быть конструктивно. Это вообще лежит в природе искусства. Оно, конечно, часть культуры. Но ему присуща строптивость. Искусство все время выходит за пределы тех норм, без которых культура, если она сложилась и достигла высоких уровней развития, обойтись не может, поскольку всякое культурное – это прежде всего рассчитанное на всех. В ситуации, когда искусство стремится за пределы принятого в культуре, как это происходит с разными течениями в авангардном искусстве, искусство обычно предают остракизму. Масса новаций в искусстве отвергается, а власть, ориентированная на массу, вынуждена переводить отторжение искусства массой на уровень правовых установок. И что же в этом случае делать искусству? А у него другой судьбы нет. Каждый художник носит в себе мятежный дух и протест против того, что мертво и формально. Художник не выступает послушным исполнителем чьей-то воли. Иначе оно [искусство] просто перестает быть искусством. Да, если художник ощущает, что культура, которая гармонизировала сознание людей и обеспечивала стабильность общества, уже теряет естественность и становится причиной начинающегося в обществе отчуждения, то он склоняется к разрушению создавшегося положения, впуская хаос. Эта разрушительная миссия искусства, и в том числе, впускание хаоса, также конструктивна. От этой установки, определяющей природу искусства, никуда не уйти. Пусть эта ситуация для конкретных художников часто невыполнима. Но тут возникает вопрос: конструктивно ли это для культуры? Здесь у нас будет положительный ответ. Культура – не застывшая субстанция. Она тоже нуждается в обновлении и преображении, должна двигаться и развиваться. Все эти вопросы, связанные с искусством как инструментом разрушения, обостряются в ситуации переходности, когда художник просто вынужден следовать разрушительной установке. Ну а что касается созидательной функции искусства как альтернативной, то тут у него тоже немало заслуг. Первое, на что хочется обратить внимание – художник часто выступает пророком, предсказывающим то, что будет происходить в будущем. Но среди литераторов таких пророков тоже достаточно, взять того же Ф.М. Достоевского. Но дело не только в пророчестве. Искусство – это та сфера, в которой возникает рождение новой культуры. В реальности новой культуры ещё может не быть, а искусство в свойственных ему формах уже проигрывает то, что будет, что должно случиться. Ведь что такое искусство, спросил себя И. Кант (а за ним Ф. Шиллер), и сам же дал ответ: это игра. Вот в игровых формах многое возможно, и, в частности, то, что в жизни пока ещё не существует. Вот, пожалуй, так обстоит дело с многоликим искусством. Это гибкий инструмент в руках художника, который должен обладать мудростью и помнить, что главной ценностью культуры является жизнь человека.
ВИ: Трудно не заметить, что посредством художественного творчества осуществляется сдвиг от суровой реальности мира и проектируется новая, подвластная чувствам, уму и опыту действительность. По словам Н.А. Бердяева, «в творческо-художественном отношении к миру уже приоткрывается мир иной. Восприятие мира в красоте есть прорыв через уродство “мира сего” к “миру иному”». По А. Камю, «искусство – это обретшее форму требование невозможного» или попытка «придать вечности человеческое обличье». В этом сдвиге в реальности мир как бы удваивается, реализуется новое творение, и человек уподобляется Творцу. Сотворённый в художественном творчестве мир безопасен и надёжен. Он – поводырь и помощник, арена экспериментов и триумф воображения, торжество согласия и укрощение стихии, низвержение смерти и праздник жизни. «Задание творческого художественного акта – теургическое». В этом акте осуществляется «создание иного бытия, иной жизни, прорыв через “мир сей” к миру иному, от хаотически-тяжёлого и уродливого мира к свободному и прекрасному космосу» (Н.А. Бердяев). Порою, когда этот мир раскалывается в противостоянии со смертью, именно художник спасает его от уничтожения. История учит: жизнь может победить смерть, если эта жизнь опирается на красоту, явленную нам в искусстве. Что Вы думаете по поводу того, способно ли искусство преобразовать мир?
НА: На основании того, что я сказал в предыдущем ответе, можно утверждать, что да, искусство может предстать преобразователем мира. Не случайно реформаторы и преобразователи, даже религиозные, без него не обходятся. И именно поэтому оно, прежде всего, преобразователь культуры. Его роль в ситуации переходности громадна. Разрушая, искусство расчищает почву для созидания. Только в отличие от других инструментов преобразования мира оно предметом своего внимания делает человеческую душу, чем не занимаются другие преобразовательные институты в государстве. Ведь в данном случае действует не сила, не закон. Все дело в психологическом воздействии. Но мы все ещё об этом мало знаем, хотя психологи нам в этом помогают разобраться. Вот, скажем, возьмем отечественный опыт первой половины ХХ в. и, в частности, внедрение в сознание людей идеи социализма. Вспомним о том, как все виды искусства были подключены к её проведению в жизнь. Это искусство осталось, а вот социализма как не было, так и нет. И, видимо, не будет. А какая же мощная энергетическая, я бы сказал, пассионарная энергия общества была на это потрачена. Да, искусство действительно созидало новую жизнь и новое общество. Тут, конечно, важно понять: это воздействующее новое искусство переживало подъем по причине того, что этому подъему предшествовала вера людей в эту идею, которой это искусство и было обязано, и без этого не могло бы появиться. Или же, наоборот, предварительной веры не было, а само искусство и формировало, ковало эту веру. Однозначно ответить на ваш вопрос, пожалуй, невозможно. Было и то, и другое. Безусловно, вера предваряла то, что произошло в искусстве советского времени. В образе социализма принимали участие разные напластования культуры: и мифологические, и религиозные, и исторические, и социально-психологические. Потому-то государственная идеология и держалась так долго, поскольку включала в себя некоторые архетипы культуры прошлого. Все это происходило часто спонтанно, и только позднее, уже в наше время, возникает возможность все это проанализировать.
ВИ: В современном мире искусство и производные от него креативные индустрии становятся драйверами развития экономики и общества. При этом, как отмечают эксперты, всё чаще именно искусство и шире, креативные индустрии, рассматриваются «в качестве динамичной экономической силы в ряде областей, включая возрождение городов, региональное развитие, создание рабочих мест, туризм и торговлю. И это зачастую выдвигается как достаточное основание для его дальнейшего существования» (Д. Тросби). Какова, по Вашему мнению, сила и судьба искусства в эпоху информационной глобализации?
НХ: По-моему, ответ на этот вопрос требует понимания взаимоотношений между культурой и цивилизацией. Когда-то, во всяком случае до философии Жан-Жака Руссо, эти понятия были синонимами, потому что цивилизационные процессы происходили внутри культуры. И культура контролировала освоение тех явлений, что в неё входили извне. Например, природы, техники, коммуникации, информации. Взаимоотношения культуры и природы, кстати, интересный сюжет, требующий специального разъяснения. Природа – антагонист культуры, но культура не может без неё обойтись и время от времени впускает её в себя. Этот процесс получает отражение в искусстве, определяет природу художественных стилей. Интересно, например, вторжение в историю искусства романтической волны, с которой в культуру проникает природная стихия.
Но ваш вопрос касается коммуникации, информации, технологии и виртуализации. Конечно, удельный вес этих явлений в современной культуре настолько велик, а последствия расширения этих сфер настолько серьезны, что можно утверждать следующее. Культура перестает справляться с подчинением всех этих сфер и введением их в себя. Окультуривания этих сфер до конца не происходит. Пока не происходит. Но, может быть, уже и происходить не будет. Процессы настолько мощные, что образуется нечто такое, что в собственно культуру включиться уже не может. Все это существует параллельно с культурой. Это и составляет содержание цивилизации, вышедшей из подчинения культуре. Почему этот процесс происходит? И нормально ли это явление? Является ли причиной бурное развитие технологий? Да, эскалация технологий – это скорее следствие грандиозного омассовления, которое развертывается уже не в пределах отдельных культур, а всей планеты. Это глобальное омассовление как признак возникновения индустриального, то есть массового общества. Это и есть процесс глобализации. Он делает культуру в её традиционных проявлениях чем-то старомодным и архаичным. Смотрите, что делается сегодня с русским языком, в который врываются языки других народов. Старшее поколение уже плохо ориентируется не только в новых технологиях, но и в языке. Я ещё помню времена, когда пассажиры в вагонах метро держали в руках книги в бумажном виде. Всё это технологии «слизали». Я не ностальгирую, но этого нельзя не заметить. Да, традиционные ценности кажутся сегодня старомодными и как бы устаревшими. Но как быть с человеком? Не растворяется ли он в этом новом глобализационном формате омассовления? Не утрачено ли то, что когда-то в европейской культуре было вызвано гуманистами? Кризис гуманизма в начале ХХ в. уже ощущали. Тоталитарные режимы продемонстрировали, что это такое. И искусство вынесло свои оценки. Но ушли ли они в прошлое навсегда? А планетарное омассовление – не есть ли это очередной этап не только растворения, но исчезновения человека, как об этом пишет Мишель Фуко? Может быть, он и не исчезнет (будем надеяться, что мир не погибнет в ядерной войне), но получит прописку в виртуальном мире. Нас ждет фантастическое будущее, но иногда оно пугает.
ВИ: Одним из эффективных инструментов перехода к креативным опытам в культурном процессе может стать обращение к художественному проектированию, широкое использование новых технологий и конструирование эффективной медиасреды для визуальной коммуникации. По существу, речь идёт о переходе к формированию культуры (индустрии) визуализации социальной среды как системы продвижения общественно полезных практик. Важно не столько хранить культуру как таковую, сколько её генерировать. Как показывает опыт, лучше всего это получается сделать через художественные сдвиги и трансформации: арт-культурные инсталляции, сценические перформансы, визуально-предметные декорации, арт-маркетинг, медиа-проекты, виртуальное моделирование и пр. Известный писатель-фантаст Артур Кларк как-то заметил, что наука неотличима от колдовства в своих наивысших достижениях. Так же как вершины технологических инноваций почти всегда соприкасаются с искусством. Но когда инновации действительно становятся искусством?
НХ: Интересный вопрос. Отвечу кратко: не сразу. Как это не покажется странным, но это именно так. Я много внимания уделил в своей научной биографии кино и его истории. Так вот. С момента его появления в прессе все время вспыхивали дискуссии о том, что такое кино. Является ли оно искусством. Конечно, пророки находились и предрекали новому изобретению большое будущее. Они заранее, так сказать, авансом, превращали его в вид искусства. Но оно таковым ещё не было. И все же число отрицающих видеть в кино искусство превышало число его поклонников. А они пытались создать негативный его образ. В качестве иллюстрации сошлюсь на статью К.И. Чуковского о раннем кино. Спустя десятилетия, включая эту статью в свое собрание сочинений, он признался, что в реакциях первых зрителей в синематографах он ощутил то, что получило выражение в фашизме. Конечно, раннее кино не соответствовало той элитарной стихии, что спровоцировала русский Серебряный век. Хотя, например, символисты, в том числе Александр Блок и Андрей Белый, были к кино более чем благосклонны.
В ещё большей степени подобное отторжение от мира искусства происходило в сфере фотографии. Французский искусствовед, автор переведенной у нас книги о фотографии как искусстве, Андре Руйе вообще констатирует, что фотографию как художественный феномен признали лишь спустя сто лет после её возникновения в середине ХIХ в. Но на памяти нашего поколения эта логика отторжения технической новинки от системы видов искусства произошла в связи с появлением телевидения. В этих спорах принимал участие, в том числе, и я. В Государственном институте искусствознания в начале 70-х гг. прошлого века появилась группа теоретиков, которые изучали телевидение как художественный феномен. Было подготовлено несколько изданий на эту тему. Думаю, что лучше всего смысл телевидения постиг Маршалл Маклюэн. Хотя его идеи стали по-настоящему понимать только после того, как появился компьютер.
А компьютер – ещё одна загадка, которую следует разгадать. Заключая свой ответ, я бы в двух словах сформулировал, как я понимаю сегодня смысл вторжения технологий в культуру. Это осознание всегда приходит с запозданием. Я бы ещё уточнил свою мысль. Признание нового средства коммуникации и информации новым художественным феноменом, будь то фотография, кино или телевидение, совпадает с появлением очередного и нового средства. Это новое средство ещё долго не будут признавать как искусство. Получается, что предыдущее средство приобретает художественный статус в момент возникновения нового и ещё неизвестного средства. Сегодня я думаю, что вся эта цепь технических новинок, ставших основой художественного процесса ХХ в., вырастает из одного корня, который П.А. Флоренский обозначил как «органопроекция». Все эти технические изобретения есть проекция каких-то органов человеческого организма (рук, ног, мозга, нервной системы и т.д.). И еще более точно – это разные проявления того, что мы сегодня называем виртуальной реальностью. Остается только понять, в каких отношениях находятся все эти формы виртуальной реальности с культурой.
ВИ: Преобразование культуры всякий раз сопровождается выдвижением тех или иных ценностей или парадигм. Так, Федор Михайлович Достоевский отдавал предпочтение Красоте, Лев Николаевич Толстой – Добру, Иван Александрович Ильин – Любви. Чему отдаёте предпочтение Вы? Что, на Ваш взгляд, может спасти культуру в ХХI в.?
НХ: Если мы все время говорим о переходах, то понятие «преобразование» применительно к культуре не совсем точно. Это одновременно распад системы ценностей, вторжение хаоса, что имеет последствия для социума, и в то же время возникновение новых ценностей, а оно первоначально происходит в художественных формах. Можно ли утверждать, что этот процесс сопровождается созданием иных ценностей и парадигм? Новая культура приходит не в форме готовых ценностей и сформировавшихся установок. В том-то и дело: новая культура приходит неопознанной и не вся целиком. Этот разрушительный и, одновременно, созидательный процесс развертывается, я бы сказал, стихийно. Это ведь нельзя контролировать. Вмешательство людей тут минимально, если вообще о нем можно говорить. Это подобно природному процессу. Ведь мы, сохраняя марксистские стереотипы мышления, самоуверенно утверждаем, что мы – созидатели культуры: что захотим, то и получится, то есть создадим такую культуру, которую пожелаем. Мы в этом вопросе тоже революционеры. Следовательно, наше воздействие на культуру проявляется в форме так называемой «культурной революции». Это постоянное словосочетание в прессе 20-30-х гг. прошлого века. Но это самообольщение. В вопросах радикальных культурных трансформаций мы не являемся ведущим и определяющим звеном. Мы способны давать лишь интерпретацию происходящего, которая часто оказывается неадекватной реальности. В самом деле, в 1920-е гг. были убеждены в возможности строительства социалистической культуры, а в 30-е гг. уже торопились констатировать её реализацию. А на самом деле в реальности развертывалась реабилитация империи, причем византийского образца, что и подтверждало идею Бердяева о ХХ-м в. как «новом Средневековье». Вы говорите, что можно культуру спасти. В качестве альтернатив вы называете красоту, добро и любовь. Но тут закономерен вопрос: а почему культуру нужно спасать? Да, конечно, Йохан Хёйзинга очень серьезно ставит вопрос, применительно к культуре ХХ в., что она больна. Это как раз мысль на вашу мельницу. Раз больна, то её следует лечить. Но спасать необходимо не культуру, а человека, личность, гуманизм, общество. А культура в этой ситуации может выступать как средство спасения. Она ведь и предназначена для выживания человека и человечества в экстремальных ситуациях. А сколько их было в одном только ХХ в.? Но способна ли культура в современном мире с этой задачей справиться? Ведь ей противостоит уже не насилие, зло, милитаризм, техника или новая форма фашизма, а мощная безличная сила. А это и есть цивилизация, о чем мы уже с Вами начали говорить. Тут личностный аспект вины отсутствует. На ядерную кнопку может нажать кто угодно, может начать даже случайно или во время какой-нибудь фрустрации. Но дело не в конкретном человеке, которого можно объявить «стрелочником», а в том, что человечество в целом постепенно подготовило это средство глобального уничтожения самого себя. На этот прогресс работали все, и в том числе представители науки. Хотели как лучше… Противоречие заключается в том, что культура больше не контролирует цивилизационные процессы, как это она делала раньше. Разные проявления цивилизации стали выходить за её пределы и начали функционировать самостоятельно. Такое ощущение, что они способны заменить культуру. А раз так, то можно даже согласиться с Теодором Адорно, сказавшим, что культура превратилась в мусор. Ведь она не смогла предотвратить сжигание людей в газовых камерах во время Второй мировой войны. Катастрофа заключается в том, что цивилизация последовательно уничтожает все те ещё оставшиеся островки гуманизма, которые в разные эпохи мировой истории то нарождались, то подавлялись и отторгались. Последняя волна дегуманизации была спровоцирована возникновением индустриального, то есть массового общества. Она, конечно, – будет преодолена, а что будет этому способствовать – красота, добро или любовь – уже менее важно. И первое, и второе, и третье. Важно отдавать отчет о смысле происходящего.
ВИ: Благодарю Вас, Николай Андреевич!
НХ: И Вам спасибо! Интересный получился разговор. Пусть всем нам сопутствует успех, и наша жизнь преображается культурой!
Об авторах
Владимир Иванович Ионесов
Самарский государственный институт культуры
Автор, ответственный за переписку.
Email: ionesov@smrgaki.ru
доктор культурологии, кандидат исторических наук, профессор кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения
Россия, СамараНиколай Андреевич Хренов
Государственный институт искусствознания
Email: nihrenov@mail.ru
доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Сектора художественных проблем массмедиа
Россия, МоскваСписок литературы