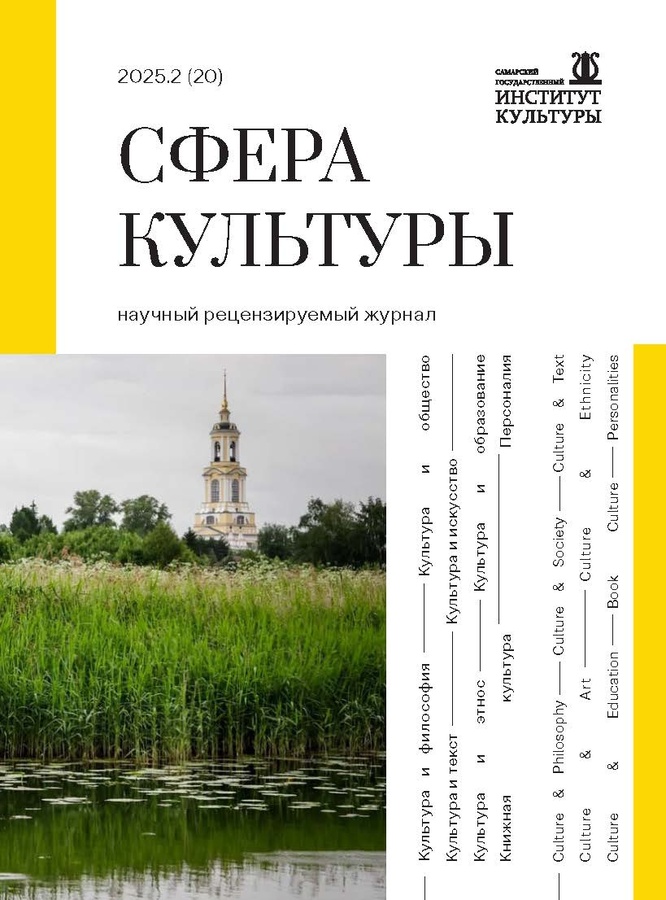Изменения аксиологических и этических оснований социокультурных институтов: факторы влияния
- Авторы: Комарова А.В.1
-
Учреждения:
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы
- Выпуск: Том 6, № 2 (2025)
- Страницы: 27-38
- Раздел: Культура и общество
- Статья опубликована: 05.07.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/686691
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2025_20_27
- ID: 686691
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Аксиологические и этические основания социума трансформируются по мере его развития, оказывая существенное влияние на историческую и культурную преемственность. В статье обоснована необходимость теоретического осмысления смыслового пространства страны с целью создания практических условий для формирования культурной идентичности отдельной личности и общества. В зависимости от уровня факторов, оказывающих влияние на аксиологические и этические основания социокультурных институтов, показано как происходят инверсии и появляются тренды, несущие разрушающие или созидательные смыслы.
Ключевые слова
Полный текст
Трансформация аксиологических и этических оснований в обществе происходила во все времена одновременно с теми или иными культурными традициями. Любая историческая эпоха, проходя смену культурных парадигм, изменяя ценностные и мировоззренческие измерения, создает новые общности и формы взаимодействия, которые, в свою очередь, могут либо разрушать, либо укреплять государственный строй и единое культурное пространство страны.
Цель нашего исследования заключается в том, чтобы выявить факторы, влияющие на изменение аксиологических и этических оснований в условиях деформации культурного пространства страны на примере социокультурных институтов.
Актуальность изучения преобразований, которые происходят с аксиологическими и этическими основаниями, связана в первую очередь с тем, что именно они побуждают к действиям и задают движение человеческому существованию в определенном направлении (разрушение или созидание), а также «играют важную когнитивную роль в распознавании системы ценностей как отдельного человека, так и социальной группы или общества в целом» [1, с. 26]. Современное общество и его социокультурные институты не являются исключением, поскольку выступают своеобразными трансляторами происходящих изменений системы ценностей человека и смыслов как на индивидуальном уровне, так и коллективном.
Прежде чем перейти непосредственно к реализации цели исследования, уточним, что мы понимаем под ценностными и этическими основаниями, и почему именно их динамика либо обеспечивает устойчивость, либо приводит к кризису и слому социокультурных институтов. Общеизвестно, что аксиология, будучи теорией ценностей, раскрывает значимость всех сторон человеческой жизнедеятельности, способствует сознательному преображению человеком самого себя и мира благодаря духовно-нравственным и творческим началам. Вопрос о поисках ценностных оснований для совместного проживания – это вопрос о понимании целей и стратегии ориентации на диалог и взаимопонимание, что во многом объясняется признанием того, что «отсутствие единых общечеловеческих ценностей влечет за собой культурную раздробленность человечества» [2, с. 121]. Но, с другой стороны, не менее убедительным звучит вопрос о том, как сохранить культурное разнообразие и достичь «единства множественного», сохраняя целостность культуры?
Этика как философская наука исследует поведение человека как индивида, члена общества и совместную жизнь людей на основе ценностей и реального морального опыта, т. е. взаимодействие субъекта и объекта, которое, по словам М.С. Кагана, создает информацию о ценностях и отражает действительность в форме оценивания [2, с. 186].
Теория ценностей как форма познания мира была известна еще в Древней Греции (Аристотель, Платон) и на Востоке (Конфуций, Сиддхартха Гаутама). Со времени И. Канта в исследовании человека стали различать теоретические и практические ценности. Но только в XIX в. ценностное бытие получило разнообразное и систематическое осмысление. Тогда же А. Шопенгауэр в своих работах сделал культуру предметом нравственной оценки. Чуть позже Г. Риккерт написал: «Во всех явлениях культуры мы всегда найдем воплощение какой-нибудь признанной человеком ценности, ради которой эти явления или созданы, или, если они уже существовали раньше, взлелеяны человеком» [3, с. 53]. В XX в. изучению ценностных оснований жизни общества посвящены работы как западных (Ж. Бодрийяр, М. Вебер, Н. Гартман, Ф. Ницше, Э. Фромм, К. Яспер, М. Шелер и др.), так и отечественных ученых (М.М. Бахтин, Г.П. Выжлецов, М.С. Каган, X.М. Казанов, А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский, А.Н. Максимов, Ю.И. Мирошников, Н.С. Розов, Л.Н. Столович, С.Л. Франк и др.).
В настоящее время в условиях сложностей межкультурных коммуникаций и «чрезвычайно динамичной культурной ситуации, демонстрирующей, с одной стороны, нарастающие тенденции к децентрации и сетевому расползанию структуры культуры, а с другой – запрос на поиск центростремительных механизмов культурной динамики, объединительную идею и достижение баланса в социокультурных процессах» [4, с. 45], существует потребность в сохранении смыслов и ценностей, в различении добра и зла, т. е. в закреплении ценностно-смыслового ядра культуры и понимании человеком своей культурной идентичности.
Проблема поиска и формирования культурной идентичности в последние тридцать лет стала краеугольным камнем культурологических исследований. От ее понимания зависит и состояние социокультурных институтов, и выбор вектора культурной политики. Вот как определяет в этом контексте культурную идентичность О.Н. Астафьева, подчеркивая значимость данного явления для самосознания себя, общества, культуры, – это «комплексный феномен, базирующийся на широком диапазоне символических, семиотических, аксиологических средств самовыражения, осознание индивидом своей принадлежности к определенному сообществу, их разделяющих» [5, с. 14].
Культурная идентичность придает жизнедеятельности людей и их социокультурным институтам качественную определенность и значимость путем формирования системы ценностей, общих интересов, удовлетворения духовных потребностей, формирует модели поведения. Отсюда следует необходимость осмысления происходящих процессов и тенденций, влияющих на изменение аксиологических и этических оснований социокультурных институтов, которые стягивают пространства социальных связей и отношений свободных людей, помогая им в поиске ответа на вопрос, какие факторы трансформируют социокультурный опыт, историческую преемственность, а также воспроизводство аксиологических и этических оснований.
Так, современное состояние информационного общества характеризуется не просто многообразием форм социокультурного развития институтов и практик, но и множественностью методов и субъектов влияния, которые используют те или иные общественные институты. Связано это, в-первую очередь, с тем, что социокультурные институты за время своего существования показали свою экзистенциальную оправданность, обладая нормативно-ценностной и информационной концепциями. Благодаря основным формам межкультурной коммуникации (аккультурация, ассимиляция, интеграция) они представляют собой структуры воспроизводства правил, норм и знания [6, с. 35-36].
Описанные нами процессы в приложении к актуальной ситуации вновь возвращают нас к поиску ответа на вопрос о факторах влияния на аксиологические и этические основания социокультурных институтов. В данном случае целесообразно, на наш взгляд, рассмотреть факторы через призму их включенности в разные социальные уровни: мега-, макро- и микро.
Под мегафакторами мы понимаем условия, которые воздействуют на международном уровне, макро – страны, микро – на уровне отдельного человека. При этом нужно понимать, что все эти факторы неразрывно связаны между собой и составляют те закономерности, которые отражаются во всем многообразии социокультурных связей и отношений, существенно влияя на воспроизводство личности и общества. Как отмечает в своих работах О.Н. Астафьева, «социокультурная ситуация рубежа ХХ–ХХI вв. особым образом высветила проблему динамики культуры, поскольку именно в этот период “наложение” внешних и внутренних факторов привело к усилению нестабильности и неустойчивости в российском обществе» [7]. Данный вывод актуализирует вопрос об осмыслении динамики культуры в контексте проблемы понимания «становящейся целостности культуры в период нестабильности структурно-формообразующих и ценностно-смысловых начал…» [7]. Более того, считает ученый, «…это первый шаг к достоверности определения вектора развития культуры, прогнозированию будущих трендов» [7] и возможность эффективно использовать потенциал культуры для воздействия на формируемые в обществе нежелательные паттерны и создание позитивных аттракторов общественного развития.
Рассмотрим подробнее каждый из факторов.
Международный фактор характеризуется в настоящее время следующими составляющими:
1) глобальный цивилизационный и ценностный кризис, ведущий к утрате человечеством традиционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов1;
2) геополитическая трансформация культурно-цивилизационных систем, в частности для России, выстраивание межкультурного диалога в формирующемся полицентричном мире;
3) доминирование глобального информационного пространства, которое «приводит к радикальным переменам во всех сферах жизнедеятельности» [8, с. 19], формирует информационное неравенство и разделяет мир на секторы (виртуальный – реальный; глобальный (унифицированный) – региональный (разнообразный); пользователей, имеющих доступ к глобальным компьютерным коммуникациям, – пользователей, исключенных из глобальных компьютерных коммуникаций) [9, с. 339].
Все это не просто усложняет процесс адаптации человека к миру, но заставляет его искать, формировать и/или пересматривать социокультурные институты, отвечающие за сохранение уникальности–идентичности и ценностных рамок бытия.
Современные мировые практики, используя научно-технологические достижения, культурную экспансию, новые смыслы, попытки универсализации и всеобщности социокультурного развития, мыслимые и внедряемые как идеал и истина, столкнувшись с реальностью, кардинально изменили представление о человеке, стране, мире. Так, по словам В.А. Рыжко, непосредственно или косвенно изменять существующий мировой порядок могут даже социокультурные практики периферийного масштаба. Для этого необходимо обладать новейшими технологиями или владеть востребованными сырьевыми ресурсами [10, с. 248].
В качестве технологии культурной экспансии можно привести «мягкую силу» – практику продвижения, искусственного вливания культуры (искусство и литература, мода и музыка, кинематограф) или языка одной нации в другую [См.: 11]. Ярким примером служит корейская культура, когда корейское правительство содействовало СМИ в пропаганде корейской культуры во всем мире [12, с. 119], поэтому «корейская волна стала распространяться в Китае и Юго-Восточной Азии в 2000-х, в Японии в 2003–2005-м, а с 2005-го перешла на Средний Восток, Восточную Европу, Латинскую Америку и Африку. Двигателем Корейской волны во время экономического кризиса 1990-х были сериалы, в 2000-х K-pop стал играть главную роль, к 2010-м годам относят третью волну, которая связана с общим увлечением корейской культурой» [13, с. 63]. В данном случае речь идет о таких сферах, как кинематограф и литература, включая комиксы, музыку, мультипликацию, дизайн и рекламу, спорт и туризм, моду и красоту, кулинарию и продукты питания и др. Обращаются исследователи и к культурной экспансии в России. Здесь они отмечают такие тенденции: корейская культура в нашей стране появилась позже западных стран, но сегодня представляет собой широкое явление и в последние годы уверенно появляется в культурном пространстве в различных проявлениях (машины, бытовая техника, телефоны, косметика и др.) [13, с. 67-68].
На этом уровне требуется, с одной стороны, удержание между различными культурными форматами и открытость к диалогу с внешним окружением, с другой – сохранение национальной культурной идентичности, ценностного ядра культуры и цивилизации [5, с. 14].
Макроуровень базируется на принципах и устойчивых основаниях актуальной модели государственной политики. Обратим внимание на культурную и образовательную составляющие, которые формируют единое социокультурное пространство страны, с учетом социокультурных процессов, происходящих в обществе на уровне культурных институтов (государственных, общественных и частных). В этом случае важно до принятия конкретных решений определить ценности и желаемый ценностно-целевой образ страны как внутри, так и вне ее [14, с. 14].
Уместно будет обратиться к позиции В.Э. Багдасаряна по этому вопросу. В своей работе он приводит следующие категории ценностей в масштабе исторического времени: вечные (значимые для человечества во все времена), мегаисторические (масштаб существования цивилизаций и народов), эпохальные (масштаб эпохи), поколенческие (масштаб поколения), конъюнктурные (масштаб текущих событий). В части аксиологических различий автор выводит следующую классификацию: универсальные, национальные, локально-групповые и индивидуальные. Два первых уровня относятся к высшим ценностям государства [14, с. 21].
Одной из основных проблем реализации ценностной жизнедеятельности на государственном уровне, по словам Л.Д. Бевзенко, является отсутствие временных ресурсов для реактуализации смысложизненных ценностей и образцов культуры в силу резко изменившихся темпов всех мировых процессов [15, с. 246]. Так называемое «бытие на разломе» [16, с. 18] привело в движение и вызвало утрату устойчивости таких базовых понятий, как традиции и обычаи, нормы и ценности.
На наш взгляд, в этих условиях проектирование будущего страны зависит от формируемой культурной идентичности и позитивных форм взаимодействия людей и их институтов с целью «обеспечения динамической устойчивости и общности социокультурного пространства» [5], несмотря на «происходящую на личностном, групповом либо общественном уровне, рецепцию совокупности норм и ценностей, стереотипов поведения и поддерживающих их институтов, присущих определенной культуре или цивилизации»2. Фактически это означает транспарентный подход к взаимодействию институтов культуры в проектировании и управлении социокультурным пространством со множеством субъектов.
Исходя из стратегических задач сохранения и актуализации аксиологических и этических оснований социокультурных институтов, обратимся подробнее к функционированию институтов культуры – государственных, общественных и частных (по их принадлежности).
Государственные институты, планируя и принимая решения по направлениям культурной политики, реализовывая стратегически важные законодательные акты3, не просто направляют социокультурный вектор государственного развития, они формируют диалоговое пространство, в котором особое место занимает сохранение и развитие культурно-ценностного базиса и включение его в современный общественный контекст.
Для решения указанной задачи может быть использован потенциал культуры. Ее возможности как самоорганизующейся системы, основанной на нормах и ценностях, регулирующих взаимодействие людей в обществе благодаря системе социокультурных институтов, безграничны. Культура обладает не только мощным интегративным потенциалом для социума, но и предоставляет всему обществу, социальным группам и человеку нормированные способы организации поведения, взаимоотношений, самоидентичности и маркирования себя, а также окружения самобытными ценностно-символическими формами [17, с. 3].
В условиях мощного давления транснационализационных процессов (в реальной и виртуальной средах) специфика и сложность деятельности государственных институтов выражается в создании условий для коммуникации и интеграции социокультурных институтов, формирующих ценностно-смысловое поле [18, с. 230] и транслирующих те нормы поведения, которые являются образцами традиционной системы культурных ценностей. То есть необходимо обратиться к «общественному идеалу», через который возможно сформировать идентичность российского общества, основанную на ценностно-смысловых основаниях, а не на «эффективности, креативности, оригинальности».
Общественные институты позволяют осуществлять взаимодействие непосредственно с гражданами. Формируя карту социокультурного пространства, они создают системы правил, норм и ценностей и представляют интересы различных общностей.
При этом необходимо разделять общественные институты на те, которые созданы и финансируются государственной властью (например, Общественная палата, общественные советы и т. п.), различными отечественными и зарубежными фондами и бизнес-структурами (Торгово-промышленная палата и т. п.), и те, которые основаны по инициативе граждан путем общественной самоорганизации (Союз писателей России, Российское культурологическое общество и т. п.).
Общественные институты, представляя собой пространственно-социокультурное образование, выступают аксиологическим основанием, значимым регулятором ценностей и норм поведения человека в частной жизни и социуме. Созидание социокультурных институтов зависит от активности человека, тогда как решение актуальных социокультурных проблем общественным институтом, как отмечает Н.А. Голубь, определяется позицией руководства и его умением выстраивать межкультурный диалог с различными социальными группами, включая молодежь [19, с. 232].
Отметим, что общественные социокультурные институты имеют возможность оказывать влияние на социум, его запросы и потребности, недооценивать их нельзя. Необходимо выстраивать с ними взаимодействие и оказывать им поддержку, но самым сложным в этой работе оказывается «отсутствие понимания границ свободы и зон ответственности» и «согласование культурных интересов разных социальных групп» [20, с. 19].
Одновременно с этим необходимо обратить внимание на новые сетевые общественные институты, которые оказывают серьезное влияние на общество и обладают мощным манипулятивным потенциалом, разрушая традиционные социокультурные пространства и создавая новые символы и ценности. Так С.В. Володенков считает, что такие институты имеют «высокий мобилизационный потенциал и вырабатывают свои собственные модели реальности в процессе внутригрупповых диалоговых коммуникаций» [21, с. 6-8]. Примерами действий таких сетевых институтов являются «цветные революции» и массовые беспорядки в целом ряде стран, включая Россию.
Частные культурные институты – объединения, взявшие на себя инициативу и ответственность за определенное культурное направление, организуются по предложению отдельных лиц [19, с. 233].
Такие институты, как и общественные, влияют на культурную жизнь и ценностно-смысловое поле общества, но в большинстве случаев носят краткосрочный характер либо создаются под реализацию конкретного проекта. Транслируемые ими нормы и правила не успевают закрепиться и стать традицией без содействия извне. Только при соответствующей поддержке такие институты могут обеспечить интеграцию между государством и обществом для реализации культурных программ, определяющих ценностно-нормативный комплекс.
Но любой институт – это не только организация, это прежде всего люди, его образующие, где на каждом уровне осуществляется процесс культурной идентификации.
Микроуровень характеризует человека как личность с его аксиологическими и этическими ценностями, охватывая все стороны жизни от профессиональной деятельности до повседневного быта. О влиянии человека и его ценностей непосредственно на культурный процесс М.Б. Туровский говорит так: «История предстаёт в аспекте человеческих свершений и формирования в их ходе не только общественных установлений, но, прежде всего, самого человека в качестве субъекта исторического процесса, каковым он… предстает лишь в меру личностного освоения исторического опыта человечества или своей родовой сущности. Этот субъектный (личностный) аспект истории и выступает как культура» [22, с. 496].
В процессе социализации человек усваивает знания и опыт, формирует собственную культурно-личностную субъективность и в течение всей жизни путем самоорганизации и самосозидания воспитывает в себе способность к совершенствованию или разрушению. Усвоенное мировоззрение и система ценностей постоянно воздействуют на личность, создавая те или иные человеческие отношения, которые в свою очередь конструируют те или иные общности (институты), и от того, какой заряд (положительный или отрицательный) несет взаимодействие человека с самим собой, себе подобными, природой, будет зависеть сохранение и развитие культуры того или иного общества и страны [23, с. 31]. То есть в данном случае индивид становится моральным субъектом и, по словам Р. Холмса, «тот самый интерес, который побуждает индивида придерживаться нормальной и упорядоченной жизни, должен побуждать его также создавать и поддерживать условия, при которых такая жизнь возможна» [24, с. 72].
Отметим, что сложность исследования факторов, влияющих на изменение аксиологических и этических оснований социокультурных институтов, связана в первую очередь с многосубъектностью и интерактивностью, трансформацией культуры в части ценностей и смыслов, а также динамикой культурных систем и институтов. Все это требует поиска новых методов и подходов к определению компонентов культуры, оказывающих не просто значительное влияние на ценностные инверсии, но и порождающих деградацию цивилизационно-культурного бытия человека с обществом.
Таким образом, аксиологические и этические основы социума – это своего рода культурный феномен, обладающий собственным генезисом, влияющий на общественное развитие и цивилизационно-ценностные традиции конкретной страны и ее граждан. Поэтому релятивизация ценностей современного общественного развития, характеризующаяся искажением ценностных и этических категорий с акцентом на негативные нормы и образцы поведения, приводит к социокультурному регрессу и так называемой «”укороченной” ответственности, ограниченной интересами своего клана, класса или группы, этноса и т. п.» [25, с. 299].
Следовательно, обращение к аксиологическим и этическим основаниям социокультурных институтов и факторам, влияющим на изменение их ценностно-смыслового поля, оправданно и необходимо. Фиксация этих изменений и их направленность позволят говорить о соответствующих ценностных тенденциях. Благодаря последним появится возможность предвидеть завтрашний ценностный облик человека, общества, страны и мира и, исходя из этого, выстраивать государственную культурно-образовательную политику и государственно-общественное взаимодействие для формирования единой аксиологической основы и единого смыслового пространства.
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809. URL: www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 04.11.2024).
2 Резолюция VI Российского культурологического конгресса [Электронный ресурс] // Офиц. сайт VI Рос. культурол. конгресса. URL: https://cultcongress6.ru/ (дата обращения: 20.11.2024).
3 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (2024), «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (2021), «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года» (2024), «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (2022) и др.
Об авторах
Анна Владимировна Комарова
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
Автор, ответственный за переписку.
Email: janeiro25@yandex.ru
кандидат философских наук, преподаватель Научно-образовательного центра «Теория и технологии управления в сфере культуры, образования и науки» Института государственной службы и управления
Россия, пр-т Вернадского, 82, Москва, 119602Список литературы
- Фатич А. Ценность идентичностей: личность как экология ценностей // Социум и власть. 2021. № 2. С. 26-35.
- Каган М.С. Философская теория ценности. Санкт-Петербург: Петрополис, 1997. 205 с.
- Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / пер. с нем. С. Гессена. Санкт-Петербург: Образование, 1911. 196 с.
- Малыгина И.В. Феномен идентичности в контексте историко-культурной динамики // Международный журнал исследований культуры. 2023. № 2. С. 44-55.
- Астафьева О.Н. Современная культурная политика и задачи укрепления общероссийской идентичности: основные тенденции и перспективы // VI Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурная идентичность в пространстве традиции и инновации»: программа, тез. докл. (г. Москва, 30 окт. – 1 нояб. 2024 г.). Москва: Ин-т Наследия, 2024. С. 14.
- Мищенко И.Е. Социокультурные институты как универсалия: к возможному решению проблемы синкретизма // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2020. Т. 22, № 71. С. 34-41.
- Астафьева О.Н. Концептуальные основания культурной политики: от теории к практике [Электронный ресурс]. URL: https://spkurdyumov.ru/art/konceptualnye-osnovaniya-kulturnoj-politiki/ (дата обращения: 05.09.2024).
- Колин К.К. Информационная культурология как синтетическая научная дисциплина для ответа на большие вызовы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2024. № 4. С. 18-27.
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. Б.Э. Верпаховский, Д.А. Тищенко, А.Н. Субочев и др. Москва: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
- Рыжко В.А. Перспективы современных практик: от опыта к практикам // Постнеклассические практики: опыт концептуализации: кол. моногр. / под общ. ред. В.И. Аршинова и О.Н. Астафьевой. Санкт-Петербург: Издат. дом «Мiръ», 2012. С. 248-259.
- Лебедева М.С. «Мягкая сила» в условиях социокультурных изменений: культурологические аспекты исследования // Культурная политика: от стратегии государства – к управленческим решениям организаций: материалы Науч.-методол. семинара «Культура и культурная политика» ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ (2020-2021 гг.). Москва: Согласие, 2022. Вып. 9. С. 104-114.
- Бураев Д.И., Гармаханов М.Ц. Корейская волна и мягкая сила. Стратегия развития и распространения // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2014. № 8. С. 115-120.
- Степанова В.С., Панченко О.Л. Корейская поп-культура в России: основные направления развития // Казанский вестник молодых учёных. 2019. Т. 3, № 3. С. 61-68.
- Багдасарян В.Э. Высшие ценности российского государства. Москва: Науч. эксперт, 2012. 622 с. (Политическая аксиология/Центр проблемного анализа и гос.-упр. проектирования).
- Бевзенко Л.Д. Постнеклассические практики: возможность концептуализации в логике габитуальных и социокультурных трансформаций // Постнеклассические практики: опыт концептуализации: кол. моногр. / под общ. ред. В.И. Аршинова и О.Н. Астафьевой. Санкт-Петербург: Издат. дом «Мiръ», 2012. С. 229-248.
- Россия в XXI веке / под ред. Л.Е. Ильичевой, В.С. Комаровского. Москва: Аспект Пресс, 2020. 520 с.
- Астафьева О.Н. Культурная политика государства: вопросы о реально существующем и потенциально возможном (начало) // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 3. С. 50-58.
- Комарова А.В. Динамика информационно-коммуникационных процессов и их влияние на социокультурные институты // Верхневолжский филологический вестник. 2024. № 3. С. 223-233.
- Голубь Н.А. Культурные институты Приднестровья в спектре этнокультурной политики республики // Обсерватория культуры. 2024. Т. 21, № 3. С. 228-237.
- Астафьева О.Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая деятельность (Лекции 1-3) // Культурологический журнал. 2010. № 2. С. 1-21.
- Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления: навстречу цифровому обществу. Москва: Проспект, 2023. 415 с.
- Сухина И.Г. Ценности как синергетические детерминанты культурно-исторического процесса: философско-антропологический аспект проблемы // Российский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6, № 6. С. 494-504.
- Зимин А.И., Царева Л.М. Становление философско-исторических взглядов на культуру // Человек и общество: история, культура, политика, экономика (Формирование самосознания и процессы идентификации в современном обществе): сб. науч. тр. / Лит. ин-т им. А.М. Горького. Москва, 2009. С. 9-94.
- Холмс Р. Мораль и общественное благо // Мораль и рациональность: [колл. моногр.] / пер. с англ. Н.Г. Кротовской, Ю.Б. Михайленко, Г.А. Новичковой и др.; Ин-т философии РАН. Москва: ИФРАН, 1995. С. 64-78.
- Воскобойников А.Э. Гуманизм и высшие ценности в проблемном кругу // Место и роль гуманизма в будущей цивилизации / отв. ред. Г.Л. Белкина; ред.-сост. М.И. Фролова; Ин-т философии РАН. Москва: URSS; Ленанд, 2014. С. 289-308.
Дополнительные файлы