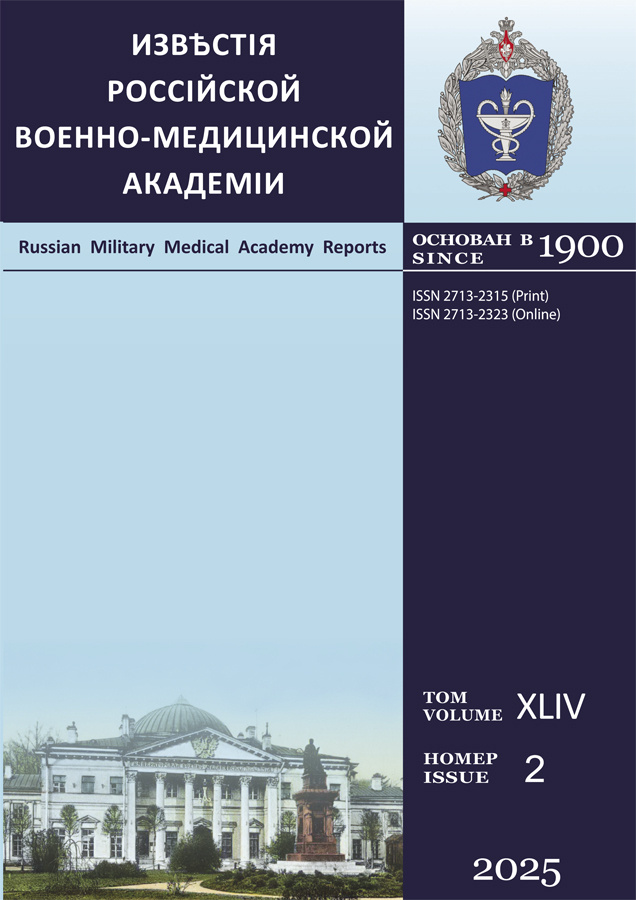Риски и механизмы развития преэклампсии
- Авторы: Рудаева Е.В.1, Мозес В.Г.2, Кашталап В.В.3, Елгина С.И.1
-
Учреждения:
- Кемеровский государственный медицинский университет
- Кемеровский государственный университет
- Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
- Выпуск: Том 44, № 2 (2025)
- Страницы: 195-205
- Раздел: Научные обзоры
- URL: https://journals.eco-vector.com/RMMArep/article/view/643152
- DOI: https://doi.org/10.17816/rmmar643152
- EDN: https://elibrary.ru/GQWUDZ
- ID: 643152
Цитировать
Аннотация
Актуальность. Преэклампсия — это специфическое осложнение беременности, связанное с высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний как у женщин, так и у их будущих детей. В настоящее время изучаются механизмы ее развития, связанные с дифференциальным метилированием цитозин-фосфат-гуанозиновых островов и изменением в экспрессии микроРНК, генетические и эпигенетические факторы, а также ряд биомолекул, участвующих в воспалении, окислительном стрессе, ангиогенезе и др. Все эти механизмы могут связывать нарушения сосудистого русла беременности при преэклампсии с патогенезом будущих сердечно-сосудистых заболеваний. В данном обзоре рассмотрены различные механизмы развития преэклампсии и изменения сердечно-сосудистой системы у беременных женщин с этим осложнением. Возможно, данные обзора представят потенциальные стратегии диагностики и лечения преэклампсии.
Цель — анализ имеющихся литературных данных о рисках и механизмах развития преэклампсии.
Обзор публикаций проведен в 2024 г. в базах eLibrary и PubMed. Использовались следующие поисковые запросы: «риски развития преэклампсии», «механизмы развития преэклампсии», «осложнения при преэклампсии», «сердечно-сосудистые заболевания как осложнение преэклампсии». Установлено, что все еще не существует единого мнения относительно истинной этиологии преэклампсии. Ее называют «болезнью теорий», вероятнее всего, это связано с тем, что основные биологические механизмы, связывающие клинические и эпидемиологические данные с дисфункцией органов при преэклампсии, пока недостаточно ясны. Несмотря на отсутствие последовательных доказательств, эксперты склоняются в пользу предположения, что преэклампсия является первичным плацентарным расстройством. В настоящее время все еще разрабатываются эффективные стратегии скрининга, диагностики, терапии и улучшения послеродового сердечно-сосудистого исхода у матери.
Заключение. Преэклампсия — это специфическое осложнение беременности с многофакторным происхождением, включающее аномальную плацентацию, эндотелиальную дисфункцию, системное воспаление и окислительный стресс. Несмотря на достижения в понимании ее патофизиологии, эффективные стратегии профилактики и лечения остаются ограниченными. Риски развития сердечно-сосудистых заболеваний при преэклампсии, вероятнее всего, связаны с существующим семейным генетическим фоном, эпигенетическими изменениями во время беременности, а также аномалиями развития плаценты.
Ключевые слова
Полный текст
АКТУАЛЬНОСТЬ
Преэклампсия — ведущее осложнение беременности, от которого, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), страдает 4–5% беременных во всем мире. Оно занимает первое место в структуре материнской и перинатальной смертности, в значительной степени способствуя декомпенсации сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у матери [1].
В настоящее время преэклампсия рассматривается с точки зрения плацентарной и материнской дисфункции. В развитии этого осложнения значительную роль играют генетические, ангиогенные, структурные и метаболические механизмы, включая ремоделирование спиральных артерий, оксигенацию плаценты, окислительно-восстановительную и иммунную толерантность матери и плода, а также баланс ангиогенных и антиангиогенных факторов. В частности, определенные антиангиогенные белки стали ключевыми патогенными медиаторами преэклампсии и их открытие предоставило возможности для разработки новых диагностических средств, таких как калькуляторы риска, модели прогнозирования и инструменты сортировки. Эти антиангиогенные белки также стали привлекательными терапевтическими мишенями. В настоящее время разрабатывается несколько стратегий их ингибирования, удаления и блокады как in vitro, так и in vivo [2, 3].
По оценкам ВОЗ, преэклампсия и эклампсия являются причиной более 50 000 материнских смертей во всем мире в год, причем частота их возникновения существенно различается по географическим регионам. В промышленно развитых странах увеличились показатели гипертензивных расстройств во время беременности, причем афроамериканские женщины подвергаются более высокому риску, чем латиноамериканские, американские индейцы, белые, азиатские и тихоокеанские женщины. В США частота гипертензивных расстройств во время беременности составляет 5,9%, по данным национального обследования при выписке из больниц, в котором отслеживалось около 39 млн родов в течение 10 лет. Это исследование также показало, что женщины с пре- или эклампсией имели в 3–25 раз выше риск таких серьезных осложнений, как преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, отек легких и аспирационная пневмония [4–6].
Продолжаются дебаты относительно гетерогенности преэклампсии, поскольку эпидемиология, клинические проявления и связанная с ними заболеваемость различаются между преэклампсией с ранним началом, «плацентарной» (возникает до 34 недели), и преэклампсией с поздним началом, «материнской» (возникающей после 34 недели). Например, преэклампсия с ранним началом связана со значительным риском задержки развития плода, в то время как заболевание с поздним началом часто связано с ожирением у матери и с новорожденными, крупными для своего гестационного возраста. Хотя клинические проявления различаются между подтипами преэклампсии с ранним и поздним началом, исследования транскрипционного профиля указывают на общую сигнатуру генов в материнской крови для обоих этих подтипов, что позволяет предположить, что механизмы повреждения сосудов матери более схожи, чем считалось ранее [1, 4].
Детерминанты преэклампсии включают семейный анамнез, генетическую предрасположенность, продолжительность «полового сожительства», курение матери, количество беременностей, возраст матери, использование экстракорпорального оплодотворения и состояние здоровья матери (наличие таких патологий, как ранее существовавшая гипертензия, врожденные и приобретенные пороки сердца, нарушение ритма сердца, диабет, хроническое заболевание почек и ожирение). Наследственность в генезе преэклампсии оценивается в 55%, с генетическим вкладом матери и плода в риск 30–35 и 20% соответственно. В крупном геномном исследовании ассоциации были получены убедительные доказательства того, что изменения вблизи fms-подобного локуса тирозинкиназы 1 (FLT1) в геноме плода человека могут быть причиной развития преэклампсии [6–8].
В настоящее время единственным окончательным методом лечения преэклампсии является родоразрешение, хотя продолжающиеся исследования новых методов лечения кажутся многообещающими. Ведение включает консультирование до зачатия, перинатальный контроль артериального давления и лечение осложнений, особенно у пациенток с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, своевременные роды и послеродовое наблюдение. Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) рекомендует консультирование до зачатия всем женщинам, у которых ранее была диагностирована преклампсия [1–3].
Рекомендации для послеродового наблюдения за женщинами с гестационной гипертензией и преэклампсией включают мониторинг артериального давления в стационаре или эквивалентное амбулаторное наблюдение в течение не менее 72 ч, а затем через 7–10 дней после родов или раньше у женщин с высокими цифрами артериального давления и женщин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всем послеродовым женщинам, а не только женщинам с преэклампсией, рекомендуется получить инструкцию по выписке, включающую информацию о признаках и симптомах этого осложнения. Исследования показывают, что послеродовые гипертензия и преэклампсия встречаются чаще, чем предполагалось ранее. Данные свидетельствуют о том, что у этой группы женщин ангиогенные профили аналогичны таковым у женщин с преэклампсией и, следовательно, могут представлять группу с субклинической или неразрешенной преэклампсией [6].
Цель исследования: анализ имеющихся литературных данных о рисках и механизмах развития преэклампсии.
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе проводился поиск литературных источников в базах eLibrary и PubMed. Использовались следующие поисковые запросы: «риски развития преэклампсии», «механизмы развития преэклампсии», «осложнения при преэклампсии», «сердечно-сосудистые заболевания как осложнение преэклампсии».
В обзор включены исследования любого дизайна, опубликованные в указанных базах за последние 10 лет. Первично была отобрана 321 работа, из которых после удаления дубликатов, тезисных публикаций и резюме статей без доступной полнотекстовой версии осталось 106.
Второй этап заключался в изучении публикаций и их исключении при несоответствии критериям исследования. Критериями включения в литературный обзор являлись работы, посвященные изучению рисков, механизмов развития преэклампсии, механизмов развития сердечно-сосудистых заболеваний у беременных с преэклампсией.
Преэклампсия — это заболевание человека, которое не встречается у других видов. Считается, что причиной этой специфичности является несопоставимо высокое соотношение мозга к массе тела человеческого плода, для которого требуется 60% обмена питательными веществами от матери в третьем триместре по сравнению с 20% у других млекопитающих.
Гипотеза ишемической плаценты
Характеристики преэкламптической плаценты изучаются уже более века. Исследование более 100 образцов биопсии плацентарного ложа у женщин с различными гипертензивными расстройствами во время беременности показало, что образцы, взятые у женщин с хронической гипертензией, имели гиперплазию и артериосклероз с разрастанием интимы и среды базальных и спиральных артерий, а также частые настенные тромбы в спиральных артериях. Эти особенности заметно отличались от тех, которые наблюдались в образцах преэкламптических и экламптических плацентарных лож, в сосудах которых были обнаружены острый фибриноидный некроз стенки сосуда и наличие пенистых клеток, что указывало на острый атероз. Инфильтрация липофагов и полная тромботическая окклюзия сосудов также часто наблюдались в преэкламптических ложах плаценты [9, 10].
Дальнейшее подтверждение гипотезы ишемической плаценты было обеспечено демонстрацией того, что при преэклампсии физиологические изменения спиральных артерий ограничиваются децидуальной оболочкой, тогда как при нормальной беременности они распространяются проксимально в миометрий. Кроме того, в серии образцов биопсии плацентарного ложа средний диаметр спиральных артерий в преэкламптических образцах составлял всего 200 мкм, в отличие от 500 мкм в сосудах плаценты при нормальной беременности. Это поверхностное вторжение в децидуальную оболочку приводит к образованию узких и недилатированных проксимальных сегментов спиральных артерий, что в конечном итоге вызывает гипоперфузию матки и увеличение скорости кровотока в межворсинчатом пространстве. Эти результаты были подтверждены исследованием, которое продемонстрировало серьезный дефект ремоделирования спиральной артерии миометрия, что было особенно распространено, когда преэклампсия сопровождалась значимой задержкой роста плода [9–11].
Молекулярные механизмы, которые опосредуют ремоделирование спиральной артерии, все еще обсуждаются. Исследования показали, что во время нормальной плацентации цитотрофобласты дифференцируются от эпителиального фенотипа до эндотелиального — это процесс, который называется «псевдоваскулогенезом» или «сосудистой мимикрией», но данная трансформация не происходит при преэклампсии. Цитотрофобласты, которые не вторгаются в спиральные артериолы матери, не могут экспрессировать маркеры эндотелиальной адгезии, такие как VE-кадгерин и интегрины α1β1 и αVβ3, которые экспрессируются нормальными вторгающимися цитотрофобластами. Эти нарушения дифференцировки цитотрофобластов в плаценте у женщин с преэклампсией позволяют предположить, что механизмы, способствующие ишемии плаценты, запускаются на очень ранних сроках беременности [12–16].
Роль HIF1α в патогенезе преэклампсии
Экспериментальные исследования метаболических профилей плаценты на протяжении всей беременности показали, что потребность в энергии в первом триместре не снижается, несмотря на относительную гипоксию. Более того, в эксплантатах ворсинок человека на 5–8 неделе низкое давление кислорода запускает пролиферацию цитотрофобластов посредством механизмов, включающих фактор транскрипции, индуцируемый гипоксией фактор 1α (E1IF1α). HIF1α и HIF2α являются продуктами общего кислородно-чувствительного пути. Они регулируют экспрессию индуцированных гипоксией генов, включая эритропоэтин, фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и синтазу оксида азота (NO). Экспрессия HIF1α в плаценте человека увеличивается в первом триместре и снижается примерно через 9 недель, когда увеличивается кровообращение и, следовательно, оксигенация плода [16, 17].
Постоянное повышенные уровни HIF1α могут указывать на плацентарный стресс и способствовать развитию преэклампсии. Как было показано, преэкламптические плаценты сверхэкспрессируют HIF1α и HIF2α и не способны подавлять их экспрессию при оксигенации. Кроме того, у беременных мышей со сверхэкспрессией HIF1α проявляются несколько признаков преэклампсии, включая повышенное артериальное давление, протеинурию, задержку внутриутробного развития, гломерулярный эндотелиоз, HELLP-синдром и повышенные уровни антиангиогенных факторов, таких как растворимый FFT1 (sFFT1), также известный как sVEGFR1, и растворимый эндоглин (sENG). Повышение уровня sFFT1, вызванное гипоксией, было продемонстрировано на моделях плацентарной гипоксии как in vitro, так и in vivo, в том числе в плаценте в начале первого триместра у женщин, живущих на большой высоте, и у женщин с преэклампсией [16].
Таким образом, HIF1α, по-видимому, является патогенным медиатором при преэклампсии. Причина постоянно повышенной экспрессии HIF в преэкламптической плаценте остается неясной, возможно, это связано с восходящим путем образования 2-метоксиэстрадиола (2-ME) с помощью катехол-O-метилтрансферазы (COMT). 2-ME представляет собой метаболит эстрадиола, количество которого увеличивается на протяжении всей беременности и дестабилизирует и, таким образом, ингибирует HIF1α. Текущие данные относительно уровней плацентарной экспрессии COMT у женщин с преэклампсией противоречивы. В некоторых небольших исследованиях сообщалось о снижении уровня СОМТ в плаценте при гипертонической беременности, тогда как в других не было обнаружено различий в экспрессии СОМТ между беременностями с гипертензией и нормотензией. Клинические исследования с использованием методов измерения циркулирующего 2-ME и других метаболитов эстрогена должны пролить свет на роль пути COMT в развитии преэклампсии [17].
При преэклампсии, по-видимому, существует дисбаланс между антиоксидантными и прооксидантными механизмами. В соответствии с этой гипотезой исследования in vitro показали повышение уровней активных форм кислорода в ткани плаценты человека после ишемии и реперфузии. Эти результаты были дополнительно подтверждены исследованием, которое продемонстрировало повышенный окислительный стресс у беременных крыс со сниженным давлением перфузии матки (модель гипертонической беременности) [16, 18, 19].
Путь гемоксигеназы как один из ключевых факторов в патогенезе преэклампсии
Путь гемоксигеназы (HO) является важным медиатором окислительного стресса. HO существует как индуцибельная изоформа (HO1), конститутивная изоформа (HO2) и изоформа с неизвестной функцией (HO3). Используя транскрипционное профилирование и иммуногистохимию, исследователи показали, что HO1 локализован в периваскулярной сократительной оболочке плацентарных сосудов человека и что его индукция ослабляет клеточное повреждение, опосредованное фактором некроза опухоли (TNF). Они также сообщили, что уровень белка HO1 был существенно снижен в преэкламптической плаценте по сравнению с плацентой нормотензивной контрольной группы. Интересно, что аденовирусная сверхэкспрессия HO1 в эндотелиальных клетках ингибировала высвобождение антиангиогенных факторов из плаценты, тогда как индукция HO1 с использованием протопорфирина кобальта в животной модели преэклампсии ослабляла гипертензию, вызванную ишемией плаценты, что предполагает роль HO1 в последующих эффектах такой ишемии на материнском эндотелии. В соответствии с этими данными мыши с нокаутом HO1 имели более низкий вес и размер помета при рождении, чем в группе контроля. Тогда как гетерозиготы HO1 имели повышенное материнское диастолическое артериальное давление и уровни sFLT1 по сравнению с беременными мышами дикого типа, несмотря на компенсаторное увеличение экспрессии HO. Эти данные подтверждают роль системы HO как важного медиатора окислительного стресса при нормальной беременности, а также ключевого фактора в патогенезе аномальной плацентации при преэклампсии [20, 21].
Стресс эндоплазматического ретикулума
Также получены данные о стрессе эндоплазматического ретикулума (ER) в плацентарной ткани, полученной от пациентов с преэклампсией. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить, является ли стресс ER результатом гипоксии плаценты или причинным фактором, играющим роль в развитии аномалий плацентации, которые возникают при преэклампсии. Сниженная экспрессия активирующего фактора транскрипции, который высоко экспрессируется в плаценте, способствует преэклампсии за счет аберрантной плацентарной экспрессии HIF и антиангиогенных факторов. Однако молекулярную природу этой дисфункции еще предстоит выяснить [21].
Иммунологические аспекты патогенеза преэклампсии
Выявление основной причины дефектной плацентации требует понимания иммунологической толерантности матери и плода. Децидуальные естественные киллеры (dNK) играют ключевую роль в ремоделировании спиральных артерий. Исследования in vivo показали, что введение dNK-клеток мышам с ослабленным иммунитетом и повышенной резистентностью маточной артерии снижает эту резистентность, что свидетельствует об улучшении плацентации. Таким образом, соответствующая активация клеток dNK необходима для процессов нормальной плацентации [22].
Другой аспект иммунитета, связанный с преэклампсией, — это главный комплекс гистосовместимости (HLA). Нормальные клетки трофобласта плода экспрессируют молекулы HLA-C, которые взаимодействуют с киллерными Ig-подобными рецепторами (KIR), экспрессируемыми на естественных киллерах материнской матки. HLA-C наследуется как от матери, так и от отца. Также определенные гаплотипы KIR, по-видимому, чаще экспрессируются при преэкламптической беременности, чем при нормальной. Это открытие предполагает, что нормальная плацентация требует аллораспознавания материнскими KIR отцовских HLA-C63 и что повышенная частота преэклампсии при первых беременностях, изменение отцовства, более короткие периоды полового сожительства и использование барьерных контрацептивов связаны с уменьшением экспозиции отцовского антигена [22, 23].
Преэклампсия характеризуется дисбалансом в профиле Т-клеток с преобладанием Т-хелперных клеток и связанных с ними цитокинов, таких как IFNγ и TNF. Этот дисбаланс, вероятно, способствует плохой плацентации и, как следствие, эндотелиальной дисфункции [22–24].
Активация комплемента связана с преэклампсией и ограничением роста плода. Lynch et al. проспективно измерили фрагмент активации комплемента Bb, маркер альтернативного пути, при беременности человека до 20 недели. Они обнаружили, что у женщин с повышенным уровнем Bb вероятность развития преэклампсии в четыре раза выше, чем у женщин с более низким уровнем. Эти данные предоставляют убедительные доказательства участия комплемента в патогенезе преэклампсии. В экспериментальных моделях преэклампсии дисбаланс ангиогенных факторов, по-видимому, предшествует активации комплемента. Предполагается, что активация комплемента особенно важна в развитии тяжелых случаев преэклампсии, таких как HELLP-синдром. Действительно, нарушение регуляции комплемента происходит при атипичном гемолитико-уремическом синдроме, тромботической микроангиопатии (ТМА) с гистологическим сходством с преэклампсией [13, 25].
Характер эндотелиальных поражений при преэклампсии
На гистологическом уровне патологические поражения при преэклампсии и эклампсии характеризуются эндотелиальными поражениями в различных слоях органов. В ходе аутопсии 317 матерей, умерших от эклампсии, были выявлены поражения головного мозга с периваскулярным отеком у 68,4% женщин, кровотечение — у 36,8%, гемосидерин — у 31,6%, тромбоз мелких сосудов — у 10,5%, паренхиматозный некроз — 15,8%, поражение печени с периваскулярным отеком и портальным некрозом у — 72,2% и медиальным некрозом печеночной артерии — у 44,4%. В этом исследовании было показано, что почечная ткань имела признаки гломерулярного эндотелиоза, аналогичные тем, о которых сообщалось в предыдущих исследованиях. Тромбоз является характерной находкой в большинстве случаев ТМА, но обычно не наблюдается при гломерулярном эндотелиозе. Однако тяжелая преэклампсия с тромбозом сосудов часто предполагает сочетание с непреэкламптическим ТМА или HELLP-синдромом [25].
Связь между протеинурической преэклампсией и эндотелиозом не совсем ясна. Электронная микроскопия преэкламптических подоцитов показывает минимальное сглаживание отростков стопы и минимальное снижение частоты фильтрационных щелей по сравнению с нормальными подоцитами. Некоторые данные свидетельствуют о том, что протеинурия может возникать только в результате нарушения эндотелия, возможно, из-за потери эндотелиального гликокаликса. Однако подоцитурия, отмеченная во время преэклампсии, также может способствовать протеинурии. Дальнейшие исследования необходимы для выяснения точных механизмов, лежащих в основе протеинурии при преэклампсии [25].
Дисбаланс циркулирующих ангиогенных факторов
Экспериментальные и эпидемиологические исследования подтверждают патологическую роль дисбаланса циркулирующих ангиогенных факторов в этиологии «материнского синдрома». Избыточный уровень антиангиогенного фактора sFLT1, который продуцируется в плаценте и попадает в кровоток матери, вызывает дисфункцию эндотелия матери, приводящую к преэкламптическим признакам и симптомам. sFLT1 представляет собой растворимый вариант сплайсинга мембраносвязанного рецептора VEGFR1, который связывается с проангиогенными белками VEGF и фактором роста плаценты (PlGF). Следовательно, sFLT1 действует как ловушка для лиганда и противодействует опосредованной лигандом ангиогенной передаче сигналов через рецепторы клеточной поверхности. У грызунов сверхэкспрессия sFLT1 вызывает симптомы преэклампсии, а у людей более высокие материнские уровни sFLT1 связаны с более тяжелыми осложнениями. Высокие соотношения sFLT1: PlGF в плазме также являются сильными предикторами тяжести заболевания и неблагоприятных клинических исходов [26, 27].
Препараты, подавляющие ангиогенную передачу сигналов, такие как препараты, нейтрализующие VEGF, бевацизумаб (Genentech: Avastin) и ловушка VEGF (Регенерон: Афлиберцепт), а также низкомолекулярные ингибиторы рецепторов VEGF связаны с основными побочными эффектами симптомов, подобных преэклампсии, включая гипертензию, протеинурию и почечные клубочковые изменения. Вместе эти данные показывают, что высокие уровни циркулирующего sFLT1 и низкие уровни циркулирующих проангиогенных факторов (VEGF и PlGF) вызывают антиангиогенное состояние, которое способствует клиническим проявлениям преэклампсиогенного фактора [26, 27].
Плацентарный sFLT1 связан с матриксом, с помощью которого он получает доступ к системному кровообращению. Однако синцитиальные фрагменты, которые выделяются в материнский кровоток, теперь идентифицированы как важный источник циркулирующего sFLT1 при преэклампсии, а также играют роль в материнской эндотелиальной дисфункции. Дальнейшие исследования по характеристике молекулярного аппарата, который контролирует образованием синцития и обеспечивает высвобождение фрагментов синцитиотрофобластов, могут пролить новый свет на самые ранние механизмы преэклампсии [28, 29].
Роль антиангиогенного белка sENG в патогенезе преэклампсии
Антиангиогенный белок sENG, который ингибирует передачу сигналов трансформирующего фактора роста-β (TGFβ), также широко изучается при преэклампсии. sENG экспрессируется на высоком уровне при преэклампсии и эклампсии. Повышенные уровни как sENG, так и sFLT1 также связаны с более тяжелыми формами преэклампсии. Неизвестно, как именно sFLT1 взаимодействует с sENG, вызывая тяжелый фенотип, однако sENG может подавлять сигнальный путь TGFβ и дополнительно ослаблять активность эндотелиальной NO-синтазы (eNOS), что приводит к снижению доступности NO и увеличению проницаемости сосудов [29–31].
Антиангиогенные факторы и агонистические аутоантитела
Гипертония, возникающая при преэклампсии, по-видимому, не опосредована ренин-ангиотензин-альдостероновой системой. Скорее эта гипертензия может быть опосредована антиангиогенными факторами и агонистическими аутоантителами, которые связываются с рецептором ангиотензина II типа (AT1-AAs). Эти аутоантитела вырабатываются у женщин с преэклампсией. Уровень AT1-AA не полностью регрессирует в послеродовом периоде и может способствовать увеличению риска ССЗ, которое наблюдается у женщин с преэклампсией в анамнезе. Было показано, что AT1-AA активируют sFLT1 у беременных и вызывают ограничение роста плода. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить временную взаимосвязь между AT1-AA и продукцией антиангиогенного фактора. Повышенная регуляция рецепторов брадикинина (B2) и гетеродимеризация рецепторов B2 с рецепторами ангиотензина II типа I (AT1s) также предположительно вносят вклад в повышенную чувствительность к ангиотензину II и гипертонию во время преэклампсии, но окончательных доказательств существования этого механизма у нас нет [31].
Сосудорасширяющий и антиоксидантный NO и эндотелин 1
Другим важным медиатором эндотелиальной дисфункции при преэклампсии является мощный сосудорасширяющий и антиоксидантный NO, который, как было показано, опосредует эффекты PlGF и VEGF in vitro. Уровни циркулирующего NO снижены у женщин с преэклампсией, тогда как восстановление биодоступного NO, по-видимому, снижает повышение sFLT1 и гипертонию. Полиморфизмы и изменения в экспрессии eNOS также участвуют в возникновении преэклампсии [30, 31].
Эндотелин 1 (ЕТ 1) является сильнодействующим сосудосуживающим средством, а гипертензия и повреждение почек, возникающие в результате блокады VEGF, опосредуются активацией системы ЕТ 124. Уровни ЕТ 1 повышены у женщин с преэклампсией. Было экспериментально показано, что продукция ЕТ 1 опосредует гипертензию, вызываемую sFLT1 и AT1-AAs. Поскольку блокаторы ЕТ 1 проникают через плаценту, передача сигналов ЕТ 1 остается менее привлекательной, чем другие потенциальные терапевтические мишени для преэклампсии [29, 30].
Нарушение функции эндотелия, о чем свидетельствует снижение вазодилатации, снижение циркулирующего NO и повышение уровня холестерина, может предшествовать беременности у женщин, у которых развивается преэклампсия. Эта гипотеза подтверждается тем фактом, что такая эндотелиальная дисфункция также присутствует у женщин с повторным невынашиванием беременности, которые имеют ССЗ или повышенный риск его возникновения в будущем, несмотря на отсутствие гипертонии и поражения органов-мишеней, которые наблюдаются при преэклампсии. Таким образом, эндотелиальная дисфункция, существовавшая до беременности, может быть связующей нитью между нарушенной плацентациеи и ССЗ [29, 31].
Ожирение и инсулинорезистентность
Обширные исследования были сосредоточены на ожирении и инсулинорезистентности при нормальной и осложненной преэклампсией беременностью. Преэклампсия связана с повышенной гиперинсулинемией, аномальным накоплением гликогена в плаценте и нарушением передачи сигналов инсулина через плаценту. Инсулинорезистентность, по-видимому, действует синергетически с ангиогенными факторами, вызывая повышенный риск преэклампсии [30, 31].
Дисбаланс ангиогенных маркеров
Ангиогенные факторы — важные биомаркеры преэклампсии. Дисбаланс этих ангиогенных маркеров является основным в патогенезе преэклампсии. В четырех независимых исследованиях было продемонстрировано, что большинство осложнений можно объяснить изменениями ангиогенных путей. Уровни PlGF, sFLT1 и sENG, а также отношения sFLT1 к PlGF и PlGF к sENG значительно различаются у женщин с преэклампсией и нормальной беременностью. Изменения уровней sENG и sFLT1 между первым и вторым триместрами были прогностическими для ранней преэклампсии, тогда как уровни в третьем триместре могли идентифицировать тех женщин, которые были в группе риска тяжелой поздней преэклампсии. Уровни ангиогенных факторов коррелируют с тяжестью заболевания. Исследования показали, что медианные уровни sFLT1 в плазме были выше у пациенток с ранним началом и тяжелым заболеванием, чем у пациенток с поздним началом и легкой формой заболевания. Изменения уровней PlGF и sFLT1 были обнаружены уже за 6–10 нед до начала клинических проявлений преэклампсии. Многие исследования подтвердили, что уровни sFLT1 и PlGF можно использовать в качестве надежного прогностического теста [31–33].
Знаковое многоцентровое клиническое исследование продемонстрировало, что соотношение sFLT1:PlGF можно использовать для исключения преэклампсии в течение недели у пациенток с подозрением на заболевание с отрицательной прогностической ценностью >99%. При ретроспективном анализе этих данных отрицательная прогностическая ценность для исключения преэклампсии, возникающей в течение 4 недель после обращения, составила ~95%. Улучшенные диагностические и прогностические возможности, обеспечиваемые уровнями ангиогенных маркеров, делают их полезными. В исследовании, в котором для диагностики и лечения использовались ангиогенные маркеры, в результате уменьшилось количество женщин, которые были ошибочно идентифицированы как группа риска по развитию преэклампсии, что привело к потенциальному снижению средних затрат на одну пациентку за счет отказа от ненужных тестов [34].
Другое исследование, в котором использовалась аналитическая модель принятия решений для моделирования 1000 беременных женщин, получающих стандартную акушерскую помощь в Великобритании, и оценки экономического эффекта от использования ангиогенных маркеров, а не стандартных диагностических тестов, показало предполагаемую экономию [35, 36].
Ангиогенные биомаркеры также полезны для дифференциации преэклампсии от других заболеваний, которые могут проявляться во время беременности схожими признаками и симптомами, такими как хроническая болезнь почек, гестационная тромбоцитопения и хроническая гипертензия, и, таким образом, могут заменить инвазивную биопсию почек в диагностических целях. Исследование, в котором приняли участие около 500 беременных женщин с синдромом волчанки и/или антифосфолипидных антител, показало, что циркулирующие уровни sENG, PlGF и особенно sFLT1 были значительно выше у тех пациенток, у которых развились тяжелые неблагоприятные исходы, включая преэклампсию с ранним началом, гибель плода и преждевременные роды [37–40].
Циркулирующие ангиогенные факторы были оценены как инструмент скрининга для прогнозирования начала преэклампсии. В крупном британском исследовании соотношение sFLT1: PlGF в плазме, измеренное в середине триместра (~28 нед), имело положительную прогностическую ценность для 32% преэклампсии в когорте неотобранных первородящих женщин (n=4099). Ангиогенные маркеры также были включены в несколько моделей прогнозирования первого триместра, в которых использовались материнские характеристики, а также биофизические и биохимические маркеры. У женщин с одноплодной беременностью был обнаружен алгоритм первого триместра, который объединил данные индекса пульсации матки, среднего артериального давления, связанного с беременностью белка плазмы A, свободного PlGF в сыворотке крови, индекса массы тела и наличия недоношенности или предыдущей преэклампсии. Частота преэклампсии с ранним началом составила 93,1% при частоте ложноположительных результатов 5%. В клиническом исследовании, в котором было отражено, что профилактика аспирином на ранних сроках беременности была высокоэффективной для предотвращения преэклампсии, использовался алгоритм, включающий биофизические и ангиогенные факторы риска для выявления пациенток с риском развития преэклампсии для включения в исследование [41–44].
Протеомные исследования
Текущие исследования изучают возможность использования протеомных исследований с использованием масс-спектрометрии и микрочипов белков, протеомики мочи и метаболомики для обнаружения и прогнозирования преэклампсии. Было обнаружено, что уровни РНК плода в десять раз выше у женщин с преэклампсией, чем у женщин с нормальной беременностью, и исследуются вместе с плацентарной РНК как полезные биомаркеры для ранней диагностики преэклампсии [45–47].
Отдаленные последствия перенесенной преэклампсии
Все больше данных указывают на повышенный риск отдаленных последствий у женщин, перенесших преэклампсию на фоне ССЗ. Американская кардиологическая ассоциация в настоящее время рекомендует регистрировать беременность как часть оценки риска ССЗ у женщин. Метаанализ, который включал почти 200 000 случаев преэклампсии, показал относительный риск гипертонии и ишемической болезни сердца. Последующий метаанализ показал трехкратное увеличение риска хронической гипертонии и двукратное увеличение риска ССЗ и инсульта у матерей, страдающих преэклампсией. В настоящее время рабочая группа ACOG рекомендует периодическую оценку артериального давления, липидов, уровня глюкозы в крови натощак и индекса массы тела у женщин с преждевременной или рецидивирующей преэклампсией в анамнезе [48–52]. Преэклампсия также связана с перинатальной кардиомиопатией. Изучение эхокардиографических данных и ангиогенных маркеров у женщин с преэклампсией показало, что дисфункция миокарда во время преэклампсии коррелирует с уровнями ангиогенных маркеров, таких как sFLT1 и sENG232 [53, 54].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя наши знания, касающиеся патогенеза преэклампсии, значительны, все еще не существует единого мнения относительно ее истинной этиологии. Как следствие, преэклампсию называют «болезнью теорий», вероятнее всего, это связано с тем, что основные биологические механизмы, связывающие клинические и эпидемиологические данные с дисфункцией органов при преэклампсии, пока недостаточно ясны. Несмотря на отсутствие последовательных доказательств, эксперты склоняются к принятию гипотезы о том, что преэклампсия является первичным плацентарным расстройством.
Преэклампсия и ССЗ имеют одни и те же факторы риска, уже существующее ССЗ является самым сильным фактором риска (хроническая гипертензия, врожденный порок сердца) для развития преэклампсии, и в настоящее время имеются многочисленные эхокардиографические данные и исследования ангиогенных маркеров, свидетельствующие о том, что сердечно-сосудистая дисфункция предшествует развитию преэклампсии на несколько недель или месяцев.
Несмотря на серьезность материнских и перинатальных последствий преэклампсии, все еще разрабатываются эффективные стратегии скрининга, диагностики, терапии и улучшения послеродового сердечно-сосудистого исхода у матери. Они станут ясны только с принятием и пониманием сердечно-сосудистой этиологии преэклампсии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией. Личный вклад каждого автора: Е.В. Рудаева — поисково-аналитическая работа, написание текста, редактирование; В.Г. Мозес — концепция и дизайн исследования, редактирование, чтение и одобрение финальной версии; В.В. Кашталап — концепция и дизайн исследования; С.И. Елгина — редактирование, чтение и одобрение финальной версии.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Этическая экспертиза. Этическая экспертиза не проводилась, так как статья носит обзорный характер.
ADDITIONAL INFO
Author contributions: All authors made substantial contributions to the conceptualization, investigation and manuscript preparation, and reviewed and approved the final version prior to publication. Personal contribution of each author: E.V. Rudaeva: investigation, writing—original draft, writing—review & editing; V.G. Mozes: conceptualization and methodology, writing—review & editing; V.V. Kashtalap: conceptualization and methodology; S.I. Elgina: writing—review & editing.
Conflict of interests: The authors have no conflicts of interest to declare.
Ethics approval: No ethics approval was required as the article represents a review.
Об авторах
Елена Владимировна Рудаева
Кемеровский государственный медицинский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: rudaevaeg1951@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6599-9906
SPIN-код: 8450-3464
кандидат медицинских наук, доцент
Россия, 650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22аВадим Гельевич Мозес
Кемеровский государственный университет
Email: vadimmozes@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3269-9018
SPIN-код: 5854-6890
доктор медицинских наук, профессор
Россия, 650000, Кемерово, улица Красная 6Василий Васильевич Кашталап
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
Email: v_kash@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3729-616X
SPIN-код: 8816-7409
медицинских наук, профессор
Россия, 650002, Кемерово, Сосновый бульвар 6Светлана Ивановна Елгина
Кемеровский государственный медицинский университет
Email: elginas.i@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6966-2681
SPIN-код: 7696-6446
доктор медицинских наук, профессор
Россия, 650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22аСписок литературы
- Bartsch E, Medcalf KE, Park AL, et al. Clinical risk factors for pre-eclampsia determined in early pregnancy: systematic review and meta-analysis of large cohort studies. BMJ. 2016;353: i1753. doi: 10.1136/bmj.i1753
- Hecht JL, Ordi J, Carrilho C, et al. The pathology of eclampsia: An autopsy series. Hypertens Pregnancy. 2017;36(3):259–268. doi: 10.1080/10641955.2017.1329430
- Leslie MS, Briggs LA. Preeclampsia and the Risk of Future Vascular Disease and Mortality: A Review. J Midwifery Womens Health. 2016;61(3): 315–324. doi: 10.1111/jmwh.12469
- Tangren JS, Powe CE, Ankers E, et al. Pregnancy Outcomes after Clinical Recovery from AKI. J Am Soc Nephrol. 2017;28(5):1566–1574. doi: 10.1681/ASN.2016070806
- Hecht JL, Zsengeller ZK, Spiel M, et al. Revisiting decidual vasculopathy. Placenta. 2016;42:37–43. doi: 10.1016/j.placenta.2016.04.006
- Goel A, Maski MR, Bajracharya S, et al. Epidemiology and Mechanisms of De Novo and Persistent Hypertension in the Postpartum Period. Circulation. 2015;132(18):1726–1733. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.015721
- Gray KJ, Saxena R, Karumanchi SA. Genetic predisposition to preeclampsia is conferred by fetal DNA variants near FLT1, a gene involved in the regulation of angiogenesis. Am J Obstet Gynecol. 2018;218(2):211–218. doi: 10.1016/j.ajog.2017.11.562
- McGinnis R, Steinthorsdottir V, Williams NO, et al. Variants in the fetal genome near FLT1 are associated with risk of preeclampsia. Nat Genet. 2017;49(8):1255–1260. doi: 10.1038/ng.3895
- Cindrova-Davies T, van Patot MT, Gardner L, et al. Energy status and HIF signalling in chorionic villi show no evidence of hypoxic stress during human early placental development. Mol Hum Reprod. 2015;21(3):296–308. doi: 10.1093/molehr/gau105
- Fu J, Zhao L, Wang L, Zhu X. Expression of markers of endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in the placenta of women with early and late onset severe pre-eclampsia. Taiwan J Obstet Gynecol. 2015;54(1):19–23. doi: 10.1016/j.tjog.2014.11.002
- Rätsep MT, Felker AM, Kay VR, et al. Uterine natural killer cells: supervisors of vasculature construction in early decidua basalis. Reproduction. 2015;149(2):R91–102. doi: 10.1530/REP-14-0271
- Girardi G. Complement activation, a threat to pregnancy. Semin Immunopathol. 2018;40(1):103–111. doi: 10.1007/s00281-017-0645-x
- Lynch AM, Murphy JR, Byers T, et al. Alternative complement pathway activation fragment Bb in early pregnancy as a predictor of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2008;198(4):385.e1–9. doi: 10.1016/j.ajog.2007.10.793
- Sones JL, Merriam AA, Seffens A, et al. Angiogenic factor imbalance precedes complement deposition in placentae of the BPH/5 model of preeclampsia. FASEB J. 2018;32(5):2574–2586. doi: 10.1096/fj.201701008R
- Vaught AJ, Braunstein EM, Jasem J, et al. Germline mutations in the alternative pathway of complement predispose to HELLP syndrome. JCI Insight. 2018;3(6): e99128. doi: 10.1172/jci.insight.99128
- Brocklebank V, Wood KM, Kavanagh D. Thrombotic Microangiopathy and the Kidney. Clin J Am Soc Nephrol. 2018;13(2):300–317. doi: 10.2215/CJN.00620117
- Szalai G, Romero R, Chaiworapongsa T, et al. Full-length human placental sFlt-1-e15a isoform induces distinct maternal phenotypes of preeclampsia in mice. PLoS One. 2015;10(4):e0119547. doi: 10.1371/journal.pone.0119547
- March MI, Geahchan C, Wenger J, et al. Circulating Angiogenic Factors and the Risk of Adverse Outcomes among Haitian Women with Preeclampsia. PLoS One. 2015;10(5):e0126815. doi: 10.1371/journal.pone.0126815
- Saleh L, Verdonk K, Visser W, et al. The emerging role of endothelin-1 in the pathogenesis of pre-eclampsia. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2016;10(5):282–293. doi: 10.1177/1753944715624853
- Quitterer U, Fu X, Pohl A, et al. Beta-Arrestin1 Prevents Preeclampsia by Downregulation of Mechanosensitive AT1-B2 Receptor Heteromers. Cell. 2019;176(1–2):318–333.e19. doi: 10.1016/j.cell.2018.10.050
- Zhang HH, Chen JC, Sheibani L, et al. Pregnancy Augments VEGF-Stimulated In Vitro Angiogenesis and Vasodilator (NO and H2S) Production in Human Uterine Artery Endothelial Cells. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(7):2382–2393. doi: 10.1210/jc.2017-00437
- Zeng Y, Li M, Chen Y, Wang S. Homocysteine, endothelin-1 and nitric oxide in patients with hypertensive disorders complicating pregnancy. Int J Clin Exp Pathol. 2015;8(11):15275–15279. PMID: 26823880
- Osol G, Ko NL, Mandalà M. Altered Endothelial Nitric Oxide Signaling as a Paradigm for Maternal Vascular Maladaptation in Preeclampsia. Curr Hypertens Rep. 2017;19(10):82. doi: 10.1007/s11906-017-0774-6
- Chisholm KM, Folkins AK. Placental and Clinical Characteristics of Term Small-for-Gestational-Age Neonates: A Case-Control Study. Pediatr Dev Pathol. 2016;19(1):37–46. doi: 10.2350/15-04-1621-OA.1
- Baltajian K, Bajracharya S, Salahuddin S, et al. Sequential plasma angiogenic factors levels in women with suspected preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2016;215(1):89.e1–89.e10. doi: 10.1016/j.ajog.2016.01.168
- Rana S, Salahuddin S, Mueller A, et al. Angiogenic biomarkers in triage and risk for preeclampsia with severe features. Pregnancy Hypertens. 2018;13:100–106. doi: 10.1016/j.preghy.2018.05.008
- Zeisler H, Llurba E, Chantraine F, et al. Predictive Value of the sFlt-1: PlGF Ratio in Women with Suspected Preeclampsia. N Engl J Med. 2016;374(1):13–22. doi: 10.1056/NEJMoa1414838
- Zeisler H, Llurba E, Chantraine FJ, et al. The sFlt-1/PlGF Ratio: ruling out preeclampsia for up to 4 weeks and the value of retesting. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2019;53(3):367–375. doi: 10.1002/uog.19178
- Leaños-Miranda A, Campos-Galicia I, Berumen-Lechuga MG, et al. Circulating Angiogenic Factors and the Risk of Preeclampsia in Systemic Lupus Erythematosus Pregnancies. J Rheumatol. 2015;42(7):1141–1149. doi: 10.3899/jrheum.141571
- Kim MY, Buyon JP, Guerra MM, et al. Angiogenic factor imbalance early in pregnancy predicts adverse outcomes in patients with lupus and antiphospholipid antibodies: results of the PROMISSE study. Am J Obstet Gynecol. 2016;214(1):108.e1–108.e14. doi: 10.1016/j.ajog.2015.09.066
- Chaiworapongsa T, Romero R, Whitten AE, et al. The use of angiogenic biomarkers in maternal blood to identify which SGA fetuses will require a preterm delivery and mothers who will develop pre-eclampsia. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;29(8):1214–1228. doi: 10.3109/14767058.2015.1048431
- Sovio U, Gaccioli F, Cook E, et al. Prediction of Preeclampsia Using the Soluble fms-Like Tyrosine Kinase 1 to Placental Growth Factor Ratio: A Prospective Cohort Study of Unselected Nulliparous Women. Hypertension. 2017;69(4):731–738. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08620
- Rolnik DL, Wright D, Poon LC, et al. Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia. N Engl J Med. 2017;377(7): 613–622. doi: 10.1056/NEJMoa1704559
- Charkiewicz K, Jasinska E, Laudanski P. Mikromacierze białkowe i tandemowa spektrometria mas w poszukiwaniu proteomicznych biomarkerów preeklampsji [Identification of proteomic biomarkers of preeclampsia using protein microarray and tandem mass spectrometry]. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2015;69:562–570. [In Polish] doi: 10.5604/17322693.1151286
- Law KP, Han TL, Tong C, Baker PN. Mass spectrometry-based proteomics for pre-eclampsia and preterm birth. Int J Mol Sci. 2015;16(5): 10952–10985. doi: 10.3390/ijms160510952
- Makris A, Yeung KR, Lim SM, et al. Placental Growth Factor Reduces Blood Pressure in a Uteroplacental Ischemia Model of Preeclampsia in Nonhuman Primates. Hypertension. 2016;67(6):1263–1272. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07286
- Spradley FT, Tan AY, Joo WS, et al. Placental Growth Factor Administration Abolishes Placental Ischemia-Induced Hypertension. Hypertension. 2016;67(4):740–747. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.06783
- Santiago-Font JA, Amaral LM, Faulkner J, et al. Serelaxin improves the pathophysiology of placental ischemia in the reduced uterine perfusion pressure rat model of preeclampsia. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2016;311(6):R1158–R1163. doi: 10.1152/ajpregu.00192.2016
- Ashar-Patel A, Kaymaz Y, Rajakumar A, et al. FLT1 and transcriptome-wide polyadenylation site (PAS) analysis in preeclampsia. Sci Rep. 2017;7(1):12139. doi: 10.1038/s41598-017-11639-6
- Turanov AA, Lo A, Hassler MR, et al. RNAi modulation of placental sFLT1 for the treatment of preeclampsia. Nat Biotechnol. 2018:10.1038/nbt.4297. doi: 10.1038/nbt.4297
- Paauw ND, Terstappen F, Ganzevoort W, et al. Sildenafil During Pregnancy: A Preclinical Meta-Analysis on Fetal Growth and Maternal Blood Pressure. Hypertension. 2017;70(5):998–1006. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09690
- Trapani A Jr, Gonçalves LF, Trapani TF, et al. Perinatal and Hemodynamic Evaluation of Sildenafil Citrate for Preeclampsia Treatment: A Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol. 2016;128(2):253–259. doi: 10.1097/AOG.0000000000001518
- Pels A, Kenny LC, Alfirevic Z, et al. STRIDER (Sildenafil TheRapy in dismal prognosis early onset fetal growth restriction): an international consortium of randomised placebo-controlled trials. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):440. doi: 10.1186/s12884-017-1594-z
- Kalafat E, Sukur YE, Abdi A, et al. Thilaganathan B, Khalil A. Metformin for prevention of hypertensive disorders of pregnancy in women with gestational diabetes or obesity: systematic review and meta-analysis of randomized trials. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;52(6):706–714. doi: 10.1002/uog.19084
- Brownfoot FC, Hastie R, Hannan NJ, et al. Metformin as a prevention and treatment for preeclampsia: effects on soluble fms-like tyrosine kinase 1 and soluble endoglin secretion and endothelial dysfunction. Am J Obstet Gynecol. 2016;214(3):356.e1–356.e15. doi: 10.1016/j.ajog.2015.12.019
- Cluver CA, Hannan N, van Papendorp E, et al. Esomeprazole to treat women with preterm preeclampsia: a randomised placebo controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2018:219(4):388.e1–388.e17. doi: 10.1016/j.ajog.2018.07.019 46
- Kaitu’u-Lino TJ, Brownfoot FC, Beard S, et al. Combining metformin and esomeprazole is additive in reducing sFlt-1 secretion and decreasing endothelial dysfunction — implications for treating preeclampsia. PLoS One. 2018;13(2): e0188845. doi: 10.1371/journal.pone.0188845
- Thadhani R, Hagmann H, Schaarschmidt W, et al. Removal of Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase-1 by Dextran Sulfate Apheresis in Preeclampsia. J Am Soc Nephrol. 2016;27(3):903–913. doi: 10.1681/ASN.2015020157
- Haddad B, Winer N, Chitrit Y, et al. Enoxaparin and Aspirin Compared With Aspirin Alone to Prevent Placenta-Mediated Pregnancy Complications: A Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol. 2016;128(5):1053–1063. doi: 10.1097/AOG.0000000000001673
- Roberge S, Bujold E, Nicolaides KH. Aspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia: systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2018;218(3):287–293.e1. doi: 10.1016/j.ajog.2017.11.561
- Covarrubias AE, Lecarpentier E, Lo A, et al. AP39, a Modulator of Mitochondrial Bioenergetics, Reduces Antiangiogenic Response and Oxidative Stress in Hypoxia-Exposed Trophoblasts: Relevance for Preeclampsia Pathogenesis. Am J Pathol. 2019;189(1):104–114. doi: 10.1016/j.ajpath.2018.09.007
- Vaka VR, McMaster KM, Cunningham MW Jr, et al. Role of Mitochondrial Dysfunction and Reactive Oxygen Species in Mediating Hypertension in the Reduced Uterine Perfusion Pressure Rat Model of Preeclampsia. Hypertension. 2018;72(3):703–711. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11290
- Shahul S, Medvedofsky D, Wenger JB, et al. Circulating Antiangiogenic Factors and Myocardial Dysfunction in Hypertensive Disorders of Pregnancy. Hypertension. 2016;67(6):1273–1280. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07252
- Tangren JS, Powe CE, Ankers E, et al. Pregnancy Outcomes after Clinical Recovery from AKI. J Am Soc Nephrol. 2017;28(5):1566–1574. doi: 10.1681/ASN.2016070806.
Дополнительные файлы