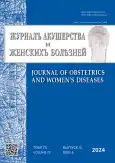Morphokinetic characteristics of preimplantation development of human donor embryos
- Authors: Ishchuk M.A.1, Komarova E.M.2, Lesik E.A.3, Sagurova Y.M.1, Zhiliaeva V.Y.1, Ob’edkova K.V.2, Gzgzyan A.M.1, Tapilskaya N.I.2, Bespalova O.N.1
-
Affiliations:
- The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott
- The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D. O. Ott
- The Research Institute of Obstetrics, Gynecology, and Reproductology named after D.O. Ott
- Issue: Vol 73, No 6 (2024)
- Pages: 67-78
- Section: Original study articles
- Submitted: 09.08.2024
- Accepted: 25.10.2024
- Published: 06.12.2024
- URL: https://journals.eco-vector.com/jowd/article/view/635008
- DOI: https://doi.org/10.17816/JOWD635008
- ID: 635008
Cite item
Abstract
Background: The introduction of time-lapse incubators into assisted reproductive technology practices provides a detailed examination of human pre-implantation embryo development. The continuous time-lapse filming technology is used to determine prognostic markers of embryo viability and implantation potential based on morphokinetic parameters. At present, the main time intervals for morphokinetic events during the pre-implantation phase of human embryo development have been documented primarily in embryos from infertile patients, with limited data available concerning the development of donor embryos. In this regard, it becomes relevant to follow the early development of such embryos and describe the embryonic development timeline using time-lapse technology.
Aim: The aim of this study was to determine the time intervals of critical events in the pre-implantation development of human donor embryos.
Materials and methods: The material for the study was 18 donor embryos obtained after fertilization of donor oocytes with donor sperm. The embryos were cultured for 140 hours in an EmbryoVisor time-lapse incubator (Westtrade Ltd., Russia).
Results: The video image analysis of diploid donor embryo development showed that the disappearance of both pronuclei occurred at 22.2 (21.0–25.4) hours post fertilization, the 2-cell embryo stage was observed at 24.5 (23.4–27.3) hours post fertilization, the 4-cell embryo stage at 35.9 (34.6–38.6) hours post fertilization, and the 8-cell embryo stage at 52.8 (49.0–58.8) hours post fertilization. Morula formation occurred at 86.0 (76.9–95.4) hours post fertilization, and complete blastocyst formation was recorded at 107.0 (99.1–114.3) hours post fertilization. Triploid embryos tended to have a delay in the cleavage stage and a shorter compaction phase, yet generally developed within similar timeframes as diploid embryos.
Conclusions: The analysis of video recordings obtained after culturing donor embryos in the time-lapse incubator allows for comparing the morphokinetic parameters of pre-implantation development of the donor embryos, taking into account their ploidy. The checkpoints in the development of pre-implantation embryos from the zygote stage to blastocyst formation are characterized. A tendency is noted for earlier disappearance of pronuclei, a delay at the cleavage stage from four to eight cells, and a shorter compaction stage in the donor embryos with impaired ploidy. Various anomalies in the development of such embryos are also described. Special attention should be paid, perhaps, to embryos that do not fit into the established development intervals, exhibit anomalies such as reverse cleavage, direct division from one to three cells, and excessive fragmentation, or stop developing at one point or another, since this may indicate anomalies in the embryo’s genome such as, for example, aneuploidy. Timely identification of these deviations may lead to the exclusion of embryos with morphokinetic abnormalities from transfer, thereby favoring the selection of normally developing embryos to enhance implantation success and promote ongoing pregnancies. An increase in the sample of donor embryos under study, information on their genetic status and the clinical results of pregnancy after embryo transfer, and further accumulation of data will augment the ability to predict embryo implantation potential without the use of invasive methods.
Full Text
Обоснование
С появлением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) для выбора эмбриона с наибольшим имплантационным потенциалом для переноса в полость матки традиционно проводили морфологическую оценку. Высокая корреляция между морфологическими параметрами эмбрионов и клиническими исходами позволила оценке морфологии стать «золотым стандартом» для выбора наиболее перспективного эмбриона. Несмотря на это частота наступления беременности при использовании ВРТ в среднем достигает 30–40 %. Исследователи разрабатывают дополнительные методы оценки эмбрионов, позволяющие повысить эффективность лечения бесплодия. Так, например, внедрение в клиническую практику инкубаторов, оснащенных системой непрерывной покадровой съемки (time-lapse), позволило детально описать доимплантационный период развития эмбриона человека. Систему time-lapse в ВРТ впервые описали D. Payne и соавт. [1]. Они сообщили о морфокинетических событиях на ранних стадиях развития эмбриона, таких как выделение второго полярного тела, формирование пронуклеусов (материнского и отцовского) и клеточное деление. На сегодняшний день технологию непрерывной покадровой съемки используют для определения прогностических маркеров жизнеспособности и имплантационного потенциала эмбриона на основе морфокинетических параметров. Временные интервалы эмбриогенеза, сильно отклоненные от рассчитанных средних значений, свидетельствуют о снижении его имплантационной способности и повышении вероятности его анеуплоидии. Последующий анализ динамики развития осуществляет человек, в том числе с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Стоит отметить, что нередко ИИ отбирает для переноса эмбрион с неочевидными для традиционной оценки преимуществами.
В отличие от стандартных однократных ежедневных наблюдений, технологии time-lapse позволяют рассмотреть особенности дробления, обнаружить кратковременные, но значительные изменения в развитии, определить точные сроки и временные интервалы эмбриогенеза. Еще одним их преимуществом перед традиционным культивированием эмбрионов и оценкой с помощью микроскопа является более стабильные условия, а именно постоянные температура, концентрации газов и pH, что снижает внешнее негативное воздействие [2].
Клиническая эффективность систем time-lapse до сих пор остается спорной. Согласно данным метаанализа time-lapse связана со значительно более высокими показателями частоты наступления беременности, живорождения и значительно более низкой частотой потерей беременности, чем культивирование в традиционном инкубаторе и выбор эмбриона для переноса в полость матки по морфологическим параметрам [3]. В то же время исследователи в Кокрейновском обзоре пришли к выводу о недостаточности доказательств в пользу более высокой частоты живорождений при использовании системы time-lapse и выбора эмбрионов с помощью ИИ [4].
На данный момент основные временные интервалы для морфокинетических изменений в доимплантационный период развития человеческого эмбриона описаны преимущественно на эмбрионах пациентов с бесплодием, в то время как существуют немногочисленные литературные данные по развитию эмбрионов доноров половых клеток.
Цель — проследить развитие донорских эмбрионов и описать временные интервалы наступления основных событий их раннего эмбриогенеза при помощи технологий непрерывной покадровой съемки для получения «эталонных» значений.
Материалы и методы
Материалом для исследования были 18 донорских эмбрионов, полученных после оплодотворения донорского ооцита донорской спермой. Эмбрионы культивировали в течение 140 ч в инкубаторе, оснащенном системой непрерывной покадровой съемки, ЭмбриоВизор (ООО «Весттрэйд ЛТД», Россия).
Характеристика доноров спермы
Донорами спермы (n = 15) были здоровые мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Их обследовали в соответствии с Приказом Минздрава России № 803н от 2021 г. «О порядке использования ВРТ, противопоказаниях и ограничениях к их применению». Параметры нативного эякулята доноров спермы: объем 2 мл и более, концентрация сперматозоидов 60 млн/мл и более, прогрессивно-подвижных сперматозоидов 60 % и более, морфологически-нормальных сперматозоидов 10 % и более, результаты теста на криотолерантность — более 50 %.
Описание доноров ооцитов
Донорами ооцитов (n = 14) были здоровые женщины в возрасте от 18 до 35 лет с индексом массы тела менее 30 кг/м2 с наличием как минимум одного здорового ребенка. Обследование здоровья доноров ооцитов выполнено в соответствии с Приказом Минздрава России № 803н от 2021 г. «О порядке использования ВРТ, противопоказаниях и ограничениях к их применению». Для стимуляции яичников доноров ооцитов использована стандартная программа, включающая короткий протокол с антагонистами гонадотропин-рилизинг-гормона. Доза гонадотропинов не превышала 150 МЕ/сут. Ооцит-кумулюсные комплексы получали путем трансвагинальной пункции фолликулов через 36 ч после введения триггера овуляции.
Оплодотворение
Криоконсервированный эякулят доноров извлекали из жидкого азота и размораживали виалу с эякулятом под проточной водой в течение 5 мин. Эякулят готовили к оплодотворению последовательно: сначала с помощью метода центрифугирования в градиенте плотностей силиконовых частиц 80 : 40 (SpermGrad, Vitrolife), далее методом флотации.
Часть эмбрионов получена из ооцитов, оплодотворенных классическим методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), путем добавления подготовленной суспензии сперматозоидов в концентрации 150 млн/мл в каплю среды 500 мкл, содержащую до 5 ооцит-кумулюсных комплексов.
Другая часть эмбрионов получена из размороженных ооцитов, оплодотворенных методом внутрицитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит (ICSI). Витрифицированные ооциты разморожены за 2 ч до инъекции с помощью растворов для размораживания ооцитов и эмбрионов согласно инструкции фирмы-производителя (Kitazato, Япония). ICSI выполнено с помощью микроманипуляционного оборудования (Narishigae, Япония) и инвертированного микроскопа (Leica, Германия).
Культивирование эмбрионов в инкубаторе с системой непрерывной покадровой съемки
В случае ЭКО ооциты денудировали от кумулюса через 17–18 ч после процедуры. Полученные двупронуклеарные зиготы помещали в индивидуальные капли в лунки чашек EmbryoSlide (Vitrolife, Швеция) для дальнейшего культивирования. В случае ICSI ооциты сразу после инъекции помещали в культуральные чашки в инкубатор с покадровой видеосъемкой. Эмбрионы культивировали в мультигазовом инкубаторе, оснащенном системой непрерывной покадровой съемки, в среде G-TL (Vitrolife, Швеция), покрытой маслом Ovoil (Vitrolife, Швеция) при температуре 37 ℃, в присутствии газовой смеси, содержащей 5 % кислорода, 6 % диоксида углерода.
После культивирования по фото- и видеоматериалам оценивали морфокинетические параметры донорских эмбрионов в течение всего цикла развития от зиготы до бластоцисты. Инкубатор с time-lapse автоматически записывает изображения в одиннадцати фокусных плоскостях каждые 10 мин. В циклах t = 0 определяли как время инъекции последнего ооцита. Аннотацию выполняли два обученных специалиста в соответствии с опубликованными консенсусными определениями и рекомендациями [5]. Выделены и рассмотрены следующие основные события после оплодотворения:
- время исчезновения обоих пронуклеусов (tPNf);
- время образования 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8- и 9-клеточного эмбриона (t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8 и t9);
- время начала компактизации (tSc);
- время образования компактной морулы (tM);
- время начала бластуляции (tSB);
- время формирования полной бластоцисты (tB);
- время формирования экспандированной бластоцисты (tEB);
- время начала хетчинга (tН).
Дополнительно подсчитаны эмбриональные клеточные циклы, в результате которых эмбрион достигает четырех клеток из двух (EEC2, cc2b, t4 − t2) и восьми клеток из четырех (EEC3, cc3d, t8 − t4) (рис. 1).
Рис. 1. Анализируемые морфокинетические параметры развития донорских эмбрионов в инкубаторе с технологией time-lapse и собственными фотоизображениями. t0–9 — время образования эмбриона, цифрой обозначено количество клеток в нем; tPNf — время исчезновения обоих пронуклеусов; tM — время образования компактной морулы; tSB — время начала бластуляции; tB — время формирования полной бластоцисты; tEB — время формирования экспандированной бластоцисты; EEC2, cc2b — клеточный цикл, в результате которого эмбрион достигает четырех клеток из двух; EEC3, cc3b — клеточный цикл, в результате которого эмбрион достигает восьми клеток из четырех
Fig. 1. Morphokinetic parameters of donor embryo development in an incubator with time-lapse technology with own photo images. t0–9, time of embryo formation, the number indicates the number of cells; tPNf, time from insemination to the pronuclear fading; tM, compact morula formation; tSB, the start of a cavity forming; tB, when the blastocoel cavity is filled up and the embryo starts to expand; tEB, when the blastocyst is expanded and the zona pellucida is thin; EEC2, cc2b, cell cycle, as a result of which the embryo reaches four cells from two; EEC3, cc3b, cell cycle, as a result of which the embryo reaches eight cells from four
В результате все эмбрионы прошли развитие от зиготы до бластоцисты, качество бластоцист описано согласно общепринятой классификации Гарднера [6] на 5-й день развития перед криоконсервацией. Полученные от диплоидных зигот эмбрионы витрифицированы.
Результаты
Проанализированы видеоизображения развития 18 донорских эмбрионов. Из них 15 эмбрионов развивались из двупронуклеарных зигот с нормальным оплодотворением (2PN2PB) и 3 эмбриона были с аномальным оплодотворением (3PN2PB, 3PN1PB, 0PN2PB) (рис. 2). Для всех эмбрионов описаны tPNf, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, tSc, tM, tEB, tB, tH, cc2b, cc3d, рассчитанные в часах после оплодотворения (чпо) и представленные в виде медианы и 95 % оверительного интервала. Усредненные данные развития 15 донорских эмбрионов с нормальным оплодотворением (от зиготы до бластоцисты) станут основой для создания так называемой модели «эталонного» эмбриона.
Рис. 2. Аномально оплодотворенные зиготы (a — 3 пронуклеуса; b — 3 пронуклеуса; c — 0 пронуклеусов) и образовавшиеся из них на 5-й день развития бластоцисты (d — 3BC; e — 3AB; f — 4AB)
Fig. 2. Abnormally fertilized zygotes (a, 3 pronuclei; b, 3 pronuclei; c, without pronuclei) and blastocysts formed on day 5 of development (d, 3BC; e, 3AB; f, 4AB)
Для эмбрионов с нормальной плоидностью (№ 1–15) исчезновение обоих пронуклеусов (tPNf) происходило в 22,2 (21–25,4) чпо, образование 2-клеточного эмбриона (t2) — в 24,5 (23,4–27,3) чпо, 3-клеточного (t3) — в 34,0 (33,7–36,8) чпо, 4-клеточного (t4) — в 35,9 (34,6–38,6) чпо, 5-клеточного (t5) — в 47,9 (44,7–50,6) чпо, 6-клеточного (t6) — в 50,2 (46,7–52,5) чпо, 7-клеточного (t7) — в 52,2 (48,2–56,5) чпо, 8-клеточного (t8) — в 52,8 (49–58,8) чпо, 9-клеточного (t9) — в 62,8 (59,5–69,2) чпо. Время начала компактизации эмбрионов (tSc) составило 76,0 (70–87,3) чпо, образования морулы (tM) — 86,0 (76,9–95,4) чпо, начала бластуляции (tSB) — 92,4 (89,2–102,8) чпо, образования полной бластоцисты (tB) — 107,0 (99,1–114,3) чпо. Клеточный цикл, при котором эмбрион достигает четырех клеток из двух, составил 11,5 (11–11,8) ч, а восьми клеток из четырех — 16,9 (13,3–18) ч. Качество сформированных бластоцист на момент криоконсервации было не менее 3ВВ, среди них было 30 % (5 из 15) бластоцист, начавших вылупляться в промежутке времени от 117,7 до 129,8 чпо (таблица).
Таблица. Морфокинетические параметры развития донорских эмбрионов
Table. Morphokinetic parameters of donor embryo development
Параметр | Эмбрионы с нормальным оплодотворением, диплоидные | Эмбрионы с аномальным оплодотворением | ||||||||||||||||
триплоидные | без пронуклеусов | |||||||||||||||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
tPNf | 21,8 | 19 | 26,3 | 21,2 | 19,7 | 20,8 | 22,2 | 21 | 23,5 | 21,3 | 26 | 24,1 | 23,4 | 25,4 | 29,9 | 19,7 | 19,5 | N/A |
t2 | 24,5 | 21,7 | 28,8 | 24 | 22 | 23,8 | 24,4 | 23,2 | 26,4 | 23,4 | 28,1 | 25,4 | 25,4 | 27,3 | 32,2 | 22,2 | 22 | 20,8 |
t3 | 26 | 31,7 | 34 | 33,7 | 33,8 | 33,9 | 35,7 | 32,9 | 35,5 | 33,8 | 38,3 | 36,8 | 36,6 | 38,3 | 43,4 | 32,5 | 23,5 | 29,3 |
t4 | 36,2 | 33 | 40,5 | 35,8 | 34,8 | 34,5 | 35,9 | 33,6 | 35,9 | 34,6 | 39,1 | 37,3 | 37,3 | 38,6 | 44 | N/A | 32,7 | 31,2 |
t5 | 36,3 | 44,7 | 43,5 | 45,7 | 49,3 | 56,2 | 52,3 | 43,9 | 47 | 46,7 | 50,4 | 48,1 | 47,9 | 50,6 | 60,5 | 46,3 | 32,8 | 39,5 |
t6 | 50,2 | 44,8 | 55,2 | 46,7 | 51,8 | 56,4 | 52,5 | 44,5 | 47,5 | 46,7 | 51,4 | 50,1 | 48,2 | 50,6 | 60,7 | 46,8 | 47,5 | 40,2 |
t7 | 53,2 | 45,3 | 57 | 48,3 | 56,5 | 57,3 | 55,5 | 46,4 | 48,2 | 47,2 | 52,2 | 50,4 | 49,2 | 53,4 | 61,4 | 68,8 | 74,2 | 43,5 |
t8 | 54,2 | 46,5 | 57,8 | 49 | 73,3 | 58,8 | 61 | 48 | 49,2 | 47,7 | 52,8 | 50,6 | 49,9 | 54,7 | 61,9 | 70,3 | N/A | 44,3 |
t9 | 54,3 | 62,8 | 59,5 | 50 | 73,3 | 79,2 | 69,2 | 59,8 | 61 | 61,8 | 65 | 59,3 | 65 | 64,7 | 79,9 | 71 | N/A | 54,8 |
tSc | 90 | 71,2 | 83,3 | 66,5 | 97,3 | 87,3 | 76 | 68,2 | 68,9 | 71 | 70,8 | 70 | 77,5 | 82,5 | 87,3 | 80,5 | N/A | 68 |
tM | 99,8 | 86,5 | 96,3 | 86 | 100 | 95,4 | 84,5 | 76,9 | 82 | 75,7 | 75,2 | 75,9 | 81,9 | 91,9 | 94 | 88,5 | 86,7 | 83 |
tSB | 102,2 | 91,3 | 98 | 90,3 | 102,8 | 105,2 | 96,8 | 89,7 | 87,8 | 86,2 | 87,5 | 89,2 | 92,4 | 108,9 | 103,3 | 95 | 97,2 | 86 |
tB | 126 | 106 | 112,2 | 107 | 117,2 | 114,3 | 107,6 | 99,1 | 97,5 | 97,1 | 98,7 | 104 | 107 | 117 | 112 | 104 | 110,7 | 103,3 |
tEB | 133,8 | 112,2 | 121,2 | 115,5 | N/A | 125,4 | 123,1 | 117 | 113,1 | 113,5 | 117 | 119,1 | 115,6 | 122,1 | 121,8 | 115,3 | 115,8 | 113,5 |
tH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 129,8 | N/A | N/A | 117,7 | 119,1 | 118,6 | 120,2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Качество бластоцисты | 4ВВ | 4АВ | 4АА | 3ВВ | 3АВ | 5АА | 4ВВ | 4АА | 5АА | 5АА | 5АА | 5АА | 4АА | 4АА | 4АА | 3ВС | 3АВ | 4АВ |
cc2b | 11,7 | 11,3 | 11,7 | 11,8 | 12,8 | 10,7 | 11,5 | 10,4 | 9,5 | 11,2 | 11 | 11,9 | 11,9 | 11,3 | 11,8 | N/A | 10,7 | 10,3 |
cc3d | 18 | 13,5 | 17,3 | 13,2 | 38,5 | 24,3 | 25,1 | 14,4 | 13,3 | 13,1 | 13,7 | 13,3 | 12,6 | 16,1 | 17,9 | N/A | N/A | 13,2 |
Примечание. Данные указаны в часах после оплодотворения, качество бластоцисты указано на момент криоконсервации согласно классификации Гарднера [6]. N/A — not applicable (не определено). t0–9 — время образования эмбриона, цифрой обозначено количество клеток в нем; tPNf — время исчезновения обоих пронуклеусов; tM — время образования компактной морулы; tSB — время начала бластуляции; tB — время формирования полной бластоцисты; tEB — время формирования экспандированной бластоцисты; cc2b — клеточный цикл, в результате которого эмбрион достигает четырех клеток из двух; cc3b — клеточный цикл, в результате которого эмбрион достигает восьми клеток из четырех
Проанализировано развитие эмбрионов, сформировавшихся из триплоидных зигот (n = 2). В результате исчезновение пронуклеусов (tPNf) происходило в 19,5–19,7 чпо, образование 2-клеточного эмбриона (t2) — в 22–22,2 чпо, 4-клеточного (t4) — в 32,7 чпо, 8-клеточного (t8) — в 70,3 чпо. Время образования морулы (tM) составило 86,7–88,5 чпо, время начала бластуляции (tSB) — 95–97,2 чпо, время образования полной бластоцисты (tB) — 104–110,7 чпо (таблица).
Эмбрион № 16 успешно развивался от зиготы до бластоцисты (качество 3ВС), на каждом этапе опережая развитие большинства диплоидных эмбрионов. При этом фрагментация отсутствовала или была минимальна, не отмечено аномалий развития. Эмбрион № 17 также преуспел в развитии, пройдя все этапы: дробление, компактизацию и бластуляцию (качество 3АВ). Однако у него отмечены аномалии развития: нарушение цитокинеза в ходе делений дробления на стадиях t3 и t5, обратное дробление на стадии t7, наличие фрагментации более 25 % со стадии дробления. Эмбрион № 18 без визуализированных пронуклеусов (0PN) на стадии зиготы опережал по скорости развития диплоидные эмбрионы на этапе дробления. В начале 3-х суток развития вступил в раннюю компактизацию (tSc = 68 чпо), но к моменту бластуляции данный эмбрион сравнялся по скорости развития с диплоидными и сформировал полную бластоцисту в начале 5-х суток развития (tB = 103,3 чпо) (таблица). Качество бластоцисты перед криоконсервацией — 4АВ, аномалий развития не отмечено.
По полученным морфокинетическим характеристикам построен график развития донорских эмбрионов с нормальной плоидностью (2PN) и триплоидных (3PN). Развитие эмбрионов от момента оплодотворения до формирования полной бластоциcты разделено на интервалы: период зиготы (t0–t2), дробление до стадии 4 клеток (t2–t4), дробление до стадии 8 клеток (t4–t8), компактизация (tSc–tM), бластуляция (tSB–tB). В настоящий момент размер выборки не позволяет сравнить две популяции эмбрионов. Однако отмечены сходные показатели: динамика развития у диплоидных и триплоидных эмбрионов на стадии зиготы и до стадии 4 клеток, а далее тенденция к задержке триплоидных эмбрионов на стадии дробления от 4 до 8 клеток и более короткая стадия компактизации. Вместе с тем формирование полной бластоцисты занимает сопоставимые интервалы времени у всех донорских эмбрионов вне зависимости от их плоидности.
Обсуждение
Традиционные методы наблюдения за развитием эмбриона не всегда эффективны в оценке его качества в отличие от современной технологии непрерывной покадровой съемки time-lapse, позволяющей проследить развитие от начала образования второго полярного тельца до начала вылупления бластоцисты в стабильных условиях культивирования. Такая функция, встроенная в инкубатор для культивирования эмбрионов, дает возможность лучше проанализировать морфокинетические параметры развития. Благодаря непрерывной покадровой съемке полученные видеоизображения отражают ключевые события, а также возможные аномалии развития и помогают сформировать мнение об имплантационном потенциале для каждого конкретного эмбриона.
Чтобы верно оценить успешность развития эмбрионов пациентов с бесплодием разной этиологии, необходимо получить представление о нормальных морфокинетических параметрах развития «эталонного» эмбриона. Анализ развития донорских эмбрионов, полученных в результате оплодотворения донорских ооцитов донорской спермой от людей с доказанной фертильностью, удовлетворяющих критериям для доноров, описанным в приказе Минздрава России от 31.07.2020 № 803н, лежит в основе создания такой модели. Безусловно, такие эмбрионы должны быть не только получены от оплодотворения донорских гамет, но и обладать установленным генетическим статусом и определенным имплантационным потенциалом, что является предметом дальнейших исследований.
Признак нормального оплодотворения — появление в ооците двух пронуклеусов, а другое их количество свидетельствует о неправильном оплодотворении. При этом нередко аномальные зиготы могут продолжить развитие и имплантироваться, однако при наступлении беременности в этом случае у плода высокий риск аномалий. Мужской и женский пронуклеусы формируются через 6–8 ч после оплодотворения. Мембраны пронуклеусов исчезают примерно через 24 ч, и первое дробление происходит через 3 ч после исчезновения их мембран [7]. Действительно, в настоящем исследовании у диплоидных донорских эмбрионов пронуклеусы исчезали синхронно в среднем через 23 ч после оплодотворения. Вместе с тем время исчезновения пронуклеусов у эмбрионов с аномальным оплодотворением (3PN) составило 19,2–19,7 чпо, то есть наблюдали тенденцию к более раннему растворению PN. Данные согласуются с другими исследованиями [8–11].
Триплоидия представляет собой одну из наиболее распространенных спонтанных хромосомных аномалий, возникающих в процессе эмбриогенеза. У человека в большинстве случаев триплоидные эмбрионы не выживают и погибают на ранних сроках внутриутробного развития до 8-й недели беременности. Лишь приблизительно 1 % эмбрионов достигает 6–7 мес. развития. Рождение живого ребенка с триплоидией является исключительно редким явлением, и, как правило, такие новорожденные погибают в течение нескольких часов жизни [12–14]. Образование триплоидной зиготы может происходить по разным причинам, например, при оплодотворении ооцита двумя сперматозоидами (диспермии) или сперматозоидом с двойным набором хромосом (диандрии). Такие триплоидные зиготы в последствии могут вести к кистозному разрастанию ворсинок хориона (пузырному заносу). Триплоид также может формироваться, если в оплодотворение вовлечен генетический материал не только ооцита и сперматозоида, но и полярного тельца, или в случае диплоидности ооцита (дигинии).
Показано, что при оплодотворении in vitro доля полиплоидных зигот выше, чем при оплодотворении in vivo [15]. По данным литературы, частота 3PN-зигот составляет 5,0–8,1 % при оплодотворении методом ЭКО и 2,5–6,2 % — при ICSI. Распространенность 3PN среди всех беременностей оценивают примерно в 1–3 %, тогда как на нее приходится 15–18 % цитогенетически аномальных случаев среди спонтанных абортов [16]. В представленном исследовании триплоидные зиготы возникли спонтанно после оплодотворения методом ЭКО. Дробление и бластуляция таких аномальных зигот могут происходить нормально, несмотря на их аномальный набор хромосом. Наблюдение за развитием таких эмбрионов показало, что они обладают высоким потенциалом к имплантации. При использовании ВРТ важным аспектом является исключение переноса в полость матки полиплоидных зигот, способных приводить к выкидышам, анэмбрионии и пузырному заносу.
В исследуемой популяции диплоидных донорских эмбрионов отмечены разные ритмы дробления. Во время первых дроблений (t2, t3, t4) большинство эмбрионов делились в довольно узком временном диапазоне, но во время следующих дроблений (t5, t6, t7, t8, t9) разброс данных увеличивался. После 4-клеточной стадии происходит активация генома эмбриона, вероятно, различия в экспрессии генов разных эмбрионов начинают проявляться именно в этом временном интервале [17]. В настоящем исследовании триплоидные эмбрионы проявили тенденцию к увеличению времени дробления со стадии 4-клеток и до момента начала компактизации.
Компактизация в предимплантационном эмбрионе человека обычно запускается после третьего митотического деления и представляет собой процесс усиления межклеточной адгезии. За ней следует образование щелевых и плотных контактов между бластомерами. Использование технологии непрерывной покадровой съемки позволило установить, что время начала компактизации человеческих эмбрионов варьирует от 50 до 105 чпо [18]. Действительно, в представленном исследовании наблюдали гетерогенность во времени компактизации (tM) и образовании бластоцисты (tB) у диплоидных донорских эмбрионов. Стоит отметить, что эти временные параметры показали наибольшую погрешность в определении из-за сложности выбора репрезентативного момента этих явлений. Лишь небольшая часть эмбрионов (4 из 15) формировали морулу (tM) между 3-м и 4-м днем развития (приблизительно 75–80 чпо), большинство завершили компактизацию только к концу 4-го дня развития (приблизительно 80–100 чпо).
У диплоидных и триплоидных эмбрионов отмечено различие не только по времени начала компактизации, но и по ее продолжительности. Триплоидные эмбрионы задерживались на стадии дробления, а компактизацию проходили за более короткий промежуток времени (рис. 3). В литературе существуют свидетельства того, что позднее начало компактизации снижает потенциал образования бластоцисты [18]. Ранняя компактизация (на 3-й день развития), напротив, коррелирует с высокими показателями имплантации [19–21].
Рис. 3. Развитие донорских эмбрионов с нормальной плоидностью (2PN) и триплоидных (3PN). Данные представлены в виде медиан
Fig. 3. Development of donor embryos with normal ploidy (2PN) and triploid (3PN) embryos. Data are presented as medians
Формирование бластоцисты начинается с образования полости, окруженной снаружи клетками трофэктодермы. Через их Na+-каналы транспортируется жидкость, приводящая к расширению бластоцисты. Внутри полости определяют внутреннюю клеточную массу. При достижении бластоцисты достаточных размеров, чтобы различить внутреннюю клеточную массу и трофэктодерму, и размеров полости, превышающих диаметр эмбриона, стадию развития определяли как полную бластоцисту (tB). Согласно полученным видеоизображениям развития донорских эмбрионов это время варьировало в широких пределах и составляло от 97 до 125 чпо, что согласуется с данными литературы (от 85 до 120 чпо) [18]. Триплоидные эмбрионы достигали стадии полной бластоцисты в тот же временной интервал.
Использование ИИ для анализа видеоизображений упрощает количественную оценку качества внутренней клеточной массы и трофэктодермы и позволяет провести независимую оценку этих двух клеточных линий. В течение многих лет качество внутренней клеточной массы считали более важным прогностическим критерием, но в последнее время появляются многочисленные доказательства того, что качество трофэктодермы может более точно показывать потенциал имплантации. С внедрением технологий непрерывной покадровой съемки, совмещенной с анализом данных ИИ, возможности ВРТ вышли на новый уровень.
Стоит отметить, что в настоящем исследовании в развитии одного из триплоидных эмбрионов присутствовали такие аномалии, как обратное дробление, нарушение цитокинеза, а также высокая доля фрагментации. Несмотря на это, эмбрион сформировал бластоцисту хорошего качества (3АВ). В то же время другой триплоидный эмбрион по динамике развития имитировал эмбрион с нормальной плоидностью и сформировал бластоцисту (3ВС). Поскольку триплоидные эмбрионы в целом незначительно отличались по морфокинетическим характеристикам от эмбрионов с нормальной плоидностью, при отсутствии информации об их аномальном оплодотворении они могли потенциально быть перенесены в полость матки. Непрерывное наблюдение в инкубаторах с системой time-lapse позволяет избежать таких ошибок. Данная система позволяет обнаружить редкие события, например, аномальное образование и исчезновение пронуклеусов, многоядерность бластомеров, обратное дробление, «прямое дробление» на три бластомера, недоступные для учета при стандартном культивировании [22].
Наблюдение за развитием 15 донорских эмбрионов может лечь в основу создания модели «эталонного» эмбриона при условии получения дополнительных данных о результатах предимплантационной генетической диагностики и частоте наступления беременности при переносе в полость матки эмбрионов. Полученные данные согласуются с результатами аналогичных исследований о развитии эмбрионов пациентов с бесплодием разной этиологии [23, 24]. Временные интервалы основных морфокинетических событий развития нормальных эмбрионов доноров и пациентов представлены в широком диапазоне и значительно не отличаются. Стоит отметить, что динамика развития эмбрионов зависит не только от исходного качества гамет, но и от условий лаборатории, а также состава культуральных сред [25–27]. Вероятно, реализация базовой программы развития эмбрионов происходит вне зависимости от соматического статуса генетических родителей. Необходимы дальнейшие исследования морфокинетики развития эмбрионов для создания неких контрольных точек эмбриогенеза. Накопление данных позволит прогнозировать потенциал к имплантации эмбриона без применения инвазивных методов.
Заключение
Анализ видеоизображений, полученных после культивирования донорских эмбрионов в инкубаторе с системой time-lapse, позволил сравнить морфокинетические параметры доимплантационного развития донорских эмбрионов между собой с учетом их плоидности. Охарактеризованы основные контрольные точки в развитии доимплантационных эмбрионов от стадии зиготы до образования бластоцисты. Отмечена тенденция к более раннему растворению пронуклеусов, задержке на стадии дробления от 4 до 8 клеток и более короткой стадии компактизации у донорских эмбрионов с нарушенной плоидностью. Сравнение полученных данных о донорских эмбрионах с данными литературы о развитии эмбрионов пациентов указывает на то, что, вероятно, вне зависимости от соматического статуса генетических родителей эмбрионы проходят основные этапы раннего эмбриогенеза в сходные временные интервалы. Вместе с тем особое внимание стоит уделить эмбрионам с развитием, не вписывающимся в эти интервалы, проявляющим такие аномалии развития как «обратное дробление», «прямое деление» на три, высокую долю фрагментации или остановку в развитии в тот или иной момент времени, поскольку это может указывать на аномалии генома эмбриона, такие как нарушение плоидности. Благодаря своевременному обнаружению этих отклонений можно отказаться от переноса эмбрионов с морфокинетическими отклонениями в развитии в пользу нормально развивающихся, что повысит частоту имплантации и успешно прогрессирующей беременности. Увеличение выборки исследуемых донорских эмбрионов, информация об их генетическом статусе и результатах наступления беременности после переноса в полость матки и дальнейшее накопление данных позволят прогнозировать потенциал к имплантации эмбриона без применения инвазивных методов.
Дополнительная информация
Источник финансирования. Исследование поддержано государственной программой поисковых научных исследований (номер государственной регистрации 1022040700824-0-3.2.2).
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. Все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.
Наибольший вклад распределен следующим образом: М.А. Ищук — сбор и обработка материала, анализ полученных данных, написание текста; Е.М. Комарова — сбор и обработка материала, написание текста; Е.А. Лесик — сбор и обработка материала; Я.М. Сагурова — сбор и обработка материала, редактирование; В.Ю. Жиляева — сбор и обработка материала, статистическая обработка данных; К.В. Объедкова, Н.И. Тапильская — редактирование текста; А.М. Гзгзян, О.Н. Беспалова — концепция и дизайн исследования.
Этический комитет. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом НИИ АГиР им. Д.О. Отта (№ 114 от 14.12.2022).
Additional information
Funding source. The study was supported by the state program of exploratory scientific research (state registration number 1022040700824-0-3.2.2).
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Author contribution. All the authors have made a significant contribution to the development of the concept, research, and preparation of the article as well as read and approved the final version before its publication.
Personal contribution of the authors: M.A. Ishchuk — collection and processing of material, analysis of obtained data, text writing; E.M. Komarova — collection and processing of material, text writing; E.A. Lesik — collection and processing of material; Ya.M. Sagurova — collection and processing of material, editing; V.Yu. Zhiliaeva — collection and processing of material, statistical processing of data; K.V. Ob’edkova, N.I. Tapilskaya — editing; A.M. Gzgzyan, O.N. Bespalova — concept and design of the study.
Ethics approval. The present study protocol was approved by the local Ethics Committee of the Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott (No. 114 dated 14.12.2022).
About the authors
Mariia A. Ishchuk
The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott
Author for correspondence.
Email: mashamazilina@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-4443-4287
SPIN-code: 1237-6373
Russian Federation, Saint Petersburg
Evgeniia M. Komarova
The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D. O. Ott
Email: evgmkomarova@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-9988-9879
SPIN-code: 1056-7821
Cand. Sci. (Biology)
Russian Federation, Saint PetersburgElena A. Lesik
The Research Institute of Obstetrics, Gynecology, and Reproductology named after D.O. Ott
Email: lesike@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1611-6318
SPIN-code: 6102-4690
Cand. Sci. (Biology)
Russian Federation, Saint PetersburgYanina M. Sagurova
The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott
Email: yanina.sagurova96@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4947-8171
SPIN-code: 8908-7033
Russian Federation, Saint Petersburg
Valeria Yu. Zhiliaeva
The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott
Email: lera.zhilyaeva.03@mail.ru
ORCID iD: 0009-0008-2701-0598
Russian Federation, Saint Petersburg
Ksenia V. Ob’edkova
The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D. O. Ott
Email: obedkova_ks@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2056-7907
SPIN-code: 2709-2890
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, Saint PetersburgAlexander M. Gzgzyan
The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott
Email: agzgzyan@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3917-9493
SPIN-code: 6412-4801
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, Saint PetersburgNatalia I. Tapilskaya
The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D. O. Ott
Email: tapnatalia@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5309-0087
SPIN-code: 3605-0413
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, Saint PetersburgOlesya N. Bespalova
The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott
Email: shiggerra@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6542-5953
MD, Dr. Sci. (Medicine)
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Payne D, Flaherty SP, Barry MF, et al. Preliminary observations on polar body extrusion and pronuclear formation in human oocytes using time-lapse video cinematography. Hum Reprod. 1997;12(3):532–541. doi: 10.1093/humrep/12.3.532
- Kahraman S, Sahin Y, Yelke H, et al. High rates of aneuploidy, mosaicism and abnormal morphokinetic development in cases with low sperm concentration. J Assist Reprod Genet. 2020;37(3):629–640. doi: 10.1007/s10815-019-01673-w
- Pribenszky C, Nilselid AM, Montag M. Time-lapse culture with morphokinetic embryo selection improves pregnancy and live birth chances and reduces early pregnancy loss: a meta-analysis. Reprod Biomed Online. 2017;35(5):511–520. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.06.022
- Armstrong S, Bhide P, Jordan V, et al. Time-lapse systems for ART. Reprod Biomed Online. 2018;36(3):288–289. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.12.012
- ESHRE Special Interest Group of Embryology and Alpha Scientists in Reproductive Medicine. The Vienna consensus: report of an expert meeting on the development of ART laboratory performance indicators. Reprod Biomed Online. 2017;35(5):494–510. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.06.015
- Gardner D, Schoolcraft W. In vitro culture of human blastocysts. In: Jansen R., Mortimer D., editors. Towards reproductive certainty: infertility and genetics beyond. New York, London: Parthenon Publishing Group; 1999.P. 378–388.
- Shurygina O, Bachurin A, Bichevaya N, et al. Evaluation of oocytes and embryos in the ART laboratory. Methodological recommendations. 2021. 17 p. Available from: https://www.rahr.ru/d_pech_mat_metod/MR_evaluation_of_embryos.pdf (In Russ.)
- Kida Y, Fukunaga N, Kitasaka H, et al. Identification of embryo markers predicting blastocyst formation before 1st cleavage. Fertil Steril. 2015;104(3):25. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.07.078
- Kljajic M, Sayme N, Krebs T, et al. Zygote morphokinetics as a predictor of blastocyst quality. Human Reprod. 2021;36(1):130–139. doi: 10.1093/humrep/deab130.139
- Márquez-Hinojosa S, Noriega-Hoces L, Guzmán L. Time-Lapse Embryo culture: a better understanding of embryo development and clinical application. JBRA Assist Reprod. 2022;26(3):432–443. doi: 10.5935/1518-0557.20210107
- Barrie A, Smith R, Campbell A, et al. Optimisation of the timing of fertilisation assessment for oocytes cultured in standard incubation: lessons learnt from time-lapse imaging of 78 348 embryos. Hum Reprod. 2021;36(11):2840–2847. doi: 10.1093/humrep/deab209
- Niemann-Seyde SC, Rehder H, Zoll B. A case of full triploidy (69,XXX) of paternal origin with unusually long survival time. Clin Genet. 1993;43(2):79–82. doi: 10.1111/j.1399-0004.1993.tb04432.x
- Daumová M, Hadravská Š, Putzová M. Hydatidiform mole. Cesk Patol. 2023;59(2):50–54.
- Devriendt K. Hydatidiform mole and triploidy: the role of genomic imprinting in placental development. Hum Reprod Update. 2005;11(2):137–142. doi: 10.1093/humupd/dmh060
- Asakawa T, Ishikawa M, Shimizu T, et al. The chromosomal normality of in vitro-fertilized rabbit oocytes. Biol Reprod. 1988;38(2):292–295. doi: 10.1095/biolreprod38.2.292
- Mutia K, Wiweko B, Iffanolida PA, et al. The Frequency of chromosomal euploidy among 3PN embryos. J Reprod Infertil. 2019;20(3):127–131.
- Wong CC, Loewke KE, Bossert NL, et al. Non-invasive imaging of human embryos before embryonic genome activation predicts development to the blastocyst stage. Nat Biotechnol. 2010;28(10):1115–1121. doi: 10.1038/nbt.1686
- Campbell A., Fishel A. Atlas of Embryology. Timelapse technology. Moscow: MEDpress-inform; 2018. 120 p. (In Russ.)
- Ivec M, Kovacic B, Vlaisavljevic V. Prediction of human blastocyst development from morulas with delayed and/or incomplete compaction. Fertil Steril. 2011;96(6):1473–1478.e2. doi: 10.1016/j.fertnstert.2011.09.015
- Wata K, Yumoto K, Sugishima M, et al. Analysis of compaction initiation in human embryos by using time-lapse cinematography. J Assist Reprod Genet. 2014;31(4):421–426. doi: 10.1007/s10815-014-0195-2
- Skiadas CC, Jackson KV, Racowsky C. Early compaction on day 3 may be associated with increased implantation potential. Fertil Steril. 2006;86(5):1386–1391. doi: 10.1016/j.fertnstert.2006.03.051
- Ishchuk MA, Lesik EA, Sagurova YM, et al. TIME-LAPSE technology in modern embryological practice. Journal of Obstetrics and Women’s Diseases. 2023;73(6):193–201. EDN: OCIEST doi: 10.17816/JOWD609504
- Tabibnejad N, Soleimani M, Aflatoonian A. Serum Anti-Mullerian hormone and embryo morphokinetics detecting by time-lapse imaging: a comparison between the polycystic ovarian syndrome and tubal factor infertility. Int J Reprod Biomed. 2018;16(8):483–490.
- Barnes J, Brendel M, Gao VR, et al. A non-invasive artificial intelligence approach for the prediction of human blastocyst ploidy: a retrospective model development and validation study. Lancet Digit Health. 2023;5(1):e28–e40. doi: 10.1016/S2589-7500(22)00213-8
- Alomar M, Tasiaux H, Remacle S, et al. Kinetics of fertilization and development, and sex ratio of bovine embryos produced using the semen of different bulls. Anim Reprod Sci. 2008;107(1–2):48–61. doi: 10.1016/j.anireprosci.2007.06.009
- Setti AS, Braga DP, Figueira RC, et al. The predictive value of high-magnification sperm morphology examination on ICSI outcomes in the presence of oocyte dysmorphisms. J Assist Reprod Genet. 2012;29(11):1241–1247. doi: 10.1007/s10815-012-9868-x
- Ciray HN, Aksoy T, Goktas C, et al. Time-lapse evaluation of human embryo development in single versus sequential culture media – a sibling oocyte study. J Assist Reprod Genet. 2012;29(9):891–900. doi: 10.1007/s10815-012-9818-7
Supplementary files