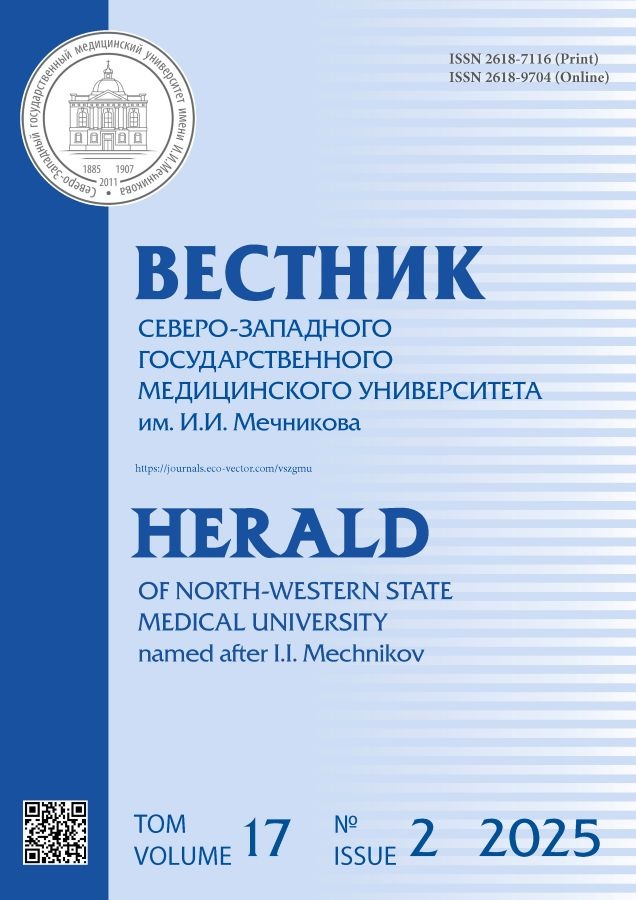Diagnosis and management of cerebral venous and sinus thrombosis in patients recovering from COVID-19
- Authors: Klocheva E.G.1, Olimova F.Z.1, Zhukova M.V.1, Chistova I.V.1, Goldobin V.V.1
-
Affiliations:
- North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
- Issue: Vol 17, No 2 (2025)
- Pages: 43-51
- Section: Original study article
- Submitted: 29.05.2024
- Accepted: 31.05.2025
- Published: 26.06.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/vszgmu/article/view/632951
- DOI: https://doi.org/10.17816/mechnikov632951
- EDN: https://elibrary.ru/NBNQIQ
- ID: 632951
Cite item
Abstract
BACKGROUND: Cerebral venous thrombosis is a multifactorial and difficult-to-diagnose disease, complicated by venous stroke, intracerebral hemorrhage, progressive cerebral edema, dislocation syndrome, and even death. The broad variability of clinical symptoms and lack of pathognomonic manifestations complicate timely diagnosis of cerebral venous thrombosis.
AIM: To identify significant risk factors for cerebral venous thrombosis and to evaluate the dynamics of neuroimaging findings at 1, 3, and 6 months after cerebral venous thrombosis onset in young and middle-aged patients with a history of COVID-19, comparing outcomes between those treated with direct oral anticoagulants (DOACs) and vitamin K antagonists (VKAs).
METHODS: Young and middle-aged patients with a history of novel coronavirus infection (COVID-19) were examined and divided into two groups depending on the presence or absence of cerebral venous thrombosis. The main risk factors, structural features of the major arteries and cerebral venous sinuses, as well as the course of cerebral venous and sinus thrombosis during anticoagulant therapy (with direct oral anticoagulants and vitamin K antagonists) at 1, 3, and 6 months after the development of cerebral venous thrombosis were analyzed.
RESULTS: We examined 120 young and middle-aged patients with COVID-19 divided into 2 groups: Group I – 70 patients who developed cerebral venous thrombosis during COVID-19 – 21 (30%) men and 49 (70%) women; Group II – 50 patients who had COVID-19 without cerebral venous thrombosis development – 27 (54%) men and 23 (46%) women. The main risk factor for developing cerebral venous thrombosis among women in the first group (with cerebral venous thrombosis during COVID-19) compared to the second group (patients who had COVID-19 without developing cerebral venous thrombosis) was the use of combined oral contraceptives: 22.9% and 4.0%, respectively (р = 0.001). Among group I patients, 32 (45.7%) cases of cerebral venous thrombosis were accompanied by the development of venous stroke: ischemic in 13 (18.6%) patients, hemorrhagic in 7 (10%), mixed (ischemic stroke with hemorrhagic infiltration) in 12 (17.1%) patients. In a comparative analysis of the variants of the structure of the cerebral arteries (absence of the posterior communicating arteries, pathological tortuosity of the internal carotid artery [ICA], trifurcation of the ICA, open arterial circle of Willis) and venous sinuses (presence of hypo-/aplasia), no statistically significant difference was detected. The analysis of the course of cerebral venous thrombosis during treatment with vitamin K antagonists (warfarin) and direct oral anticoagulants in 53 patients with cerebral venous thrombosis (age 41 ± 12 years) at 1,3, and 6 months after the development of cerebral venous thrombosis onset showed that with anticoagulants, recanalization was observed in 44 (83%) patients: complete – in 21 patients (47.7%), partial – in 23 (52.3%). Recanalization was absent in 9 (17.0%) cases. No recurrent cerebral venous thrombosis cases were observed among the study patients.
CONCLUSION: Verification of cerebral venous thrombosis in the context of COVID-19 necessitates a detailed examination of risk factors, patient history, assessment of clinical manifestations, and comprehensive implementation of laboratory and instrumental, as well as neuroimaging diagnostic methods. Timely verification and immediate initiation of anticoagulant therapy ensure a relatively favorable prognosis for the disease course.
Full Text
Обоснование
Церебральный венозный тромбоз (ЦВТ) является многофакторным и труднодиагностируемым заболеванием. Он способствует развитию венозного инсульта, внутримозгового кровоизлияния, прогрессирующего отека головного мозга, дислокационного синдрома, что может приводить к летальному исходу [1]. По данным G. Saposnik и соавт. (2024), летальность при ЦВТ достигает 10–15% [2, 4].
Когортные исследования показывают, что ЦВТ поражает преимущественно пациентов моложе 55 лет, при этом 2/3 пациентов с ЦВТ — женщины [3].
Распределение предрасполагающих факторов зависит от возраста, пола (беременности, послеродового периода), а также географического региона. По данным исследований, ЦВТ чаще встречается у населения Турции, Ирана, Пакистана и Индии [2].
Предрасполагающие факторы риска, ассоциированные с ЦВТ, разделяются на преходящие и хронические. К преходящим факторам относятся прием оральных контрацептивов (54–71%), беременность / послеродовой период (11–59%), заместительная гормональная терапия (4%), инфекционные заболевания головы и шеи (8–11%), дегидратация (2–19%), анемия, прием лекарственных препаратов (таких как глюкокортикоиды, L-аспаргиназа, тамоксифен), а также механические факторы (травма головы, нейрохирургические вмешательства и катетеризация яремной вены). К хроническим факторам относятся: ожирение (23%), анемия (9–27%), системные заболевания (тиреоидит, нефротический синдром, воспалительные заболевания кишечника), миелопролиферативный синдром (2–3%), другие злокачественные новообразования (7%), антифосфолипидный синдром (6–17%), заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка), болезнь Бехчета, саркоидоз (1%), генетические факторы риска тромбоза (полиморфизм гена протромбин 20210А, фактор V Leiden, MTHFR (C677), дефицит антитромбина, протромбина С и S (врожденный и приобретенный), а также компрессия венозных синусов (менингиома) и дуральные артериовенозные фистулы [2].
Клиническая симптоматика
Клинические проявления ЦВТ зависят от локализации тромба в венозной системе, связаны с нарушением ликвородинамики, повышением внутричерепного давления и очаговым повреждением головного мозга [4].
Головная боль является наиболее частым симптомом и встречается в 90% случаев [5]. Другие признаки ЦВТ, обусловленные повышением внутричерепного давления, могут быть представлены тошнотой, преходящей амблиопией или слепотой (13–27%), отеком диска зрительного нерва и диплопией (6–14%) [6, 7]. Краниальные невропатии возникают у 6–11% больных ЦВТ, судорожные пароксизмы — у 20–40%, очаговые неврологические нарушения — у 20–50% [8, 9].
Среди пациентов, перенесших ЦВТ, функциональная независимость (оценка по модифицированной шкале Рэнкина 0–2 балла) может быть достигнута у 80–90% [4, 10]. Однако в ряде исследований сообщено о распространенности остаточных симптомов, таких как расстройства когнитивной сферы, снижение фона настроения, утомляемость и головная боль, снижающих качество жизни [11].
Предикторами плохого прогноза ЦВТ являются пожилой возраст, возникновение заболевания на фоне активной онкологической патологии, развитие внутримозгового кровоизлияния и нарушение сознания.
По распространенности тромбообразования наиболее часто отмечают тромбоз поперечных синусов — в 25–60% случаев и верхнего сагиттального — в 25–45%. Тромбоз глубокой венозной системы головного мозга встречается в 10% случаев, прямого синуса — в 15–18%, поперечных синусов — в 25–60%, сигмовидного — в 5–15%, внутренней яремной вены — у 10% пациентов [2].
Диагностика
Пациентам с подозрением на ЦВТ показаны срочные нейровизуализационные исследования [1].
Мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) у пациентов с клиническим подозрением на ЦВТ проводят с целью дифференциальной диагностики ЦВТ с опухолью головного мозга, внутричерепной гематомой и абсцессом головного мозга, обладающими сходными клиническими проявлениями [12]. При МСКТ головного мозга лишь у 25% пациентов выявляют прямые признаки ЦВТ, такие как симптом «плотного треугольника» при тромбозе верхнего сагиттального синуса [13]. При МСКТ головного мозга с введением контрастного вещества тромбоз верхнего сагиттального синуса визуализируется в виде «пустой дельты» [14]. К косвенным признакам венозного инсульта на МСКТ головного мозга относят: несоответствие зоны инфаркта границам артериального бассейна кровоснабжения, частое развитие геморрагической трансформации [15].
Компьютерная томографическая венография является надежным диагностическим методом для верификации ЦВТ, однако ввиду возможного развития аллергических реакцией на различные компоненты контрастного вещества у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом применение данного метода ограничено [1].
Магнитно-резонансная томография головного мозга (T2*-взвешенное изображение, визуализация с весовой чувствительностью) позволяет определить вероятное начало ЦВТ, оценить характер поражения вещества мозга (ишемию, кровоизлияние, отек) [17]. При проведении магнитно-резонансной веносинусографии возможны ложноположительные результаты, связанные с анатомическими особенностями строения венозных синусов головного мозга: арахноидальными грануляциями, гипоплазией синусов, септами и атрезией венозных синусов [16].
Лечение
Клинические руководства в качестве патогенетической терапии ЦВТ в остром периоде рекомендуют парентеральное введение низкомолекулярных гепаринов с последующим переходом на пероральный прием антагонистов витамина К (АВК) [18]. В нескольких рандомизированных исследованиях сравнены эффективность и безопасность прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК) и АВК [19, 20].
В исследовании RESPECT-CVT (2019) оценены эффективность и безопасность применения дабигатрана этексилата и АВК (варфарина) у пациентов с ЦВТ и дуральным тромбозом по частоте развития рецидива ЦВТ и геморрагических осложнений. Продолжительность терапии в группе пациентов, принимающих дабигатрана этексилат, составила 22 нед., АВК — 23 нед. Геморрагические осложнения отмечены у 32% больных, принимающих АВК, и 30% пациентов группы дабигатрана этексилата. Рецидивы венозных тромботических осложнений в обеих группах не зафиксированы. В группе дабигатрана этексилата у одного пациента выявлено кишечное кровотечение, а в группе варфарина у двух больных развились церебральные геморрагические осложнения [18].
В марте 2022 г. проведено многоцентровое исследование (ACTION-CVT), где участвовали 845 пациентов с ЦВТ из 27 центров США, Европы и Новой Зеландии: 279 (33,0%) пациентов получали только ПОАК, 438 (51,8%) — только АВК, 128 (15,1%) — обе группы препаратов в разное время. Среди пациентов, принимавших ПОАК, 55 (13,5%) больных применяли дабигатрана этексилат, 74 (18,2%) — ривароксабан, 271 (66,6%) — апиксабан, а 7 (1,7%) — несколько ПОАК. Данное исследование показало, что лечение ПОАК сопровождалось меньшим риском геморрагических осложнений, чем при терапии варфарином [8].
В сентябре 2023 г. опубликованы результаты исследования SECRET (с применением ривароксабана при ЦВТ), где 53 пациента с ЦВТ (в рамках рандомизированного исследования) принимали ривароксабан в дозе 20 мг в день, а в группе сравнения назначена стандартная терапия (варфарином; целевое международное нормализованное отношение 2,0–3,0) в течение как минимум 6 мес. Показано, что у пациентов, принимавших ривароксабан, частота кровотечений и рецидивов ЦВТ в целом была низкой и соответствовала данным предыдущих исследований [21].
Эндоваскулярное лечение ЦВТ способно обеспечить более быструю реканализацию. Однако результаты исследований с использованием механической тромбэктомии (с помощью баллона, систем аспирации или вакуумной аспирации), внутрисинусового тромболизиса, а также комбинации механической тромбэктомии, внутрисинусового тромболизиса и внутрисинусового стентирования противоречивы [22, 23].
В последнее время эндоваскулярное лечение используют в качестве метода экстренной терапии для пациентов с ухудшением или противопоказаниями к стандартной терапии [23]. Однако отсутствуют данные, позволяющие определить, какой метод эндоваскулярного лечения (стент-ретривер, микрокатетеры, аспирационные катетеры, аспирационные насосные системы) при ЦВТ наиболее предпочтителен [4].
Декомпрессивную краниэктомию целесообразно выполнять при наличии факторов, связанных с неблагоприятными исходами, такими как дислокационный синдром (смещение срединных структур более чем на 5 мм, ишемия в бассейне задней мозговой артерии, стойкое повышение внутричерепного давления). В данном случае начало/возобновление введения антикоагулянтов возможно через 24–48 ч. Метаанализ, включающий результаты 51 исследования с участием 483 пациентов с ЦВТ, показал, что хирургическое вмешательство в течение 48 ч после поступления может снизить летальность [4].
Цель — выявить значимые факторы риска ЦВТ, оценить динамику нейровизуализационных данных через 1, 3 и 6 мес. после развития ЦВТ на фоне приема ПОАК и АВК у пациентов молодого и среднего возраста с ЦВТ, перенесших COVID-19.
Методы
Обследованы пациенты молодого и среднего возраста с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, разделенные на две группы в зависимости от наличия или отсутствия ЦВТ на фоне инфекции.
Критерии включения для I группы (пациентов с ЦВТ на фоне COVID-19): возраст 18–59 лет, наличие COVID-19 и ЦВТ, отсутствие вакцинации от COVID-19, добровольное согласие на участие в исследовании. Для II группы (пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию без развития ЦВТ) применены аналогичные критерии, за исключением наличия ЦВТ. Критерии исключения для обеих групп: возраст старше 59 лет, наличие ранее перенесенного ЦВТ, перенесенные черепно-мозговые травмы, эпилепсия, объемные новообразования, наличие других значимых сопутствующих заболеваний центральной нервной системы в стадии декомпенсации и отказ от участия в исследовании.
С целью выявления возможного влияния ангиодисплазии на развитие ЦВТ части пациентов проведены магнитно-резонансные артериография и веносинусография. Бесконтрастная магнитно-резонансная артериография в последовательности 3D TOF (времяпролетная ангиография) позволила определить калибр и ход артерий. Большое значение придавали оценке вариантов строения артерий, наличию стенозов и аневризм. Анализ частоты реканализации выполнен с помощью контрольной магнитно-резонансной веносинусографии у пациентов с ЦВТ на фоне приема различных антикоагулянтов (АВК и ПОАК) через 1, 3 и 6 мес. после развития ЦВТ.
Обработка данных выполнена с помощью прикладных программ Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США), SPSS 21.0 (IBM, США) на персональном компьютере. Диcпeрсионный aнализ осуществляли с помощью критериев χ2. В зависимости от количества наблюдаемых случаев использовали χ2 с пoправкой Йетса или φ-критерий Фишера. Оценка полученных результатов произведена с помощью непарaметрического кpитерия H Кpаскела–Уoллиса. Различия считали статистически значимыми при р ≤0,05.
Результаты
Обследованы 120 пациентов молодого и среднего возраста с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, разделенных на две группы: в I группе у 70 пациентов на фоне COVID-19 развился ЦВТ [21 (30%) мужчина и 49 (70%) женщин], во II группу вошли 50 пациентов, перенесших COVID-19 без развития ЦВТ [27 (54%) мужчин и 23 (46%) женщины].
По возрасту группы были сопоставимы (p=0,7978). Однако по полу отмечено статистически значимое различие: во II группе было меньше женщин [21 (30%)], чем в I группе [49 (70%)] (p=0,00815). При сравнительном анализе по степени тяжести СOVID-19 в I группе преобладала легкая степень тяжести в сравнении с показателем во II группе: 48 (68,6%) и 10 (20%) соответственно (р=0,001).
При сравнительной оценке факторов риска ЦВТ основным и статистически значимым фактором риска среди женщин I группы был прием комбинированных оральных контрацептивов: 22,9 против 4,0% во II группе (p=0,0081). Курение отмечено у 24,3% пациентов с ЦВТ на фоне COVID-19 и 22% пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию без развития ЦВТ (p=0,30962), беременность была лишь у 1 (1,4%) пациентки I группы.
Диагноз «церебральный венозный тромбоз» у пациентов I группы подтвержден на основании данных нейровизуализационных методов исследования (МСКТ, МСКТ с контрастированием, магнитно-резонансной томографии головного мозга, магнитно-резонансной веносинусографии). В 32 (45,7%) случаях ЦВТ сопровождался развитием венозного инсульта: ишемического — у 13 (18,6%) пациентов, геморрагического — у 7 (10%), смешанного (ишемического инсульта с геморрагическим пропитыванием) — у 12 (17,1%).
Магнитно-резонансная артериография сосудов головного мозга в I группе проведена 47 (67,1%) пациентам, во II группе — 41 (82%), среди них было 36 (41%) мужчин и 52 (59%) женщины в возрасте 39,8±9,3 года. При сравнительном анализе вариантов строения магистральных артерий (отсутствия задних соединительных артерий, патологической извитости внутренней сонной артерии, трифуркации внутренней сонной артерии, разомкнутого артериального круга большого мозга) статистически значимых различий не выявлено.
В табл. 1 приведены варианты анатомического строения церебральных сосудов у наблюдаемых групп.
Таблица 1. Варианты строения церебральных артерий у наблюдаемых групп
Table 1. Cerebral artery structural variants in the study groups
Варианты строения церебральных артерий | I группа n=47 (67,1%) | II группа n=41 (82%) | |||
n | % | n | % | ||
Патологическая извитость ВСА | S-образная извитость ВСА | 6,0 | 12,8 | 9,0 | 21,9 |
S-образная извитость общей сонной артерии | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
С-образная извитость ВСА | 7,0 | 14,9 | 5,0 | 12,2 | |
Отсутствие задних соединительных артерий | с двух сторон | 3,0 | 6,4 | 1,0 | 2,4 |
слева | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 9,8 | |
справа | 2,0 | 4,3 | 3,0 | 7,3 | |
Трифуркация ВСА | неполная задняя трифуркация правой ВСА | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 4,9 |
неполная задняя трифуркация левой ВСА | 1,0 | 2,1 | 3,0 | 7,3 | |
полная задняя трифуркация правой ВСА | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
полная задняя трифуркация левой ВСА | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 2,4 | |
Разомкнутый артериальный круг большого мозга | 11,0 | 23,4 | 14,0 | 34,1 | |
Примечание. ВСА — внутренняя сонная артерия
Магнитно-резонансная веносинусография с оценкой состояния церебральных вен и синусов проведена 116 пациентам: 44 (38%) мужчинам и 72 (62%) женщинам в возрасте 39,7±8,9 года. При этом анализировали результаты визуализации яремных вен, прямых синусов, верхнего сагиттального синуса, поперечных и сигмовидных синусов, вены Галена, базальных вен, а также кавернозных синусов. Нормальными значениями считали размеры венозных синусов: поперечных — 0,55–0,8 см, сигмовидных — 0,5–0,8 см, большой мозговой вены — 0,25–0,27 см, прямого синуса — 0,1–0,27 см, верхнего сагиттального синуса — 0,25–0,45 см, поверхностных вен — 0,1–0,45 см.
С целью оценки вариантов строения венозных синусов (наличия гипо/аплазий, пахионовых грануляций) всем пациентам I группы (n=70, 100%) и 46 (92%) пациентам II группы проведена магнитно-резонансная веносинусография. На рис. 1 представлена сравнительная оценка особенностей строения церебральных венозных синусов у наблюдаемых групп.
Рис. 1. Сравнительная оценка особенностей строения церебральных венозных синусов в сравниваемых группах. D — правый поперечный синус (dexter); S — левый поперечный синус (sinister); ПС — поперечный синус, СС — сигмовидный синус, ЯВ — яремная вена ВСС —верхний сагиттальный синус, НСС —нижний сагиттальный синус.
Fig. 1. Comparative assessment of cerebral venous sinus structural features in the study groups.
При сравнительном анализе вариантов строения венозных синусов, у пациентов обеих групп наиболее часто выявляли асимметрию поперечных синусов D > S: в I группе у 31 (44,3%) пациентов, во II — у 22 (47,8%). При этом, гипоплазия левого поперечного синуса в I группе отмечена у 14 (20%) пациентов, во II группе — у 8 (17%).
В рамках исследования 53 пациентам с ЦВТ [18 (34%) мужчинам и 35 (66%) женщинам в возрасте 41±12 лет] анализировали течение заболевания на фоне приема различных групп антикоагулянтов. Дозы ПОАК подбирали индивидуально в зависимости от массы тела, АВК — по уровню международного нормализованного отношения. 11 (20,8%) пациентов принимали АВК, 15 (28,2%) — ривароксабан, 16 (30,2%) — апиксабан и 11 (20,8%) — дабигатрана этексилат. При магнитно-резонансной веносинусографии у пациентов с ЦВТ на фоне антикоагулянтной терапии оценивали частоту рецидивов ЦВТ, развития венозного инсульта и кровоизлияний. При этом реканализация отмечена у 44 (83%) пациентов: полная — у 21 (47,7%), частичная (неполное восстановление проходимости) — у 23 (52,3%). В 9 (17,0%) случаях реканализация отсутствовала. Случаев повторного ЦВТ у обследуемых пациентов не наблюдали.
На рис. 2, 3 представлены данные магнитно-резонансной томографии головного мозга и магнитно-резонансной веносинусографии пациента 34 лет до и на фоне антикоагулянтной терапии (через 6 мес.).
Рис. 2. Магнитно-резонансная томография головного мозга и магнитно-резонансная веносинусография до приема антикоагулянтной терапии. На нативном Т2-взвешенном изображении отмечен гиперинтенсивный сигнал от левого поперечного синуса (a). Сигнал от кровотока по тромбированному синусу диффузно снижен (b). При магнитно-резонансной веносинусографии выявлено снижение сигнала от левого сигмовидного синуса и левой яремной вены, но с сохранением кровотока (c, d).
Fig. 2. Brain magnetic resonance imaging and magnetic resonance venography prior to anticoagulant therapy initiation. On native Т2-weighted imaging, hyperintense signal from the left transverse sinus is noted (a). Blood flow signal through the thrombosed sinus appears diffusely attenuated (b). Magnetic resonance venography demonstrates signal reduction in the left sigmoid sinus and left jugular vein with preserved blood flow (c, d).
Рис. 3. Магнитно-резонансная томография головного мозга и магнитно-резонансная веносинусография через 6 мес. на фоне приема антикоагулянтной терапии. Сохранен низкий сигнал от левого сигмовидного синуса (b, черная стрелка) и частичное восстановление кровотока в левом поперечном синусе (а, b, белая стрелка).
Fig. 3. Brain magnetic resonance imaging and cerebral venous sinus magnetic resonance imaging at 6 months of anticoagulant therapy: The left sigmoid sinus maintains reduced signal intensity (b, black arrow), while the left transverse sinus shows partial blood flow recovery (a, b, white arrow).
Обсуждение
Cравнительный анализ модифицируемых факторов риска (курения, приема комбинированных оральных контрацептивов, беременности, послеродового периода) выявил, что важным фактором риска у женщин с ЦВТ на фоне инфицирования SARS-CoV-2 был длительный прием комбинированных оральных контрацептивов (23%).
По данным некоторых авторов, в развитии цереброваскулярной патологии, особенно у пациентов молодого возраста, большую роль играет дисплазия соединительной ткани (ангиодисплазия), способствующая изменениям сосудистой стенки артерий и вен [24].
Оценка вариантов строения магистральных артерий и церебральных венозных синусов по данным магнитно-резонансных артериографии и веносинусографии не показала достоверного различия между наблюдаемыми группами.
На фоне приема различных видов антикоагулянтов (АВК, варфарина) у пациентов с ЦВТ отмечена положительная динамика, подтвержденная клиническими и нейровизуализационными методами диагностики.
Заключение
Верификация церебрального венозного тромбоза на фоне COVID-19 вызывает необходимость детального изучения факторов риска, анамнестических данных, оценки клинических проявлений и комплексного проведения лабораторно-инструментальных, нейровизуализационных методов диагностики. Широкая вариабельность клинических симптомов (преобладание общемозговых симптомов) усложняет диагностику церебрального венозного тромбоза, поэтому неврологи и радиологи должны относится к ней с большей настороженностью и расширять спектр дифференциальной диагностики. Своевременная верификация и немедленно начатое лечение антикоагулянтами обеспечивают относительно благоприятный прогноз течения заболевания.
Дополнительная информация
Вклад авторов. Е.Г. Клочева, Ф.З. Олимова, В.В. Голдобин — определение концепции, проведение исследования, анализ данных, написание черновика, пересмотр и редактирование рукописи; М.В. Жукова, И.В. Чистова — определение концепции. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.
Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом СЗГМУ им. И.И. Мечникова (№ 1305 от 15.05.2015). Все участники исследования добровольно подписали форму информированного согласия на участие в исследовании. Исследование и его протокол не регистрировали.
Согласие на публикацию. Авторы получили письменное информированное добровольное согласие пациента на публикацию персональных данных в научном журнале, включая его электронную версию (дата подписания 24.03.2023). Объем публикуемых данных с пациентом согласован.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Все данные, полученные в настоящем исследовании, доступны в статье.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внутренних рецензента.
Additional information
Author contributions: E.G. Klocheva, F.Z. Olimova, V.V. Goldobin: conceptualization, investigation, formal analysis, writing—original draft, writing—review & editing; M.V. Zhukova, I.V. Chistova: conceptualization. All authors approved the version of the manuscript to be published, and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of it are appropriately reviewed and resolved.
Ethics approval: The study was approved by the local Ethics Committee of the North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov (Protocol No. 1305 dated May 15, 2015). All participants provided written informed consent to participate in the study. The study and its protocol were not registered.
Consent for publication: Written informed consent was obtained from the participant on March 24, 2023, for publication of relevant personal information in a scientific journal, including its digital version. The amount of data to be disclosed is agreed with the patient.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests over the past three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: The authors did not use any previously published information (text, illustrations, or data) in this work.
Data availability statement: All data generated during this study are included in this article.
Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.
Provenance and peer-review: This work was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two in-house reviewers.
About the authors
Elena G. Klocheva
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Email: klocheva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6814-0454
SPIN-code: 6220-5349
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, Saint PetersburgFarahnoz Z. Olimova
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Author for correspondence.
Email: farahnoz.zafarovna1994@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-2239-0073
SPIN-code: 5339-9323
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, 47 Piskarevsky Ave., Saint Petersburg, 195067Mariya Viktorova Zhukova
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Email: M-a-r-i-e-l-a@mail.ru
ORCID iD: 0009-0008-8653-632X
SPIN-code: 7561-5322
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, Saint PetersburgInga V. Chistova
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Email: ingachistova@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-3307-0083
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, Saint PetersburgVitalii V. Goldobin
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Email: Goldobin@szgmu.ru
ORCID iD: 0000-0001-9245-8067
SPIN-code: 4344-5782
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Ramazanov GR, Korigova KhV, Petrikov SS. Diagnosis and treatment of cerebral venous thrombosis. Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):122–134. doi: 10.23934/2223-9022-2021-10-1-122-1345
- Saposnik G, Bushnell C, Coutinho JM, et al. Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis: A scientific statement from the American Heart Association. Stroke. 2024;55(3):e77–e90. doi: 10.1161/STR.0000000000000456
- Alet M, Ciardi C, Alemán A, et al. Cerebral venous thrombosis in Argentina: clinical presentation, predisposing factors, outcomes and literature review. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020;29(10):105145. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105145
- Saposnik G, Barinagarrementeria F, Brown RD Jr, et al. Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/ American Stroke Association. Stroke. 2011;42(4):1158–1192. doi: 10.1161/STR.0b013e31820a8364
- Maksimova MYu, Dubovitskaya YuI, Bryukhov VV, Krotenkova MV. Diagnosis of cerebral veins and venous sinuses thrombosis. RMJ. 2017;(21):1595–1601. EDN: YLAYDS
- Ulivi L, Squitieri M, Cohen H, et al. Cerebral venous thrombosis: a practical guide. Pract Neurol. 2020;20(5):356–367. doi: 10.1136/practneurol-2019-002415
- Duman T, Uluduz D, Midi I, et al. A multicenter study of 1144 patients with cerebral venous thrombosis: the VENOST study. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017;26(8):1848–1857. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.04.020
- Yaghi S, Shu L, Bakradze E, et al. Direct oral anticoagulants versus warfarin in the treatment of cerebral venous thrombosis (ACTION-CVT): a multicenter international study. Stroke. 2022;29(2):728–738. doi: 10.1161/STROKEAHA.121.037541
- van Kammen MS, Lindgren E, Silvis SM, et al. Late seizures in cerebral venous thrombosis. Neurology. 2020;95(12):e1716–e1723. doi: 10.1212/WNL.0000000000010577
- Klein P, Shu L, Nguyen TN, et al. Outcome prediction in cerebral venous thrombosis: the IN-REvASC score. J Stroke. 2022;24(3):404–416. doi: 10.5853/jos.2022.01606
- Hiltunen S, Putaala J, Haapaniemi E, et al. Long-term outcome after cerebral venous thrombosis: analysis of functional and vocational outcome, residual symptoms, and adverse events in 161 patients. J Neurol. 2016;263:477–484. doi: 10.1007/s00415-015-7996-9
- Caso V, Agnelli G, Paciaroni M, eds. Handbook on Cerebral Venous Thrombosis. Karger Medical and Scientific Publishers; 2008. Vol. 23. P. 96–111. doi: 10.1159/isbn.978-3-8055-8379-4
- van Dam LF, van Walderveen MA, Kroft LJ, et al. Current imaging modalities for diagnosing cerebral vein thrombosis – a critical review. Thromb Res. 2020;189:132–139. doi: 10.1016/j.thromres.2020.03.011
- Masuhr F, Mehraein S, Einhäupl K. Cerebral venous and sinus thrombosis. J Neurol. 2004;251:11–23. doi: 10.1007/s00415-004-0321-7
- Stam J. Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. N Engl J Med. 2005;352(17):1791–1798. doi: 10.1056/NEJMra042354
- Canedo-Antelo M, Baleato-González S, Mosqueira AJ, et al. Radiologic clues to cerebral venous thrombosis. Radiographics. 2019;39(6):1611–1628. doi: 10.1148/rg.2019190015
- Kulesh АА. Cerebral venous thrombosis and its hemorrhagic complications. Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics. 2021;13(2):10–18. EDN: JMTIFS doi: 10.14412/2074-2711-2021-2-10-18
- Ferro JM, Bousser MG, Canhão P, et al. European Stroke Organization guideline for the diagnosis and treatment of cerebral venous thrombosis–endorsed by the European Academy of Neurology. Eur J Neurol. 2017;24(10):1203–1213. doi: 10.1111/ene.13381
- Osteresch R, Fach A, Hambrecht R, Wienbergen H. ESC guidelines 2019 on diagnostics and management of acute pulmonary embolism. Herz. 2019;44:696–700. (In German) doi: 10.1007/s00059-019-04863-5
- Lee GKH, Chen VH, Tan CH, et al. Comparing the efficacy and safety of direct oral anticoagulants with vitamin K antagonist in cerebral venous thrombosis. J Thromb Thrombolysis. 2020;50(3):724–731. doi: 10.1007/s11239-020-02106-7
- Field TS, Dizonno V, Almekhlafi MA, et al. Study of rivaroxaban for cerebral venous thrombosis: a randomized controlled feasibility trial comparing anticoagulation with rivaroxaban to standard-of-care in symptomatic cerebral venous thrombosis. Stroke. 2023;54(11):2724–2736. doi: 10.1161/STROKEAHA.123.044113
- Fan Y, Yu J, Chen H, et al. Chinese Stroke Association guidelines for clinical management of cerebrovascular disorders: executive summary and 2019 update of clinical management of cerebral venous sinus thrombosis. Stroke Vasc Neurol. 2020;5:152–158. doi: 10.1136/svn-2020-000358
- Lewis W, Saber H, Sadeghi M, et al. Transvenous endovascular recanalization for cerebral venous thrombosis: a systematic review and meta-analysis. World Neurosurg. 2019;130:341–350. doi: 10.1016/j.wneu.2019.06.211
- Belova LA, Mashin VV, Sitnikova AI, Belov DV. Modern outlooks on risk factors of cerebral venous thrombosis. Ul’yanovskiy mediko-biologicheskiy zhurnal. 2020;(3):8–20. EDN: CAVFTC doi: 10.34014/2227-1848-2020-3-8-20
Supplementary files