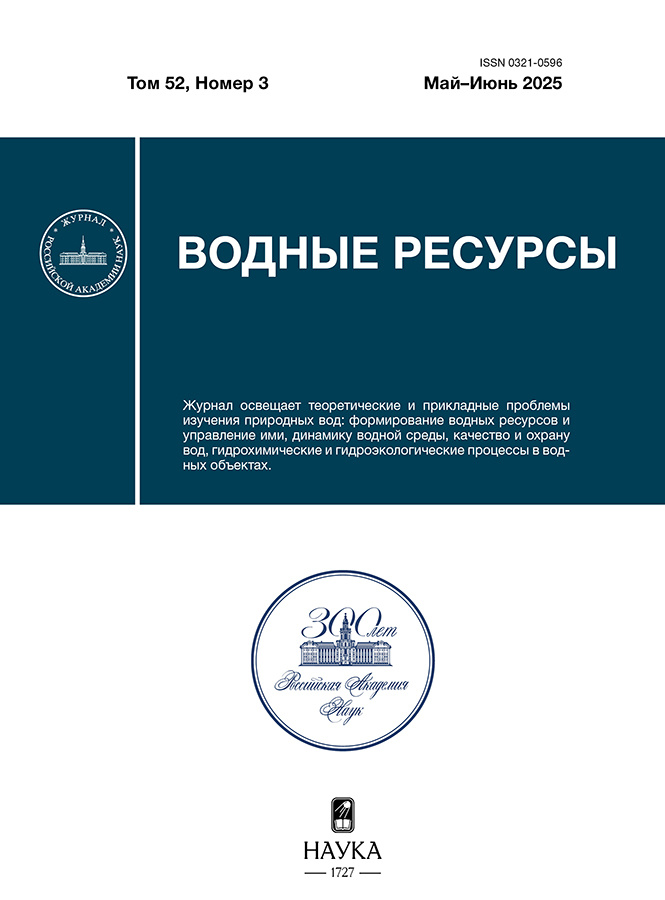Metals in sediments of pore waters of small rivers of St. Petersburg and risks of secondary pollution
- Authors: Opekunov A.Y.1, Opekunova M.G.1
-
Affiliations:
- Saint Petersburg State University
- Issue: Vol 52, No 3 (2025)
- Pages: 85-99
- Section: Гидрохимия, гидробиология, экологические аспекты
- URL: https://journals.eco-vector.com/0321-0596/article/view/687194
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0321059625030074
- EDN: https://elibrary.ru/SYMSZN
- ID: 687194
Cite item
Abstract
The main distribution patterns of metals and metalloids (MM – Sc, V, Cr, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd, Sr, Ba, Sb, As, Hg) in bottom sediments (BS) and pore waters of small rivers of St. Petersburg affected by industrial wastewater discharges were studied. MM concentrations in solid and liquid phases of bottom sediments (BS) exceed background values by n 10-102 times. The leading influence of chemical specialization of enterprises on their composition was shown. The Pb content in pore water near the wastewater discharge from lead-acid battery production in the Yekateringofka River reached 14.5 mg/l, and the Ni concentration was 8.56 mg/l under the influence of Ni-Cd battery production (Karpovka River). Using correlation, factor and cluster analyses, a relationship was established between the MM content in BS and pore water and complete identity of the main paragenetic associations. The risks of secondary pollution of rivers were established: diffusion flows from BS into water and opening of the pore space during bottom cleaning operations. Based on Fick’s law, the intensity of MM diffusion flows (μg/m2 day) was estimated, the maximum average values of which are characteristic of Fe (9985), Ba (322), Zn (169), Mn (131), the minimum are typical for As (0.9), Cd (2.4), Co (4.4). Calculations showed that in most cases the intensity of secondary pollution through diffusion input of pollutants prevails over mechanical pollution.
Full Text
About the authors
A. Yu. Opekunov
Saint Petersburg State University
Author for correspondence.
Email: a_opekunov@mail.ru
Russian Federation, Saint Petersburg
M. G. Opekunova
Saint Petersburg State University
Email: a_opekunov@mail.ru
Russian Federation, Saint Petersburg
References
- Голубев Д.А., Зайцев В.М., Клеванный К.А., Леднова Ю.А., Лукьянов С.В., Рябчук Д.В., Спиридонов М.А., Шилин М.Б. Комплексные экологические исследования состояния районов отвала грунта в Невской губе и восточной части Финского залива // Инженерные изыскания. 2010. № 5. С. 36–42.
- Кудрявцева В.А., Шигаева Т.Д., Панкратова Н.М. Особенности миграции тяжелых металлов в системе «придонная вода – поровая вода – поверхностный слой донных отложений» прибрежной зоны восточной части Финского залива в весенне-летний период // Изв. Томского политехн. ун-та. Инжиниринг георесурсов. 2022. Т. 333. № 1. С. 95–104.
- Липатникова О.А., Лубкова Т.Н., Коробова Н.А. Формы нахождения микроэлементов в воде и донных отложениях Пироговского водохранилища // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4, Геология. 2020. № 6. С. 59–68.
- Наследов А.Д. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных. СПб.: Питер, 2013. 416 с.
- Опекунов А.Ю. Аквальный техноседиментогенез // Тр. ВНИИОкеангеология. Т. 208. СПб.: Наука, 2005. 278 с.
- Опекунов А.Ю., Митрофанова Е.С., Опекунова М.Г. Техногенная трансформация состава донных отложений рек и каналов Санкт-Петербурга // Геоэкология. Инженерная геология. Гидроэкология. Геокриология. 2017. № 4. С. 48–61.
- Опекунов А.Ю., Митрофанова Е.С., Спасский В.В., Опекунова М.Г., Шейнерман Н.А., Чернышова А.В. Химический состав и токсичность донных отложений малых водотоков Санкт-Петербурга // Вод. ресурсы. 2020. Т. 47. № 2. С. 196–207.
- Опекунов А.Ю., Митрофанова Е.С., Шейнерман Н.А. Особенности техногенного осадконакопления в водотоках центральной части Санкт-Петербурга // Биосфера. 2014. Т. 6. № 3. С. 250–256.
- Опекунов А.Ю., Янсон С.Ю., Опекунова М.Г., Кукушкин С.Ю. Минеральные фазы металлов в техногенных осадках рек Санкт-Петербурга при экстремальном загрязнения // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. Науки о Земле. 2021. Т. 66. № 2. С. 267–288.
- Папина Т.С., Третьякова Е.И. Оценка поступления биогенных элементов из донных отложений в воду Новосибирского водохранилища // Вода: химия и экология. 2012. № 6. С. 3–9.
- Толкачев Г.Ю. Оценка влияния поровых растворов донных отложений и подземных вод на качество воды Иваньковского водохранилища // Международ. науч.-исследовател. журн. 2019. Т. 83. № 5. Ч. 1. С. 48–52.
- Юрьев Д.В., Вирцавс М.В., Роне В.Ф., Вирцава Д.К., Ермаков С.С. Эколого-геохимическая характеристика осадков в системе вода–дно: роль металлов переходной группы в деструкции Cорг // Регионал. геология и металлогения. 2006. № 27. С. 168–182.
- Янин Е.П. Техногенные речные илы (условия формирования, вещественный состав, геохимические особенности). М: РСО, 2018. 415 с.
- Brumbaugh W.G., Ingersoll C.G., Kemble N.E., May T.W., Zajice J.L. Chemical characterization of sediments and pore water from the Upper Clark Fork river and Milltown reservoir, Montana // Environ. Toxicol. Chem. 1994. V. 13. № 12. P. 1971–1983.
- Chapman P.M., Wang F., Germano J.D., Batley G. Pore water testing and analysis: the good, the bad, and the ugly // Mar. Pollution Bull. 2002. V. 44. P. 359–366.
- Lesven L., Lourino-Cabana B., Billon G., Recourt P., Ouddane B., Mikkelsen O., Boughriet A. On metal diagenesis in contaminated sediments of the Deûle river (northern France) // Applied Geochem. 2010. V. 25. P. 1361–1373.
- Li Y.H., Gregory S. Diffusion of ions in sea water and in deep-sea sediments // Geochim. Cosmochim. Acta. 1974. V. 38. P. 703–714.
- Liu Y., Yu H., Sun Y., Chen J. Novel assessment method of heavy metal pollution in surface water: A case study of Yangping River in Lingbao City, China // Environ. Engineering Res. 2017. V. 22. № 1. P. 31–39.
- Ololade I.A., Lajide L., Ololade O.O., Adeyemi O. Metal partitioning in sediment pore water from the Ondo coastal region, Nigeria // Toxicol. Environ. Chem. 2011. V. 93. № 6. P. 1098–1110.
- Opp C., Hahn J., Zitzer N., Laufenberg G. Heavy Metal Concentrations in Pores and Surface Waters during the Emptying of a Small Reservoir // J. Geosci. Environ. Protection. 2015. № 3. P. 66–72.
- Özşeker K. Investigation of Sediment Pore Water Heavy Metal (Cu and Pb) Geochemistry in Deriner Dam Lake, Artvin, Turkey // ActAquaTr. 2019. V. 15. № 1. P. 60–67.
- Song J., Yang X., Zhang J., Long Y., Zhang Y., Zhang T. Assessing the Variability of Heavy Metal Concentrations in Liquid-Solid Two-Phase and Related Environmental Risks in the Weihe River of Shaanxi Province, China // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2015. V. 12. P. 8243–8262.
- Sutherland R.A. Bed sediment-associated trace metals in an urban stream, Oahu, Hawaii // Environ. Geol. 2000. V. 39. P. 611–627.
- Wen S., Shan B., Zhang H. Metals in sediment/pore water in Chaohu Lake: Distribution, trends and flux // J. Environ. Sci. 2012. V. 24. № 12. P. 2041–2050.
- Ullman W.J., Sandstrom M.W. Dissolved nutrient fluxes from the nearshore sediments of Bowling Green Bay, central Great Barrier Reef lagoon (Australia) // Estuar. Coast Shelf S. 1987. V. 24. P. 289–303.
- Zhao Z., Li S., Wang S., Liao J., Lu W., Tan D., Yang D. Heavy metal characteristics in porewater profiles, their benthic fluxes, and toxicity in cascade reservoirs of the Lancang River, China // Environ. Sci. Pollution Res. 2022. V. 29. P. 36013–36022.
- Zhu X., Shan B., Tang W., Li S., Rong N. Distributions, fluxes, and toxicities of heavy metals in sediment pore water from tributaries of the Ziya River system, northern China // Environ. Sci. Pollut. Res. 2016. V. 23. P. 5516–5526.
Supplementary files