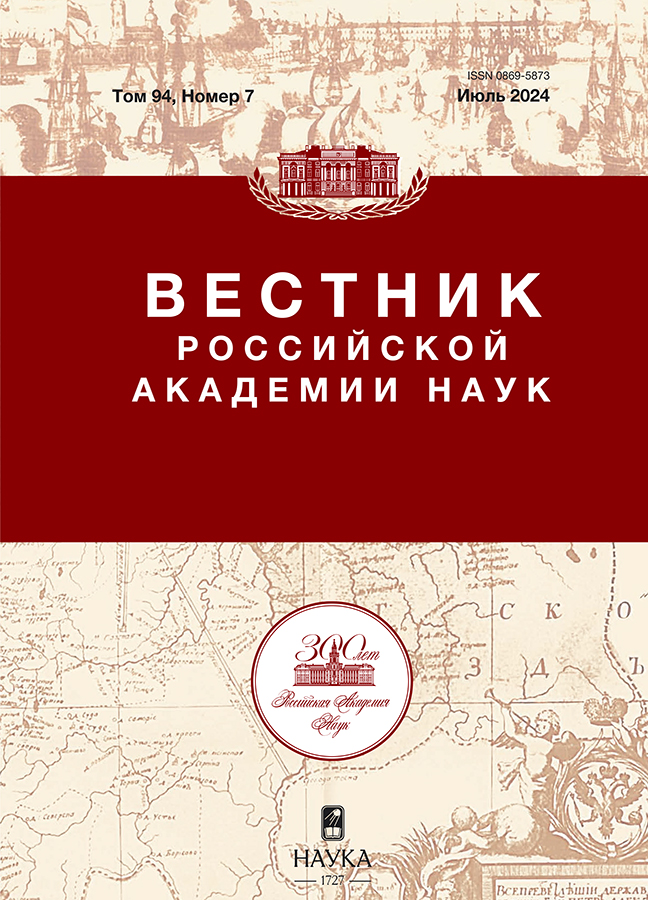Academic diplomas of the XVIII century
- Authors: Shchedrova I.M.1
-
Affiliations:
- St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 94, No 7 (2024)
- Pages: 635-645
- Section: К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5873/article/view/659773
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869587324070042
- EDN: https://elibrary.ru/FMPHPM
- ID: 659773
Cite item
Abstract
The article is based on the report presented on March 12, 2024 at the International Conference of the St. Petersburg branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences “Miller Readings – 2024”. Based on the materials stored in the ARAN SPbF, the history of the diploma of the St. Petersburg Academy of Sciences, an official document confirming membership in the Academy, has been restored. The appearance of the first academic diplomas (as well as its changes during 1735–1765), the time and frequency of their production and presentation, and the categories of diploma holders who were awarded them are established.
Full Text
About the authors
I. M. Shchedrova
St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: schedrova@bk.ru
заместитель директора по обеспечению сохранности фондов
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Charters of the Russian Academy of Sciences, 1724–2009. Moscow: Nauka, 2009. (In Russ.)
- SPbB ARAS. F. 3. Op. 1. D. 583. (In Russ.)
- Materials for the history of the Imperial Academy of Sciences. Vol. 1: 1716–1730. St. Petersburg: Printing house of IAS, 1885. (In Russ.)
- Minutes of meetings of the Imperial Academy of Sciences from 1725 to 1803. Vol. 1: 1725–1743. St. Petersburg: Printing house of IAS, 1897. (In Russ.)
- Chronicle of the Russian Academy of Sciences. Vol. 1: 1724—1802. St. Petersburg: Nauka, 2000. (In Russ.)
- SPbB ARAS. F. 3. Op. 2. D. 136. (In Russ.)
- Mishenkova M.V., Shchedrova I.M. Johann-Albrecht Korff // At the head of the leading scientific class of Russia. Essays on the life and work of the presidents of the Imperial St. Petersburg Academy of Sciences. 1725–1917. St. Petersburg, 2000. (In Russ.)
- Tunkina I.V. On the history of the first academic seals // Historical Notes. 2023, no. 22, pp. 247–260. (In Russ.)
- SPbB ARAS. R. IV. Op. 4. D. 1. (In Russ.)
- SPbB ARAS. R. XI. Op. 1. D. 6. (In Russ.)
- SPbB ARAS. F. 3. Op. 1. D. 591. (In Russ.)
- SPbB ARAS. R. I. Op. 64. D. 4/1. (In Russ.)
- Peter the Great and foundation of St. Petersburg Academy of Sciences: documents and materials / Executive ed. I.V. Tunkina. St. Petersburg: Nestor-Istoria, 2022. (In Russ.)
- SPbB ARAS. R. I. Op. 64. D. 4. (In Russ.)
- SPbB ARAS. F. 136. Op. 1. D. 272. (In Russ.)
- SPbB ARAS. R. I. Op. 64. D. 5/1. (In Russ.)
- SPbB ARAS. F. 3. Op. 1. D. 105. (In Russ.)
- Russian Academy of Sciences. Personnel. V. 1: 1724–1917. Moscow: Nauka, 2009. (In Russ.)
- Minutes of meetings of the Imperial Academy of Sciences from 1725 to 1803. Vol. 2: 1744–1770. St. Petersburg: Printing house of IAS, 1899. (In Russ.)
- SPbB ARAS. F. 3. Op. 1. D. 116. (In Russ.)
- SPbB ARAS. F. 3. Op. 1. D. 121. (In Russ.)
- SPbB ARAS. F. 3. Op. 1. D. 151. (In Russ.)
- SPbB ARAS. F. 20. Op. 2. D. 6. (In Russ.)
- SPbB ARAS. Fund case no. 20. (In Russ.)
- Anfertyeva A.N. Kirill Grigorievich Razumovsky // At the head of the leading scientific class of Russia. Essays on the life and work of the presidents of the Imperial St. Petersburg Academy of Sciences. 1725–1917. St. Petersburg, 2000. (In Russ.)
- SPbB ARAS. F. 3. Op. 1. D. 190. (In Russ.)
- SPbB ARAS. F. 141. Op. 1. D. 1. (In Russ.)
- SPbB ARAS. Fund case no. 141. (In Russ.)
- Dolgopolova E.V. Kirill Grigorievich Razumovsky // The Actual Past: Interaction and Balance of Interests of the Academy of Sciences and the Russian State in the XVIII – early XX centuries: Essays on History / Ed. and comp. I.V. Tunkina. 2 vols. Vol. 1. St. Petersburg: Renome, 2016. (In Russ.)
Supplementary files