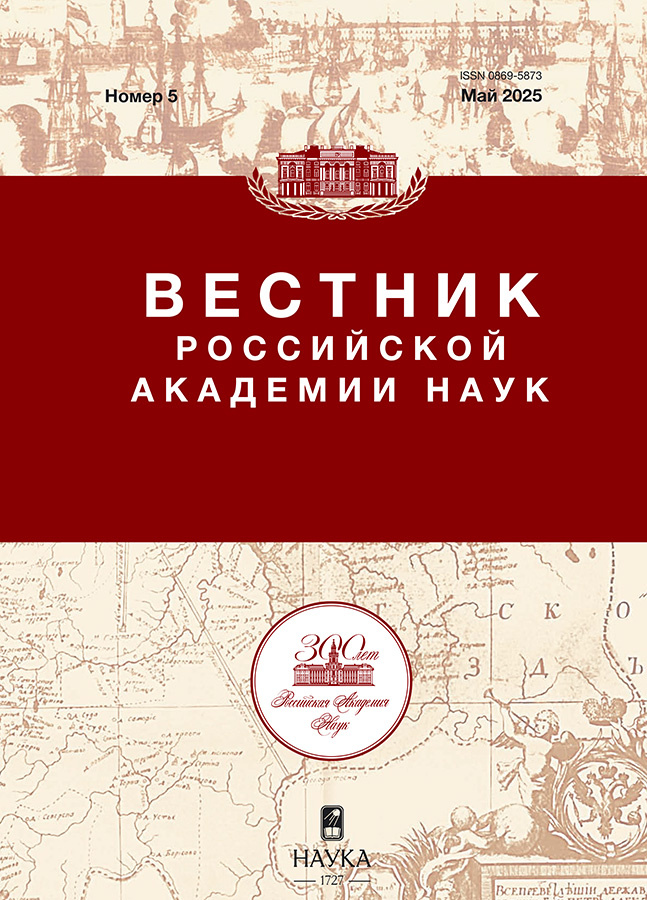“Нуждается союз в общесоюзной академии…” Выдержка из стенограммы заседания фракции РКП(б) 3-й сессии ЦИК СССР 2-го созыва 5 марта 1925 года
- Авторы: Цыпкина А.Г.1
-
Учреждения:
- Институт всеобщей истории РАН
- Выпуск: Том 95, № 5 (2025)
- Страницы: 68-82
- Раздел: БЫЛОЕ
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5873/article/view/686685
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869587325050074
- EDN: https://elibrary.ru/EKPZSP
- ID: 686685
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Настоящая публикация представляет собой выдержку из стенограммы заседания фракции РКП(б) 3-й сессии ЦИК СССР 2-го созыва в Тифлисе 5 марта 1925 г., на котором обсуждался вопрос о присвоении Российской академии наук всесоюзного статуса в связи с необходимостью утверждения её нового устава. В предисловии рассмотрены предпосылки этого решения, а также различные мнения по этому поводу членов ЦИК, представителей академии, руководителей Главнауки, Наркомпроса РСФСР и других партийных делегатов.
Полный текст
Об авторах
Анна Георгиевна Цыпкина
Институт всеобщей истории РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: anna021090@yandex.ru
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС в 1922–1952 гг. Т. 1 / Сост. В.Д. Есаков. М.: РОССПЭН, 2000. The Academy of Sciences in the decisions of the Politburo of the Central Committee of the RCP(b) – VKP(b) – CPSU in 1922–1952. Vol. 1 / Comp. V.D. Esakov. Moscow: ROSSPEN, 2000. (In Russ.)
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р–8429. Оп. 1. Д. 54. The State Archive of the Russian Federation. F. R–8429. Op. 1. D. 54. (In Russ.)
- Организация науки в первые годы советской власти (1917–1925). Сб. документов / Отв. ред. К.В. Островитянов. Ленинград: Наука, 1968. The organization of science in the early years of Soviet power (1917–1925). Collection of documents / Ed. by K.V. Ostrovityanov. Leningrad: Nauka, 1968. (In Russ.)
- Максимова О.Д. О признании Российской академии наук высшим учёным учреждением Союза ССР в 1924–1925 гг. // Роль государства в развитии науки: историко-правовой аспект. Сборник статей Всероссийской междисциплинарной научной конференции с международным участием. М., 2021. С. 82–93. Maksimova O.D. On the recognition of the Russian Academy of Sciences as the highest scientific institution of the USSR in 1924–1925 // The role of the state in the development of science: historical and legal aspect. Collection of articles of the All-Russian interdisciplinary Scientific Conference with international participation. Moscow, 2021. Pp. 82–93. (In Russ.)
- Басаргина Е.Ю. Петербургская академия наук и Международная ассоциация академий // Петербургская академия наук в истории академий мира. Т. 2. СПб.: С.-Петерб. науч. центр, 1999. С. 171–180. Basargina E.Yu. St. Petersburg Academy of Sciences and the International Association of Academies // St. Petersburg Academy of Sciences in the history of the Academies of the World. Vol. 2. St. Petersburg: St. Petersburg Scientific Center, 1999. Pp. 171–180. (In Russ.)
- Уставы Академии наук СССР (1724–1974) / Отв. ред. Г.К. Скрябин. М.: Наука, 1975. The Charter of the Academy of Sciences of the USSR (1724–1974) / Ed. by G.K. Scriabin, Moscow: Nauka, 1975. (In Russ.)
- Орёл В.М. Битва со здравым смыслом // Вестник РАН. 1994. № 4. С. 366–375. Orel V.M. The battle with common sense // Herald of the Russian Academy of Sciences. 1994, no. 4, pp. 366–375. (In Russ.)
- Государственный архив Российской Федерации. Р-8429. Оп. 1. Д. 8. Доклад об Академии наук, 1926 г. The State Archive of the Russian Federation. R-8429. Op. 1. D. 8. Report on the Academy of Sciences, 1926. (In Russ.)
- Летопись Российской академии наук (1901–1934). Т. IV / Отв. ред. Э.И. Колчинский, Г.И. Смагина. СПб.: Наука, 2007. The Chronicle of the Russian Academy of Sciences (1901–1934). Vol. IV / Ed. by E.I. Kolchinsky, G.I. Smagina. St. Petersburg: Nauka, 2007. (In Russ.)
Дополнительные файлы
Доп. файлы
Действие
1.
JATS XML
2.
Участники торжественного 1-го заседания Всесоюзной академии наук. 1925 г. Правая сторона – президиум АН СССР (слева направо): вице-президент АН СССР академик А.В. Стеклов, президент АН СССР академик А.П. Карпинский, непременный секретарь академик С.Ф. Ольденбург. За столом в глубине комнаты – члены Отделения русского языка и словесности (справа налево): Е.Ф. Карский, В.Н. Перетц, Б.М. Ляпунов, Н.П. Лихачёв. Слева за первым столом напротив президиума – члены Историко-филологического отделения (слева направо): И.Ю. Крачковский, С.Ф. Платонов, Ф.И. Успенский, П.А. Лавров, Ф.И. Щербатский, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг. У левой стены – Отделение физико-математических наук (слева направо): А.Е. Ферсман, С.П. Костычев, В.Л. Омелянский.
Скачать (476KB)