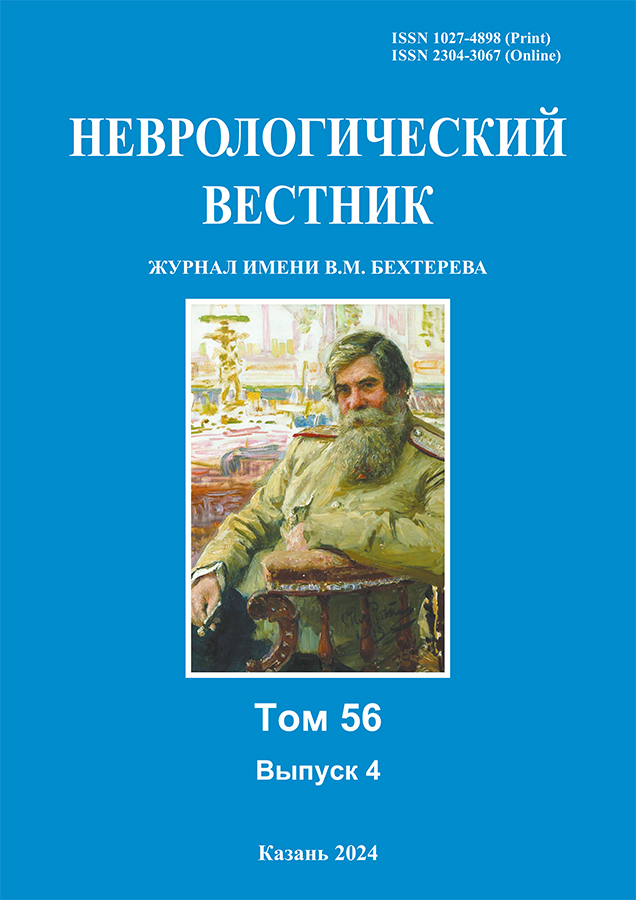Значение психологического функционирования родственников как фактора стабилизации ремиссий у больных с аффективными расстройствами: систематический обзор
- Авторы: Бочаров В.В.1,2,3, Шишкова А.М.1, Корман Т.А.1, Сарайкин Д.М.1, Винникова А.Ю.1, Буева Ю.А.1
-
Учреждения:
- Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
- Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Выпуск: Том LVI, № 4 (2024)
- Страницы: 411-425
- Раздел: Обзоры
- Статья получена: 30.07.2024
- Статья одобрена: 01.10.2024
- Статья опубликована: 19.12.2024
- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/634704
- DOI: https://doi.org/10.17816/nb634704
- ID: 634704
Цитировать
Аннотация
Обоснование. Биопсихосоциальный подход в понимании этиопатогенеза аффективных расстройств определяет важность изучения связи между социально-психологическими факторами, в частности характеристиками микросоциального окружения больного, и течением заболевания.
Цель. Анализ литературных данных о психологических характеристиках семейного окружения больного и связи этих переменных с показателями течения болезни при аффективных расстройствах.
Материалы и методы. При проведении обзора применяли критерии и требования PRISMA. Проводили систематический электронный поиск в базах данных Pubmed, Google Scholar, ScienceDirect и eLibrary, а также ручной поиск статей.
Результаты. В обзор отобрано 21 исследование, включающее в общей сложности 3166 респондентов, из них 2320 пациентов и 846 родственников. Распределение по диагнозам пациентов было следующим: 65,90% — биполярное аффективное расстройство, 20,52% — рекуррентное депрессивное расстройство, 4,84% — шизоаффективное расстройство, 8,70% — другие неуточнённые аффективные расстройства. Распределение родственников по характеру родства: 57,1% — партнёры и супруги, 20,2% — родители, 8,2% — дети, 1,9% — сиблинги, 12,6% — другие родственники и опекающие близкие. Установлено, что особенности семейного функционирования больного являются важным фактором при оценке течения аффективных расстройств. Обнаружено 5 относительно автономных направлений исследований, описывающих соотношение феноменов микросоциального окружения с течением аффективных расстройств: изучение социальной интеграции и поддержки больного, общее семейное функционирование, эмоциональная экспрессия и типы привязанности в семье, бремя болезни.
Заключение. Дальнейшее изучение психосоциальных факторов в контексте течения аффективных расстройств представляется одним из перспективных направлений исследований, поскольку позволяет раскрыть важные аспекты пато- и саногенеза. Наблюдается острая нехватка отечественных исследований в данной области, которая во многом определяется дефицитом психодиагностических методов и технологий оценки. Адаптация и разработка таких методов является важной задачей современного этапа развития клинической психологии.
Полный текст
Обоснование
По данным Всемирной организации здравоохранения [1], аффективные расстройства (АР) на современном этапе являются наиболее часто выявляемой патологией в психиатрии. Этот вид патологии представляет собой широкую группу психических расстройств, связанных с эмоциональными нарушениями разной выраженности, расстройствами настроения и психической активности, разнообразными нарушениями сна и бодрствования. По МКБ-10 к этой группе относят биполярное аффективное расстройство (БАР), рекуррентное депрессивное расстройство (РДР), маниакальный и депрессивный эпизоды, хроническое расстройство настроения и другие неуточненные АР [2]. Заболевание характеризуется высоким риском смертности, в том числе в результате суицида и коморбидных соматических заболеваний [3]. Межличностные отношения больных с АР часто значительно страдают как во время мании, так и при депрессии [4–6].
Применение фармакотерапии в настоящее время считается ведущим методом в лечении АР, однако не всегда приводит к полному исчезновению симптомов и стабилизации ремиссии у таких больных. Так, до 70% пациентов с АР имеют рецидивы в течение двух лет после острого эпизода, не менее 50% — испытывают симптомы аффективных нарушений между эпизодами [7–9].
Результаты исследований отражают мультифакторную этиологию АР, предполагающую сложную взаимообусловленность генетических, биологических и психосоциальных компонентов. Современное понимание этиопатогенеза этих заболеваний, осуществляемое через призму биопсихосоциального подхода, определяет важность изучения связи между биологической уязвимостью и средовыми воздействиями, в частности, социально-психологическими стрессорами и циклами заболевания.
Многочисленные исследования, объединённые в систематические и метааналитические обзоры, свидетельствуют о пагубном влиянии семейной дисфункциональности на формирование аффективной сферы детей и подростков. Например, в качестве значимых детерминант развития депрессивной симптоматики у подростков выступают наличие внутрисемейных, в том числе скрытых, родительских конфликтов, низкая сплочённость семьи, субъективно воспринимаемые подростком родительский психологический контроль и критическое отношение, низкий уровень воспринимаемой семейной поддержки, ощущение недостатка родительского тепла [10–12].
Исследования, посвящённые семьям взрослых больных, встречаются значительно реже. В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе не удалось обнаружить систематических обзоров, посвящённых поиску и систематизации данных о длительности и глубине ремиссии в контексте их связи с индивидуально-психологическими особенностями, поведением, психическим состоянием и семейным функционированием близких, вовлечённых в опеку взрослых пациентов с АР.
Цель обзора — восполнение существующего пробела в области обобщения информации о психологических характеристиках семейного окружения больного с АР и связи этих переменных с его психопатологическим статусом.
Материалы и методы
При проведении обзора мы руководствовались критериями и требованиями PRISMA [13].
Компоненты, определяющие стратегию поиска и отбора исследований: 1) популяция пациентов или рассматриваемые заболевания; 2) вмешательства или воздействия; 3) группа сравнения; 4) результат или конечная точка; 5) дизайн исследования. Применительно к настоящему обзору соответственно: 1) пациенты с АР в возрасте 18 лет и старше, а также лица в возрасте 18 лет и старше, ухаживающие за членом семьи, страдающим АР; 2) исследование должно включать чёткое описание диагностических процедур и методов исследования, психотерапевтических или психообразовательных вмешательств при наличии; 3) без ограничений; 4) данные о психопатологическом статусе пациентов с АР (как в период рецидива, так и ремиссии) и его связи с индивидуально-психологическими особенностями, поведением, психическим состоянием и семейным функционированием близких, вовлечённых в опеку; 5) описательные/обсервационные/интервенционные (исследования популяционного среза — кросс-секционные, лонгитюдные исследования популяционного среза, рандомизированные, нерандомизированные, проспективные, ретроспективные), исключение: индивидуализированные исследования (клинические случаи); методы: количественные/качественные/смешанные.
В качестве дополнительных критериев включения выступали язык публикации (русский, английский) и тип публикации (полнотекстовые, за исключением интервью и систематических литературных обзоров).
Стратегии поиска и выбора исследований
В обзоре были использованы две поисковые стратегии. Во-первых, по конкретным ключевым словам провели систематический электронный поиск в четырёх базах данных: Pubmed, Google Scholar, ScienceDirect и eLibrary.
При поиске использовали комбинации слов из четырёх категорий: 1) родственники: caregiver, informal caregivers, carer, family caregiver, family, spouse, relatives, significant others; 2) нозология: affective disorders, bipolar disorder, depression, sleep disorders, sleep disturbance, insomnia; 3) психологическое функционирование: psychological functioning, mental state, personality traits, personal characteristics, characterological features, psychological characteristics, personality attitudes, beliefs, values, family functioning, family interaction, quality of life, psychological well-being, burden, burnout, psychopathological symptoms; 4) рецидив: relapse; 5) ремиссия: remission, persistence of remission, recurrence of remissions, stabilization of remissions, depth of remission, prognosis for remission, predictors, protectors, predictors of remission, protectors of remission, successfully maintains remission, long-term remission.
Для поиска в eLibrary использовали как комбинации вышеприведённых английских, так и русских слов: 1) родственники, семья, супруги, жёны, мужья, близкие; 2) аффективные расстройства, биполярное расстройство, биполярное аффективное расстройство, БАР, маниакально-депрессивное расстройство, маниакально-депрессивный психоз, МДП, циклотимия, депрессия, гипомания, дисфория, дистимия, нарушения сна, инсомния; 3) психологическое функционирование: психическое состояние, личностные особенности, личностные характеристики, характерологические особенности, психологические особенности, личностные установки, убеждения, ценностные ориентации, семейное функционирование, семейное взаимодействие, семейные факторы, качество жизни, психологическое благополучие, бремя, выгорание, психопатологическая симптоматика; 4) рецидив; 5) ремиссия, устойчивость ремиссии, стабилизация ремиссии, глубина ремиссии, прогноз ремиссии, предикторы, протекторы, предикторы ремиссии, протекторы ремиссии.
Все статьи, опубликованные до апреля 2024 г., были отобраны. В качестве второй стратегии выступал ручной поиск статей по релевантным ссылкам в списках литературы анализируемых источников.
Результаты
По результатам поиска в электронных базах данных и ручного поиска было выявлено 548 статей. После применения критериев отбора 21 статья была включена в обзор (рис. 1).
Рис. 1. Этапы отбора статей.
Fig. 1. Article selection stages.
Из 21 исследования 6 имели кросс-секционный дизайн, 7 — относились к рандомизированным контролируемым исследованиям, 6 — к проспективным, 2 — к лонгитюдным. Наибольшее число работ представлено авторами из США — 9 [14–22], по две — из Испании [23, 24], России [25, 26], Нидерландов [27, 28], по одной — из Турции [29], Индии [30], Великобритании [31], Германии [32]. В публикациях также было представлено 2 совместных проекта [33, 34].
Основные социально-демографические и клинические характеристики исследуемых
Общее число респондентов, принявших участие в анализируемых исследованиях, составляет 3166 человек, из них 2320 пациентов и 846 родственников. Пациентов и их близких совместно изучали в 9 исследованиях, в 12 — изучали только пациентов. Работ, посвящённых исключительно исследованию родственников, не обнаружено.
Средний возраст пациентов — 40,99 года (SD=11,78), одно исследование не было включено в расчёт среднего возраста и стандартного отклонения, так как возраст пациентов не был указан [25]. В 19 работах указывается соотношение по полу пациентов в выборке. Исходя из представленных данных большинство пациентов — женщины (60%). В анализируемых исследованиях у пациентов было следующее распределение по диагнозам (перевод данных с английского языка осуществляли в соответствии с международной статистической классификацией болезни и проблем, связанных со здоровьем — МКБ-10): 65,90% — БАР, 20,52% — РДР, 4,84% — шизоаффективное расстройство, 8,70% — другие аффективные расстройства, без уточнения авторами. Несмотря на то что шизоаффективные расстройства по МКБ-10 относят к патологии шизофренического спектра, наличие выраженного аффективного компонента, по нашему мнению, позволяет отнести эту группу больных к рассматриваемому в этой статье контингенту с нарушениями аффективной сферы.
Возраст родственников контролировался только в четырёх исследованиях [19, 24, 28, 32], средний возраст — 48,38 года (SD=13,2). Соотношение родственников по полу не удалось обнаружить в большей части рассматриваемых исследований. Характер родства был указан в семи рассматриваемых публикациях [16, 17, 22, 24, 28, 32, 34], включавших 525 родственников. По характеру родства распределение было следующим: 57,1% — партнёры и супруги, 20,2% — родители, 8,2% — дети, 1,9% — сиблинги, 12,6% — другие родственники и опекающие близкие.
Девять исследований включали повторные обследования пациентов, в трёх из них проводились повторные обследования родственников. В исследованиях с повторными измерениями приняли участие 1193 респондента на момент первого замера и 1021 респондент на момент повторного замера, число родственников в первом и последующих замерах соответственно 417 и 347.
Наблюдаемые феномены семейного функционирования, связанные с психопатологическим статусом больных с АР
При анализе результатов исследований, вошедших в обзор, выделено 5 направлений, которые, несмотря на пересечение тематик, можно рассматривать в качестве самостоятельных векторов в области изучения взаимосвязи семейного функционирования, формирования ремиссий и прогноза рецидивов у пациентов с АР. При описании выделенных направлений сначала представим тематику исследований, рассматривающих семью в широком социальном контексте, затем перейдём к вопросам общего семейного функционирования и далее — к частным аспектам внутрисемейных отношений, ассоциированным с ремиссией/рецидивом у таких больных.
Семья как поддерживающая социальная система
В качестве одной из популярных теоретических моделей, определяющих направление исследований в области изучения социального функционирования больных с АР, современные исследователи используют модель социальных сетей (social network) [35]. В рамках данного направления исследуются структура, количество и частота социальных контактов, размер и плотность сетей социального взаимодействия. Ещё одним важным изучаемым показателем является уровень социальной поддержки, определяемой как функция и качество социальных контактов. В частности, анализируются воспринимаемая доступность помощи и фактически полученная больным поддержка. В качестве основных компонентов социальной поддержки при этом рассматриваются эмоциональная, когнитивная и практическая социальная помощь.
Через призму модели социальных сетей семья рассматривается исследователями в широком смысле и определяется как группа лиц, связанных сплочёнными отношениями [36].
Для определения социальной сети больного АР применяются различные специализированные методы, в частности, «эго-центрированный анализ социальных сетей» (ego-centered social network) [36], различные шкалы оценки социальных сетей (например, шкала социальных сетей Social Network Scale — SNS) [37] и самооценочные опросники, направленные на диагностику воспринимаемой больным социальной поддержки, например, шкала межличностной поддержки (Interpersonal Support Evaluation List — ISEL) или многомерная шкала восприятия социальной поддержки (The Multidimensional Scale of Perceived Social Support — MSPSS) [21, 29].
Данные исследований, относящихся к тематике социальных сетей, показывают, что улучшение качества жизни и личностного функционирования у больных с АР связано с количеством, доступностью и частотой доверительных контактов, включённостью больного в семейные отношения, а также субъективной удовлетворённостью больного межличностными отношениями и социальной поддержкой [21, 26, 29, 30, 37]. В то же время недостаточная включённость в социальное взаимодействие и стигматизация выступают в качестве предикторов неполной ремиссии и высокой частоты госпитализаций у таких больных [25, 29].
E. Ezquiaga и соавт. [23] обнаружили, что пациенты с депрессией, которые получали более высокий уровень эмоциональной поддержки от партнёров, с большей вероятностью находились в стадии ремиссии в течение 6 мес. наблюдения. При этом влияние эмоциональной поддержки партнёров не было значимым в контексте ремиссии через 12 мес. [33]. Исследователи предположили, что такие результаты могут быть связаны с различиями в характеристиках выборки, условиях лечения и других переменных.
В исследовании L. Weinstock и I. Miller [21] ни одна из психосоциальных характеристик не являлась предиктором маниакальной симптоматики, в то время как низкая социальная поддержка являлась предиктором депрессии в течение одного года наблюдения.
Аналогичные данные получены D. Miklowitz и соавт. [17]. Авторы отмечают, что семейная поддержка выступает в качестве протектора депрессивной симптоматики при БАР и РДР, однако роль семейной поддержки в возникновении рецидивов маниакальных состояний остается непрояснённой.
Таким образом, микросоциальные факторы могут рассматриваться в качестве предикторов депрессивных, но не маниакальных состояний. Кроме того, следует отметить зависимость предсказательной силы микросоциальных характеристик от времени окончания предшествующего рецидива болезни. В этой связи следует отметить большую значимость социальной поддержки на ранних стадиях становления ремиссии (до 6 мес.) по сравнению с более поздними периодами.
Как показал анализ исследований, направленных на изучение характеристик социальной интеграции больных с АР, в качестве лиц, удовлетворённость поддержкой которых имеет решающее значение для больного, выступают члены его семьи. Изучение факторов, опосредующих взаимосвязь симптоматики, социальной интеграции и социальной поддержки у больных с АР, представляется важным в контексте профилактики и снижения выраженности социальной изоляция и самоизоляции, характерных для данной категории больных в депрессивном периоде.
Общее семейное функционирование
Ряд исследователей сфокусировали своё внимание на изучении связи течения АР с функционированием семейной системы пациента. Под семейным функционированием, как правило, понимается выполнение членами семьи определённых функций и обязанностей, направленных на достижение целей конкретной семьи [38]. Для измерения показателей семейного функционирования используются как методы объективного наблюдения, осуществляемого клиницистами (например, клиническая рейтинговая шкала McMaster Clinical Rating Scale — MCRS) [15], так и самооценочные опросники, позволяющие оценить восприятие семейных отношений членами семьи. В качестве такого опросника в анализируемых исследованиях чаще всего применялась шкала общего функционирования из схемы оценки семьи (General Functioning subscale of the Family Assessment Device — FAD-GF) [15, 21].
По данным G. Keitner и соавт. [15], исследовавших семейное функционирование больных с депрессивными расстройствами, пациенты из дисфункциональных семей характеризовались худшими показателями выздоровления ( в частности, большей выраженностью депрессивной симптоматики) по сравнению с пациентами, семейное функционирование которых было нарушено в меньшей степени. При этом особое значение имели показатели ролевого функционирования, аффективной вовлеченности и контроля поведения. Авторы отмечают, что в процессе лечения в семьях наблюдалось улучшение показателей семейного функционирования, однако такой прогресс не был плавным и устойчивым.
В отличие от вышеизложенных данных, в исследовании L. Weinstock и I. Miller [21] показатели общего семейного функционирования не обнаружили прогностического значения в отношении повторного возникновения депрессивной симптоматики у пациентов в течении года.
Таким образом, можно отметить некоторую противоречивость данных относительно взаимосвязи общего семейного функционирования и тяжести депрессии. Важно подчеркнуть, что G. Keitner и соавт. предостерегают от прямой причинно-следственной интерпретации данных о связи общего семейного функционирования и показателей течения заболевания. Из полученных данных остаётся неясным, какой вклад в нарушение семейного функционирования привносит сама болезнь, то есть определяет ли выраженность симптоматики большую дисфункциональность отношений или нарушенные семейные отношения способствуют более выраженным формам проявления психопатологии.
Роль эмоциональной экспрессии (Expressed Emotion) и характера привязанности (Attachment)
Отдельное направление исследований, включающее значительное количество работ, вошедших в настоящий обзор, посвящено изучению взаимосвязи частоты и тяжести рецидивов, а также выраженности симптоматики между эпизодами с одним из аспектов семейного функционирования больных с АР, а именно с так называемой эмоциональной экспрессией (ЭЭ).
В силу значительной распространённости исследований, посвящённых ЭЭ и специфичности изучаемого конструкта, мы остановимся на его рассмотрении несколько подробнее.
Концепция ЭЭ возникла в 1950-х гг. в результате наблюдения за семьями больных шизофренией. Английский исследователь G. Brown и его коллеги заметили, что условия проживания больных после выписки существенно влияют на возникновение у них рецидива. Рецидив значительно чаще развивался у больных, возвращавшихся в семью, по сравнению с пациентами, которые были реинтегрированы в государственные учреждения.
В настоящее время существует множество определений ЭЭ. Например, один из родоначальников концепции C. Vaughn [39] обозначает ЭЭ как показатель «эмоциональной температуры» в семье, то есть интенсивности и характера эмоциональной реакции членов семьи по отношению к больному. При этом автор отмечает, что само отношение проявляется полярностью, которая обнаруживается либо в отсутствии привязанности (отвержении больного), либо в чрезмерной навязчивой вовлечённости родственников в его жизнь (emotional overinvolvement). ЭЭ включает и ряд других деструктивных (способствующих рецидиву заболевания) поведенческих паттернов, среди которых, в частности, критическое отношение (сriticism) и враждебность (hostility) в адрес больного.
Для диагностики ЭЭ разработаны различные инструменты, в качестве классического метода выступает Кембервильское семейное интервью (Сamberwell Family Interview — CFI) [40, 41]. Данный метод представляет собой полуструктурированное интервью, в ходе которого с опекающим родственником беседуют о пациенте, симптомах его заболевания в месяцы, предшествующие ухудшению и/или госпитализации. Интервью обычно занимает около 30 мин и записывается на аудио, а затем кодируется (процесс кодировки занимает около 45 мин). Кодировка осуществляется по пяти измерениям: эмоциональная сверхволечённость, критика и враждебность рассматриваются как способствующие повышению ЭЭ, а положительные комментарии и выражение тёплого отношения — как ведущие к снижению ЭЭ. Метод характеризуется трудоёмкостью и высокой временн Ó й затратностью. Несмотря на то что данный метод принято считать золотым стандартом, в настоящем обзоре представлено лишь 2 исследования с его применением [16, 20].
В трёх исследованиях [22, 28, 32] для изучения связи ЭЭ с показателями рецидива применяли метод «Образец пятиминутной речи» (German version of the Five-Minute Speech Sample — FMSS) [42]. FMSS представляет собой более простой и короткий инструмент для измерения ЭЭ, а его оценки демонстрируют высокую степень соответствия результатам CFI. Опекающего родственника просят рассказывать о своих мыслях и чувства к пациенту в течение 5 мин, без перерыва. Интервью записывается и кодируется. Кодирование обычно занимает около 20 мин. К недостаткам метода можно отнести то, что он оценивает аспекты, относящиеся только к эмоциональной сверхволеченности и критике в адрес больного.
В качестве альтернативных интервьюированию инструментов оценки ЭЭ в изучаемых исследованиях применялись самоопросники «Шкала семейных установок» (Family Attitude Scale — FAS) [43] и «Шкала воспринимаемой критики» (Perceived Criticism Measure — PCM), предназначенные для оценки интенсивности воспринимаемой критики и эмоционального реагирования на неё как со стороны родственников, так и со стороны больного [44]. FAS применялся в одном исследовании [34], а PCM — в четырёх [18, 31, 32, 34].
Анализ статей, вошедших в настоящий систематический обзор, показал, что в большинстве исследований ЭЭ выступает как предиктор рецидивов у больных АР [20, 22, 28, 31, 34]. Исключение составляет работа K. Kronmüller и соавт. [32], изучавших связь ЭЭ с долгосрочным течением депрессии (общий период наблюдения — 10 лет) и не обнаруживших значимых прогностических корреляций. Авторы указывают на необходимость изучения факторов, которые могут частично опосредовать эффект ЭЭ на долгосрочное течение депрессии, в частности, предполагая, что прогностическая значимость ЭЭ выше для пациентов с БАР и остается непрояснённой для пациентов с РДР.
В ряде исследований семейный уровень ЭЭ и субъективная оценка пациентами выраженности критики со стороны родственников не были напрямую связаны с показателем времени до возникновения рецидива и наличием симптомов АР у пациентов при последующем наблюдении [16, 18]. В то же время авторы отмечают, что пациенты с высоким уровнем ЭЭ в семье сообщали о более высоком уровне депрессии, независимо от условий лечения, а выраженность субъективно переживаемого больным дистресса в ответ на критику со стороны родственников определяла у него б Ó льшую тяжесть депрессивных и маниакальных симптомов и меньшее количество светлых промежутков в течение года.
Интересно отметить, что в работе D. Miklowitz и соавт. [18] показатели субъективной оценки выраженности дистресса родственников в ответ на критику пациентов (методика PCM) отрицательно коррелировали с баллами пациентов по шкале Монтгомери–Асберга для оценки депрессии (Montgomery–Аsberg Depression Rating Scale — MADRS) [45], а также с баллами пациентов по шкале депрессии Бека (Beck Depression Inventory-II — BDI) [46] при последующем наблюдении. Чем сильнее родственники испытывали негативные переживания в ответ на критику больных, тем менее выраженной у последних была депрессивная симптоматика.
По мнению J. Scott и соавт. [31], воспринимаемая больным критика со стороны родственников может быть простым и надёжным клиническим предиктором рецидива АР. Высокий уровень воспринимаемой критики, плохое понимание особенностей болезни близкими людьми и неоптимальная приверженность лечению являются факторами риска повторных госпитализаций больных с БАР.
T. Simoneau и соавт. [20] отмечают связь показателей ЭЭ с общим семейным коммуникативным стилем (преобладанием негативных/позитивных вербальных и невербальных интеракций) и подчёркивают важность невербального взаимодействия с другими людьми для гармонизации показателей психического состояния больных с АР. Пациенты, у которых в процессе лечения отмечалось увеличение невербальной вовлечённости во взаимодействие с супругами или родителями, обнаружили меньшую выраженность симптомов АР через год наблюдения. В этой связи авторы указывают на важность поощрения использования пациентами невербальных компонентов в межличностном взаимодействии (например, установление зрительного контакта, применение мимики и пантомимики).
Данные относительно связи ЭЭ с эмоциональной направленностью аффективных эпизодов противоречивы. Если в одних исследования показатели ЭЭ ( в частности, критические комментарии и эмоциональная сверхвовлечённость) рассматриваются в качестве предикторов как более высокого уровня мании, так и депрессии у больных АР при последующем наблюдении [16, 18], то в других — параметры ЭЭ в большей степени являются предикторами только депрессивных фаз [22, 34].
Важно подчеркнуть, что изучение ЭЭ в семьях больных с АР часто проводится в рамках психотерапевтических, в частности психообразовательных, программ. Авторы практически единодушно отмечают эффективность таких программ для коррекции ЭЭ в семье.
В качестве ещё одного значимого аспекта внутрисемейного взаимодействия, обнаруживающего тесную связь с ЭЭ и психопатологическим статусом больных с АР, выступает характер привязанности [27, 47].
Основоположник теории привязанности J. Bowlbу при описании психосоциального развития человека базировался на представлении о том, что люди формируют устойчивые паттерны межличностного поведения посредством интернализации взаимодействий со значимыми другими (обеспечивающими уход) в младенчестве [48]. Эти паттерны обозначаются как устойчивые стили отношения (привязанности), которые впоследствии влияют на поведение человека в межличностном общении с близкими на протяжении всей жизни, особенно в ситуациях оказания или получения помощи.
Существуют различные методы изучения привязанности у взрослых. В качестве одного из наиболее популярных и вошедших в инструментарий исследования, представленного в настоящем обзоре, выступает методика «Опыт близких отношений» (Experiences in Close Relationships questionnaire — ECR-R) [49].
Модели привязанности связаны с процессами регулирования эмоций и поиском поддержки, которые, в свою очередь, могут влиять на развитие АР. Так, в исследовании, посвящённом изучению депрессивных больных, избегающий и тревожный типы привязанности рассматриваются авторами в качестве предикторов более высокой частоты возникновения рецидивов и степени тяжести депрессии, в то время как надёжный тип привязанности описывается как предиктор высокой продолжительности ремиссии, более низкой тяжести депрессии и низкой частоты рецидивов [27].
Бремя семьи
В качестве ещё одной важной темы, описывающей предмет настоящего обзора, выступает субъективное переживание родственниками больных с АР бремени болезни. Теоретический конструкт бремени основывается на стресс-ориентированных моделях оценки влияния хронической нагрузки, обусловленной необходимостью опекать больного члена семьи, на психосоциальное функционирование его родственников [50].
Описывая источники дистресса у родственников больных БАР, M. Reinares и соавт. [24] отмечают, что наиболее выраженное стрессовое воздействие связано с поведением пациента, а в качестве наиболее тревожащих проявлений такого поведения выступают гиперактивность, раздражительность, грусть и замкнутость больного. Исследованные родственники также отмечали, что испытывают значительное беспокойство относительно социальных отношений пациента и того, как болезнь повлияла на их собственное эмоциональное здоровье и жизнь в целом. В качестве особой темы выделяется переживание родственниками страха рецидивов. Несмотря на то что авторы не выявили взаимосвязи между количеством предыдущих эпизодов и выраженностью субъективного переживания бремени, уровень бремени был значительно выше у лиц, осуществляющих уход за пациентами с БАР, которые пережили рецидив в течение предыдущих двух лет. По мнению авторов, полученные данные говорят о том, что уровень бремени обратно пропорционален величине временнÓго интервала от момента последнего рецидива.
При этом важно отметить, что переживание семейного бремени опекающим родственником отрицательно влияет на ход выздоровления пациентов с БАР как в острой, так и в стабильной фазах заболевания [19]. В частности, более высокий уровень субъективно переживаемого родственниками бремени, измеряемого через 7 мес. после изначального эпизода, значительно увеличивал риск клинически значимого эпизода у пациентов с БАР через 15 мес.
В качестве измерительных инструментов для оценки выраженности объективного и субъективного бремени в приведённых в настоящем обзоре исследованиях применялся опросник оценки социального поведения (The Social Behavior Assessment Schedule — SBAS) [51].
Обсуждение
Анализ исследований, представленных в настоящем обзоре, позволяет говорить о том, что особенности семейного функционирования больного имеют существенное прогностическое значение при оценке течения АР. В настоящее время отмечается значительный дефицит отечественных исследований, направленных на изучение роли психосоциальных, в частности психологических, семейных факторов в стабилизации ремиссий у таких больных.
Результаты исследований, описанных в настоящем обзоре, согласуются с широко представленной в литературе позицией, отражающей значение социальной интеграции и поддержки больных в становлении и стабилизации ремиссии при АР [4, 5], при этом среди форм социальной поддержки важнейшую роль играет взаимодействие и помощь со стороны членов семьи больного.
В литературе представлено исследование широкого спектра факторов, опосредующих взаимосвязь состояния больного и форм семейного взаимодействия. Среди таких характеристик в первую очередь следует отметить выраженность феноменов ЭЭ, бремени болезни, а также характеристик общего семейного функционирования и типов привязанности в семье, потенциально связанных с манифестацией болезни, частотой рецидивов и другими параметрами течения АР.
Высокие показатели ЭЭ напрямую или опосредованно выступали в качестве предикторов рецидивов у больных АР в значительной части анализируемых работ [20, 22, 28, 31, 34]. В литературе является концептуальным положение о высокой прогностической значимость ЭЭ в контексте возникновения и развития заболевания у больных психиатрического профиля ( в частности, больных шизофренией и депрессией) [52–54]. Вместе с тем существуют данные о значительной культуральной обусловленности феноменов ЭЭ [55]. Это накладывает определённые ограничения при интерпретации полученных результатов и одновременно объективирует потенциальный вектор исследований, необходимых для прояснения экологической валидности феномена ЭЭ в России.
Особое внимание следует обратить на различия предсказательной способности микросоциальных факторов в прогнозировании маниакальной и депрессивной симптоматики у больных с АР. Так, микросоциальные факторы в большей степени предсказывают возникновение депрессивных, но не маниакальных состояний [17, 21, 22, 34]. Изучение факторов, опосредующих влияние семейной динамики ( в частности, тип течения, фаза болезни и срок с момента последнего рецидива), является важным для более глубокого понимания роли семьи в патогенезе АР.
Недостаточно изученной остаётся связь между течением заболевания, с одной стороны, и такими важнейшими психологическими характеристиками ближайшего окружения больного, как темпераментные особенности, акцентуации характера, механизмы психологической защиты и совладания и т.п. — с другой. Восполнение недостающих данных представляется необходимым направлением исследований в области изучения АР, поскольку позволит не только углубить знания о значении микросоциальных факторов в этиопатогенезе АР, но конкретизировать формы социально-психологической работы с больными и их родственниками как во время рецидивов, так и в период ремиссии.
В последние десятилетия отмечается активный рост средств (технологий, методов и методик) для оценки микросоциального взаимодействия психически больного (например, эго-центрированный анализ социальных сетей, образец пятиминутной речи (Five-Minute Speech Sample — FMSS), шкала семейных установок (Family Attitude Scale — FAS), шкала воспринимаемой критики (Perceived Criticism Measure — PCM) и др.). Прогресс в этой области представляется многообещающим, поскольку позволит на новом уровне решать задачи, связанные с изучением роли социального окружения на разных этапах этио- и саногенеза АР. Поскольку значительное число методов не имеет русскоязычных аналогов, адаптация существующего и разработка нового инструментария являются одной и современных задач клинической психологии.
В настоящей работе мы осознанно не анализировали существующие психообразовательные и другие интервенции для больных и их родственников ( в том числе и описанные в статьях, представленных в обзоре), а сосредоточили внимание на психологических феноменах, связанных с течением АР. Анализ существующих интервенций представляет собой отдельную задачу, осуществление которой должно опираться на предварительную работу по выявлению психосоциальных мишеней, предшествующую разработке специализированных вмешательств для данного контингента.
В качестве ограничений настоящего исследования выступает невозможность обеспечить полноту охвата всех публикаций, существующих по изучаемой тематике, в частности, по причине отсутствия доступа к полнотекстовым версиям статей. Кроме того, как уже отмечалось выше, некоторые выявленные в обзоре связи (например, связь течения АР с уровнем ЭЭ в семье) следует интерпретировать с осторожностью, опираясь на социокультурный контекст, и подвергать их последующей проверке в процессе накопления эмпирического материала.
Заключение
В настоящее время выявлены разнообразные биопсихосоциальные факторы, связанные с этиопатогенезом АР. Проведённый обзор показал, что, несмотря на убедительные данные, подтверждающие связь психологических характеристик микросоциального окружения с течением АР, требуется дальнейшее изучение характера этих взаимосвязей, а также факторов, их опосредующих. В данном направлении наблюдается значительный дефицит современных отечественных исследований, методов и технологий. Несмотря на географическое разнообразие представленных исследований, в проанализированной литературе отсутствуют верифицированные данные относительно социокультурных особенностей микросоциального окружения больного (отражающих региональную специфичность) в контексте их взаимосвязи с течением заболевания. Проведению сравнительных кросс-культурных исследований препятствует отсутствие единого психодиагностического инструментария. Дальнейшая интеграция родственников в систему лечебно-реабилитационных мероприятий с целью гармонизации их повседневного взаимодействия с пациентами ( и тем самым предотвращения неблагоприятных форм течения болезни последних) представляется одной из существенных задач современного здравоохранения.
Дополнительная информация
Приложение 1. Перечень формализованных показателей исследований, выделенный в соответствии с критериями отбора. doi: 10.17816/nb634704-4223890
Источник финансирования. Исследование выполнено в рамках государственного задания ФГБОУ «НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева» Минздрава России 2024–2026 гг. (XSOZ) 2024 0014.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.
Вклад авторов. Все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией. В.В. Бочаров — концепция и дизайн исследования, анализ и интерпретация данных, утверждение окончательного варианта; А.М. Шишкова — концепция и дизайн исследования, анализ полученных данных, построение структуры статьи, написание основной части текста; Т.А. Корман — подготовка и редактирование текста, сбор и обработка литературных источников; анализ данных; Д.М. Сарайкин — сбор и обработка литературных источников, анализ данных; А.Ю. Винникова — проведение статистического анализа; Ю.А. Буева —анализ данных.
Additional information
Appendix 1. A list of formalized research indicators highlighted in accordance with the selection criteria. doi: 10.17816/nb634704-4223890
Funding source. The study was carried out within the framework of the state assignment of the Federal State Budgetary Educational Institution “V.M. Bekhterev’ National Research Medical Center for Psychiatry and Neurology” of the Ministry of Health of the Russian Federation for 2024–2026 (XSOZ) 2024 0014.
Competing of interests. The authors declare that there are no potential conflicts of interest that require disclosure in this article.
Authors’ contribution. All authors confirm that their authorship complies with the international ICMJE criteria (all authors have made a significant contribution to the development of the concept, research, and preparation of the article, as well as read and approved the final version before its publication). V.V. Bocharov — experimental design, analysis and interpretation of data, making final edits; A.M. Shishkova — experimental design, data analysis, writing the main part of the text; T.A. Korman — preparation and editing of text, collecting and preparation of samples, data analysis; D.M. Saraykin — collecting and preparation of samples, data analysis; A.Yu. Vinnikova — statistical analysis; Iu.A. Bueva — data analysis.
Об авторах
Виктор Викторович Бочаров
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева; Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; Санкт-Петербургский государственный университет
Email: bochvikvik@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-0874-4576
SPIN-код: 2199-6745
канд. психол. наук, ведущий науч. сотрудник, рук-ль лаборатории клинической психологии и психодиагностики, доцент каф. психологии кризисных и экстремальных ситуаций, зав. каф. клинической психологии
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург; Санкт-ПетербургАлександра Михайловна Шишкова
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
Автор, ответственный за переписку.
Email: shishaspb@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9707-138X
SPIN-код: 4493-1497
канд. психол. наук, старший научный сотрудник лаборатории клинической психологии и психодиагностики
Россия, Санкт-ПетербургТатьяна Александровна Корман
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
Email: korman-t@mail.ru
ORCID iD: 0009-0007-2841-0166
SPIN-код: 4685-0420
младший научный сотрудник лаборатории клинической психологии и психодиагностики
Россия, Санкт-ПетербургДмитрий Михайлович Сарайкин
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
Email: saraikindm@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0561-4736
SPIN-код: 1854-3703
младший научный сотрудник лаборатории клинической психологии и психодиагностики
Россия, Санкт-ПетербургАнастасия Юрьевна Винникова
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
Email: vinnikovaanastasia@gmail.com
ORCID iD: 0009-0008-1425-2547
SPIN-код: 7413-1385
лаборант-исследователь лаборатории клинической психологии и психодиагностики
Россия, Санкт-ПетербургЮлия Александровна Буева
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
Email: uliabueva@gmail.com
ORCID iD: 0009-0000-3517-5140
лаборант-исследователь лаборатории клинической психологии и психодиагностики
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Казаковцев Б.А., Сидорюк О.В., Зражевская И.А., Овсянников С.А. Региональные различия в показателях первичной заболеваемости аффективными расстройствами // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2019. Т. 119, № 1–2. С. 10–16. EDN: SNBCKI doi: 10.17116/jnevro20191191210
- Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств: МКБ-10/УСД-10: Клинические описания и указания по диагностике. Санкт-Петербург: Адис, 1994.
- Angst J., Stassen H.H., Clayton P.J., Angst J. Mortality of patients with mood disorders: follow up over 34–38 years // J Affect. Disord. 2002. Vol. 68, N 2–3. P. 167–181. doi: 10. 1016/s0165-0327(01)00377-9
- Akinci E., Wieser M.O., Vanscheidt S., et al. Impairments of social interaction in depressive disorder // Psychiatry Investig. 2022. Vol. 19, N 3. P. 178–189. doi: 10.30773/pi.2021.0289
- Kupferberg A., Hasler G. The social cost of depression: Investigating the impact of impaired social emotion regulation, social cognition, and interpersonal behavior on social functioning // Journal of Affective Disorders Reports. 2023. Vol. 14, N 14. P. 100631. doi: 10.1016/j.jadr.2023.100631
- Reinares M., Vieta E., Colom F., et al. What really matters to bipolar patients' caregivers: sources of family burden // J Affect Disord. 2006. Vol. 94, N 1–3. P. 157–163. doi: 10.1016/j.jad.2006.04.022
- Смулевич А.Б., Андрющенко А.В., Романов Д.В., Захарова Н.В. Ремиссии при аффективных заболеваниях: эпидемиология, психопатология, клинический и социальный прогноз, вторичная профилактика // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014. Т. 114, № 3. С. 4–13. EDN: SDIJDN
- Gignac A., McGirr A., Lam R.W., Yatham L.N. Recovery and recurrence following a first episode of mania: a systematic review and meta-analysis of prospectively characterized cohorts // J Clin Psychiatry. 2015. Vol. 76, N 9. P. 1241–1248. doi: 10.4088/JCP.14r09245
- Simhandl C., Konig B., Amann B.L. A prospective 4-year naturalistic follow-up of treatment and outcome of 300 bipolar I and II patients // J Clin Psychiatry. 2014. Vol. 75, N 3. P. 254–262. doi: 10.4088/JCP.13m08601
- Luo R., Chen F., Ke L., et al. Interparental conflict and depressive symptoms among Chinese adolescents: A longitudinal moderated mediation model // Dev Psychopathol. 2023. Vol. 35, N 2. P. 972–981. doi: 10.1017/S0954579422000190
- Tang X., Tang S., Ren Z., Wong D.F.K. Psychosocial risk factors associated with depressive symptoms among adolescents in secondary schools in mainland China: A systematic review and meta-analysis // J Affect Disord. 2020. Vol. 263. P. 155–165. doi: 10.1016/j.jad.2019.11.118
- Miklowitz D.J., Ichinose M.C., Weintraub M.J., et al. Family conflict, perceived criticism, and aggression in symptomatic offspring of parents with mood disorders: results from a clinical trial of family-focused therapy // JAACAP Open. 2024. doi: 10.1016/j.jaacop.2024.01.008
- Liberati A., Altman D.G., Tetzlaff J., et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-fnalyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration // PLoS Med. 2009. Vol. 6, N 7. P. e1000100. doi: 10.1371/journal.pmed.1000100
- Corrigan P.W., Phelan S.M. Social support and recovery in people with serious mental illnesses // Community Ment Health J. 2004. Vol. 40, N 6. P. 513–523. doi: 10.1007/s10597-004-6125-5
- Keitner G.I., Ryan C.E., Miller I.W., et al. Role of the family in recovery and major depression // Am J Psychiatry. 1995. Vol. 152, N 7. P. 1002–1008. doi: 10.1176/ajp.152.7.1002
- Kim E.Y., Miklowitz D.J. Expressed emotion as a predictor of outcome among bipolar patients undergoing family therapy // J Affect Disord. 2004. Vol. 82, N 3. P. 343–352. doi: 10.1016/j.jad.2004.02.004
- Miklowitz D.J., George E.L., Richards J.A., et al. A randomized study of family-focused psychoeducation and pharmacotherapy in the outpatient management of bipolar disorder // Arch Gen Psychiatry. 2003. Vol. 60, N 9. P. 904–912. doi: 10.1001/archpsyc.60.9.904
- Miklowitz D.J., Wisniewski S.R., Miyahara S., et al. Perceived criticism from family members as a predictor of the one-year course of bipolar disorder // Psychiatry Res. 2005. Vol. 136, N 2–3. P. 101–111. doi: 10.1016/j.psychres.2005.04.005
- Perlick D.A., Rosenheck R.R., Clarkin J.F., et al. Impact of family burden and patient symptom status on clinical outcome in bipolar affective disorder // J Nerv Ment Dis. 2001. Vol. 189, N 1. P. 31–37. doi: 10.1097/00005053-200101000-00006
- Simoneau T.L., Miklowitz D.J., Richards J.A., et al. Bipolar disorder and family communication: effects of a psychoeducational treatment program // J Abnorm Psychol. 1999. Vol. 108, N 4. P. 588–597. doi: 10.1037//0021-843x.108.4.588
- Weinstock L.M., Miller I.W. Psychosocial predictors of mood symptoms 1 year after acute phase treatment of bipolar I disorder // Compr Psychiatry. 2010. Vol. 51, N 5. P. 497–503. doi: 10.1016/j.comppsych.2010.02.001
- Yan L.J., Hammen C., Cohen A.N., et al. Expressed emotion versus relationship quality variables in the prediction of recurrence in bipolar patients [published correction appears in J Affect Disord. 2005 Jun;86(2–3):337] // J Affect Disord. 2004. Vol. 83, N 2–3. P. 199–206. doi: 10.1016/j.jad.2004.08.006
- Ezquiaga E., García A., Bravo F., Pallarés T. Factors associated with outcome in major depression: a 6-month prospective study // Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 1998. Vol. 33, N 11. P. 552–557. doi: 10.1007/s001270050093
- Reinares M., Vieta E., Colom F., et al. What really matters to bipolar patients' caregivers: sources of family burden // J Affect Disord. 2006. Vol. 94, N 1–3. P. 157–163. doi: 10.1016/j.jad.2006.04.022
- Петрова Н.Н. Клинико-функциональная оценка ремиссии у пациентов с рекуррентной депрессией // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2019. Т. 11, № 4. С. 88–93. EDN: GXXVSN doi: 10.14412/2074-2711-2019-4-88-93
- Хритинин Д.Ф., Иванец Н.Н., Сумарокова М.А. Особенности лекарственного патоморфоза ремиссий при шизоаффективных расстройствах // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014. Т. 114, № 7. С. 23–29. EDN: STXUJF
- Conradi H.J., Kamphuis J.H., de Jonge P. Adult attachment predicts the seven-year course of recurrent depression in primary care // J Affect Disord. 2018. Vol. 225. P. 160–166. doi: 10.1016/j.jad.2017.08.009
- Honig A., Hofman A., Rozendaal N., Dingemans P. Psycho-education in bipolar disorder: effect on expressed emotion // Psychiatry Res. 1997. Vol. 72, N 1. P. 17–22. doi: 10.1016/s0165-1781(97)00072-3
- Cerit C., Filizer A., Tural Ü., Tufan AE. Stigma: a core factor on predicting functionality in bipolar disorder // Compr Psychiatry. 2012. Vol. 53, N 5. P. 484–489. doi: 10.1016/j.comppsych.2011.08.010
- Wesley M.S., Manjula M., Thirthalli J. Interepisodic functioning in patients with bipolar disorder in remission // Indian J Psychol Med. 2018. Vol. 40, N 1. P. 52–60. doi: 10.4103/IJPSYM.IJPSYM_211_17
- Scott J., Colom F., Pope M., et al. The prognostic role of perceived criticism, medication adherence and family knowledge in bipolar disorders // J Affect Disord. 2012. Vol. 142, N 1–3. P. 72–76. doi: 10.1016/j.jad.2012.04.005
- Kronmüller K.T., Backenstrass M., Victor D., et al. Expressed emotion, perceived criticism and 10-year outcome of depression // Psychiatry Res. 2008. Vol. 159, N 1–2. P. 50–55. doi: 10.1016/j.psychres.2007.07.009
- Ezquiaga E., García-López A., de Dios C., et al. Clinical and psychosocial factors associated with the outcome of unipolar major depression: a one year prospective study // J Affect Disord. 2004. Vol. 79, N 1–3. P. 63–70. doi: 10.1016/S0165-0327(02)00346-4
- Lex C., Hautzinger M., Meyer T.D. Perceived criticism and family attitudes as predictors of recurrence in bipolar disorder // Clinical Psychology in Europe. 2022. Vol. 4, N 1. P. e4617. doi: 10.32872/cpe.4617
- Gamper M. Social network theories: an overview. In: Klärner A., Gamper M., Keim-Klärner S., editors. Social Networks and Health Inequalities. New York: Springer International Publishing, 2022. P. 35–48. doi: 10.1007/978-3-030-97722-1_3
- Löwenstein H., Frank F. Social support networks of individuals with depressive disorders: A cross-sectional survey in former psychiatric inpatients in Germany // Clinical Social Work Journal. 2023. Vol. 51, N 1. P. 76–85. EDN: DFHSLG doi: 10.1007/s10615-022-00852-0
- Corrigan P.W., Phelan S.M. Social support and recovery in people with serious mental illnesses // Community Mental Health J. 2024. Vol. 40. P. 513–523. doi: 10.1007/s10597-004-6125-5
- Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. СПб.: Питер, 2008. EDN: QXSUOX
- Vaughn C. Introduction to the concept of expressed emotionality. In: Proceedings of the International Conference “Schizophrenia and the Family: Comparing Models”. Notizie ARS, 1988. P. 6–11.
- Brown G.W., Rutter M. The measurement of family activities and relationships: a methodological study // Hum Relat. 1966. Vol. 19, N 3. P. 241–263. doi: 10.1177/001872676601900301
- Vaughn C., Leff J. The measurement of expressed emotion in the families of psychiatric patients // Br J Soc Clin Psychol. 1976. Vol. 15, N 2. P. 157–165. doi: 10.1111/j.2044-8260.1976.tb00021.x
- Magana Amato A. Manual for coding expressed emotion from the five minute speech sample: UCLA Family Project. Los Angeles, CA, USA, 1989.
- Kavanagh D.J. O'Halloran P., Manicavasagar V., et al. The Family Attitude Scale: reliability and validity of a new scale for measuring the emotional climate of families // Psychiatry Res. 1997. Vol. 70, N 3. P. 185–195. doi: 10.1016/S0165-1781(97)00033-4
- Hooley J.M., Parker H.A. Measuring expressed emotion: an evaluation of the shortcuts // J Fam Psychol. 2006. Vol. 20. N 3. P. 386–396. doi: 10.1037/0893-3200.20.3.386
- Montgomery S.A., Asberg M. A new depression scale designed to be sensitive to change // Br J Psychiatry. 1979. Vol. 134. P. 382–389. doi: 10.1192/bjp.134.4.382
- Beck A.T., Steer R.A., Ball R., Ranieriet W. Comparison of Beck Depression Inventories -IA and -II in psychiatric outpatients // J Pers Assess. 1996. Vol. 67, N 3. P. 588–597. doi: 10.1207/s15327752jpa6703_13
- Cherry M.G., Taylor P.J., Brown S.L., Sellwood W. Attachment, mentalisation and expressed emotion in carers of people with long-term mental health difficulties // BMC Psychiatry. 2018. Vol. 18, N 1. P. 257. doi: 10.1186/s12888-018-1842-4
- Bowlby J. Attachment and loss: volume II. Separation: anxiety and anger. London: Penguin Books, 1973.
- Conradi H.J, Gerlsma C, Van Duijn M, De Jonge P. Internal and external validity of the experiences in close relationships questionnaire in an American and two Dutch samples // Eur J Psychiatry. 2006. Vol. 20. P. 258–269. doi: 10.4321/S0213-61632006000400006
- Шишкова А.М., Бочаров В.В. Эмоциональное выгорание родственников больных с химической зависимостью: методология и инструментарий оценки. СПб.: Нестор-История, 2021. EDN: EZFDVW
- Platt S., Weyman A., Hirsch S., Hewett S. The Social Behaviour Assessment Schedule (SBAS): rationale, contents, scoring and reliability of a new interview schedule // Soc Psychiatry. 1980. Vol. 15. P. 43–55. doi: 10.1007/BF00577960
- Бочаров В.В., Шишкова А.М., Корман Т.А. Психологические характеристики жён пациентов, страдающих героиновой наркоманией, и жён пациентов, страдающих шизофренией. В кн.: Васильева А.В., Караваева Т.А. Женское психическое здоровье: от истерии к гендерно-сенситивному подходу. СПб.: Алеф-Пресс, 2020. С. 51–81. EDN: GULIYZ
- Ma C.F., Chan S.K.W., Chung Y.L., et al. The predictive power of expressed emotion and its components in relapse of schizophrenia: a meta-analysis and meta-regression // Psychological Medicine. 2021. Vol. 51, N 3. P. 365–375. doi: 10.1017/S0033291721000209
- Fahrer J., Brill N., Dobener L.M., et al. Expressed emotion in the family: A meta-analytic review of expressed emotion as a mechanism of the transgenerational transmission of mental disorders // Front Psychiatry. 2022. Vol. 12. P. 721796. doi: 10.3389/fpsyt.2021.721796
- Bhugra D., McKenzie K. Expressed emotion across cultures // Advances in Psychiatric Treatment. 2003. Vol. 9, N 5. P. 342–348. doi: 10.1192/apt.9.5.342
Дополнительные файлы