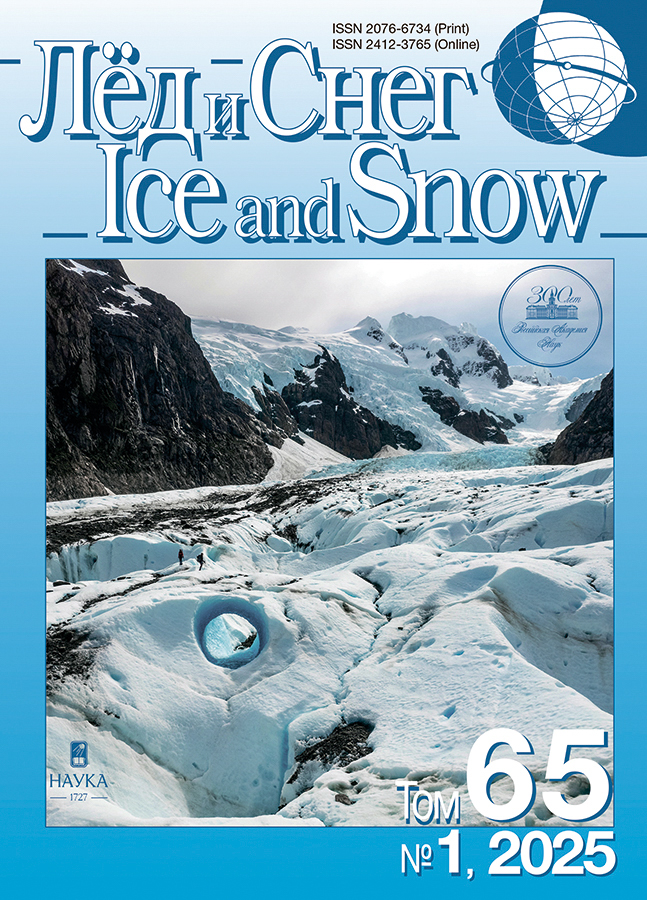Dynamics of lakes on Fedchenko Glacier from 2016 to 2021
- Authors: Koskovetskaya S.V.1
-
Affiliations:
- Federal State Educational Institution of Higher Education “National Research University “Higher School of Economics”
- Issue: Vol 65, No 1 (2025)
- Pages: 37-49
- Section: Glaciers and ice sheets
- URL: https://journals.eco-vector.com/2076-6734/article/view/684162
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2076673425010036
- EDN: https://elibrary.ru/GZLRNT
- ID: 684162
Cite item
Abstract
The aim of this work is to investigate dynamics of lakes on Fedchenko glacier on Pamir mountains, as the area growth of lakes causes faster filtration, lower surface albedo and as consequence raises speed of the glacier and intensity of melting. Lowest part of this glacier has continuous debris cover, low velocities and nearly horizontal surface, which increases the likelihood of lakes in each season. This paper provides insight into the dynamics of the total area of lakes on the last 11.5 km of Fedchenko during 2016–2021, and provides a comparison of the area within and between each season at three altitudinal levels. Lake outlines are identified by combining two indexes – Normalised Difference Water Index and Modified Soil-Adjusted Vegetation Index – which were range-cut in range to separate water from other surfaces on the glacier. The changes in the patterns of seasonal lakes dynamics can be due to various reasons, so temperature and precipitation data are used to analyze the changes in supraglacial lake regime. Result shows that lakes occupy a small percentage of the total area – about 2% for the whole period, with a minimum of 0.7% in 2016 and a maximum of 2.2% in 2020. However, there are significant changes in the dynamics of the lakes, with the amplitude of area doubling from 0.15 km2 to 0.3 km2 over the period 2016–2021, with an increase in the absolute seasonal maximum value by 0.2 km2. The regime also changes rapidly over the six years, from normal with an area peak only in late May in 2016–2018 to more chaotic regime with several peaks, usually two, in May and July, in 2019–2021. An important role in the analysis is played by two largest lakes on Fedchenko Glacier – moraine–dammed lake at the highest altitude range (3300–3600 m a.s.l.) and proglacial lake at the lowest altitude range (2900–3100 m a.s.l.) – which mainly have opposite dynamics comparing to small supraglacial lakes. They are continuously filling up until the end of ablation season, but the result shows that their relative area growth is less than growth of new smaller lakes over a period of six years. The rapid area growth and more chaotic dynamics of supraglacial lakes can indicate specific influence of climate changes on glaciers.
Full Text
About the authors
S. V. Koskovetskaya
Federal State Educational Institution of Higher Education “National Research University “Higher School of Economics”
Author for correspondence.
Email: svkoskovetskaya@edu.hse.ru
Russian Federation, Moscow
References
- The Muksu River basin (A – Fedchenko glacier system). Catalog of glaciers of the USSR. 1968, 14 (3): 8A. Hydrometeorological Publishing House. [In Russian].
- ALOS DSM: Global 30m v3.2. Retrieved from: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/JAXA_ALOS_AW3D30_V3_2 Last access: March 30, 2024
- Bazilova V., Kääb A. Mapping Area Changes of Glacial Lakes Using Stacks of Optical Satellite Images. Remote Sensing, 2022, 14 (23): 5973.
- Benn D., Bolch T., Hands K., Gulley J., Luckman A., Nicholson L., Quincey D., Thompson S., Toumi R., Wiseman S. Response of debris–covered glaciers in the Mount Everest region to recent warming, and implications for outburst flood hazards. Earth–Science Reviews. 2012, 114 (1–2): 156–174.
- Cook S.J., Quincey D. Estimating the volume of Alpine glacial lakes. Earth Surface Dynamics Discussions. 2015, 3: 559–575.
- Harmonized Sentinel-2 MSI. Retrieved from: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S2_HARMONIZED Last access: May 20, 2024.
- Lambrecht A., Mayer C., Aizen V., Floricioiu D., Surazakov A. The evolution of Fedchenko glacier in the Pamir, Tajikistan, during the past eight decades. Journ. of Glaciology. 2014, 60 (220): 233–244.
- Lambrecht A., Mayer C., Wendt A., Floricioiu D., Völksen C. Elevation change of Fedchenko Glacier, Pamir Mountains, from GNSS field measurements and TanDEM-X elevation models, with a focus on the upper glacier. Journ. of Glaciology. 2018, 64 (246): 637–648.
- Lützow N., Veh G., Korup O. A global database of historic glacier lake outburst floods. Earth Syst. Sci. Data. 2023, 15 (7): 2983–3000.
- Melling L., Leeson A., McMillan M., Maddalena J., Bowling J., Glen E., Sandberg Sørensen L., Winstrup M., Lørup Arildsen R. Evaluation of satellite methods for estimating supraglacial lake depth in southwest Greenland. The Cryosphere. 2024, 18 (2): 543–558. https://doi.org/10.5194/tc-18-543-2024
- Paul F., Bolch T., Briggs K., Kääb A., McMillan M., McNabb R., Nagler T., Nuth C., Rastner P., Strozzi T., Wuite J. Error sources and guidelines for quality assessment of glacier area, elevation change, and velocity products derived from satellite data in the Glaciers_cci project. Remote Sensing of Environment. 2017, 203: 256–275. http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2017.08.038
- RGI 7.0 Consortium. Randolph Glacier Inventory – A Dataset of Global Glacier Outlines, Version 7.0. Boulder, Colorado, USA: NSIDC: National Snow and Ice Data Center, 2023.
- Smith C.S.R. Observing the Seasonal Evolution of Supraglacial Ponds in High Mountain Asia: A Supervised Classification Approach. Apollo – University of Cambridge Repository. 2022: 1–132. https://doi.org/10.17863/CAM.89716
- Stokes C.R., Popovnin V., Aleynikov A., Gurney S.D., Shahgedanova M. Recent glacier retreat in the Caucasus Mountains, Russia, and associated increase in supraglacial debris cover and supra-/proglacial lake development. Annals of Glaciology. 2007, 46: 195–203. https://doi.org/10.3189/172756407782871468
- USGS Landsat 8 Collection 2. Retrieved from: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/LANDSAT_LC08_C02_T1_TOA Last access: May 20, 2024.
- Veettil B.K., Kamp U. Glacial Lakes in the Andes under a Changing Climate: A Review. Journ. of Earth Science. 2021. V. 32. P. 1575–1593.
- Wendleder A., Schmitt A., Erbertseder T., D’Angelo P., Mayer C., Braun Matthias H. Seasonal Evolution of Supraglacial Lakes on Baltoro Glacier from 2016 to 2020. Frontiers in Earth Science. 2021, 9: 1–16. https://doi.org/10.3389/feart.2021.725394
- Zeller L., McGrath D., McCoy S.W., Jacquet J. Seasonal to decadal dynamics of supraglacial lakes on debris-covered glaciers in the Khumbu Region, Nepal. EGUsphere. 2023: 1–27. https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1684
Supplementary files