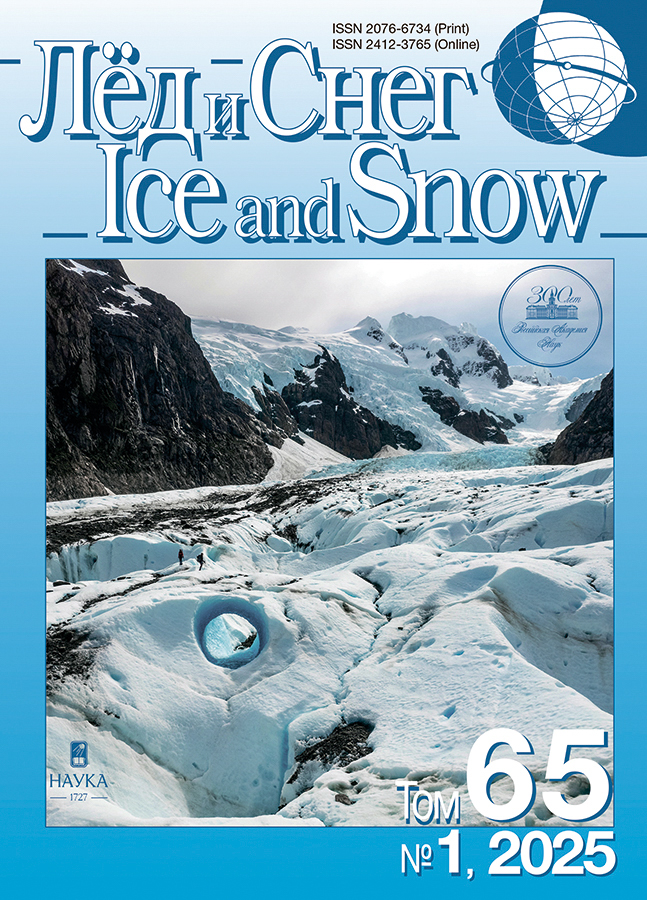Meteorological conditions and avalanche danger of winters in the Caucasus at the end of the 21st century based on the results of CMIP6 models
- Authors: Korneva I.A.1, Oleynikov A.D.2, Toropov P.A.1,2, Varentsova N.E.2, Kovalenko N.V.2
-
Affiliations:
- Institute of Geography, Russian Academy of Sciences
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 65, No 1 (2025)
- Pages: 103-119
- Section: Snow cover and avalanches
- URL: https://journals.eco-vector.com/2076-6734/article/view/684167
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2076673425010082
- EDN: https://elibrary.ru/GYSDBK
- ID: 684167
Cite item
Abstract
The paper considers a forecast of avalanche danger in the Caucasus at the end of the 21st century based on the climatic avalanche indicator criterion developed at Moscow State University, using the results of the CMIP6 Earth System Models (ESM). The quality of models’ estimates of modern winter climate in the Caucasus has been evaluated. The best models were selected, for which the average temperature error is –0.6 °C, precipitation error is 10%. According to these models’ data, by the end of the XXI century the average winter air temperature in the Caucasus will be 4–6 °C higher than the present one, and the precipitation sum will exceed the modern value by 25%. The frequency of seasons with extreme moisture will increase 2–3 times (monthly precipitation more than 100 mm). The seasonal maximum precipitation at the end of the 21st century will shift to March, while extremely dangerous avalanche winters are usually accompanied by a January maximum precipitation with a significant negative temperature anomaly. Experiments were also conducted with the numerical model SNOWPACK, which showed that despite the positive precipitation anomaly and the possible occurrence of cold winters, the most typical situation by the end of the 21st century will be the formation of a homogeneous snow column with low density, or heavily watered snow cover. Both situations are not avalanche-prone. Therefore, the background forecast of avalanche danger for the years 2071–2100 can be formulated as follows: a significant decrease in the frequency of the most destructive large avalanches from dry snow in high-mountain areas and their disappearance in mid-mountain areas, and a tendency to an increase in the number of less dangerous avalanches from loose and wet snow.
Full Text
About the authors
I. A. Korneva
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: tormet@inbox.ru
Russian Federation, Moscow
A. D. Oleynikov
Lomonosov Moscow State University
Email: tormet@inbox.ru
Russian Federation, Moscow
P. A. Toropov
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences; Lomonosov Moscow State University
Email: tormet@inbox.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
N. E. Varentsova
Lomonosov Moscow State University
Email: tormet@inbox.ru
Russian Federation, Moscow
N. V. Kovalenko
Lomonosov Moscow State University
Email: tormet@inbox.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Blagoveshenskyi V.P. Opredelenie lavinnih nagruzok. Determination of avalanche loads. Alma-Ata: Gylym. 1991: 116 p. [In Russian].
- Glazovskaya T.G., Troshkina E.S. The impact of global climate change on the avalanche regime in the former Soviet Union. Materialy glyaciologicheskih issledovanij. Data of Glaciological Studies. 1998, 84: 88–91 [In Russian].
- Zhdanov V.V. An experimental method for predicting avalanches based on neural networks. Led i Sneg. Ice and Snow. 2016, 56 (4): 502–510 [In Russian].
- Kuksova N.E., Toropov P.A., Oleynikov A.D. Meteorological conditions of extreme avalanche formation in the Caucasus mountains according to observations and reanalysis. Led i Sneg. Ice and Snow. 2021, 61 (3): 377–390 [In Russian].
- Oleynikov A.D., Volodicheva N.A., Boyarshinov A.V. Winter snowfall and avalanche activity in the Greater Caucasus during the period of instrumental observations. Materialy Glyatsiologicheskikh Issledovaniy. Data of Glaciological Studies. 2000, 88: 74–83 [In Russian].
- Oleynikov A.D., Volodicheva N.A. Extreme winters of the XX–XXI centuries. as indicators f snowfall and avalanche danger in the context of past and projected climate change. Led i Sneg. Ice and Snow. 2012, 3 (119): 52–57 [In Russian].
- Oleynikov A.D., Volodicheva N.A. Avalanche maximum winters in the Greater Caucasus during the period of instrumental observations (1968–2016). Led i Sneg. Ice and Snow. 2020, 60 (4): 521–532 [In Russian].
- Oleynikov A.D. Areas of maximum intensity of avalanche formation in the Greater Caucasus associated with large anomalies of temperature and humidity regime. Led i Sneg. Ice and Snow. 2024, 64 (2): 221–230 [In Russian].
- Semenov V.A. The connection of abnormally cold winter regimes in Russia with a decrease in the area of sea ice in the Barents Sea. Izvestiya Rossiyskoi Akademii Nauk. Fizika atmosferi i okeana. Izvestiya. Atmospheric and Oceanic Physics . 2016, 52 (3): 257–266 [In Russian].
- Toropov P.A. Assessment of the quality of reproduction by models of the general atmospheric circulation of the climate of the East European Plain. Meteorologia i Gidrologia. Russian Meteorology and Hydrology. 2005, 5: 5–21 [In Russian].
- Aleshina M.A., Semenov V.A., Chernokulsky A.V. A link between surface air temperature and extreme precipitation over Russia from station and reanalysis data. Environmental Research Letters. 2021, 16 (10): 105004.
- Chernokulsky A., Kozlov F., Zolina O., Bulygina O., Mokhov I., Semenov V. Observed changes in convective and stratiform precipitation in northern Eurasia over the last five decades. Environmental Research Letters. 2019, 14: 045001.
- Christen M., Kowalski J., Bartelt P. RAMMS: Numerical simulation of dense snow avalanches in three-dimensional terrain. Cold Regions Science and Technology. 2010, 1–2 (63): C. 1–14.
- Flato G., Marotzke J., Abiodun B., Braconnot P., Chou S.C., Collins W., Cox P., Driouech F., Emori S., Eyring V., Forest C., Gleckler P., Guilyardi E., Jakob C., Kattsov V., Reason C., Rummukainen M. Evaluation of climate models. In Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 2013: 741–882. https://doi.org/110.1017/CBO9781107415324.020
- Glazovskaya T.G. Global distribution of snow avalanches and changing activity in the Northern Hemisphere due to climate change. Annals of Glaciology. 1998, 26: 337–342.
- Glazovskaya T.G., Seliverstov Y.G. Long-term forecasting of changes of snowiness and avalanche activity in the world due to the global warming. Publikasjon – Norges Geotekniske Institutt. 1998, 203: 113–116.
- Jia K., Ruan Y., Yang Y., Zhang C. Assessing the Performance of CMIP5 Global Climate Models for Simulating Future Precipitation Change in the Tibetan Plateau. Water. 2019, 9 (11): 1771.
- Lehning M., Fierz C., Lundy C. An objective snow profile comparison method and its application to SNOWPACK. Cold Regions Science and Technology. 2001: 253–261.
- Lenderink G., Van Meijgaard E. Increase in hourly precipitation extremes beyond expectations from temperature changes // Nature Geoscience. 2008, 1 (8): 511–514.
- Meredith E.P., Semenov V.A., Maraun D., Park W., and Chernokulsky A.V. Crucial role of Black Sea warming in amplifying the 2012 Krymsk precipitation extreme. Nature Geoscience. 2015, 8 (8): 615–619.
- Min S.K., Zhang X., Zwiers F.W., Hegerl G.C. Human contribution to more intense precipitation extremes. Nature. 2011, 470 (7334): 378–381.
- Ortner G., Michel A., Spieler M.B.A., Christen M., Bühler Y., Bründl M., Bresch D.N. A novel approach for bridging the gap between climate change scenarios and avalanche hazard indication mapping. Cold Regions Science and Technology. 2025, 230: 104355.
- Reynolds R.W., Smith T.M., Liu C., Chelton D.B., Casey K.S., Schlax M.G. Daily high-resolution-blended analyses for sea surface temperature. Journal of Climate. 2007, 20 (22): 5473–5496.
- Su F., Duan X., Chen D., Xao Z., Cuo L. Evaluation of the Global Climate Models in the CMIP5 over the Tibetan Plateau. Journal of Climate. 2013, 10 (26): 3187–3208.
- Taylor K.E., Stouffer R.J., Meehl G.A. An Overview of CMIP5 and the Experiment Design. Bulletin of the American Meteorological Society. 2012, 4 (93): 485–498.
- Toropov P.A., Aleshina M.A., and Grachev A.M. Large-scale climatic factors driving glacier recession in the Greater Caucasus, 20th–21st century. Intern. Journ. of Climatology. 2019, 4703–4720.
- IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA (In press). https://doi.org/10.1017/9781009157896
Supplementary files