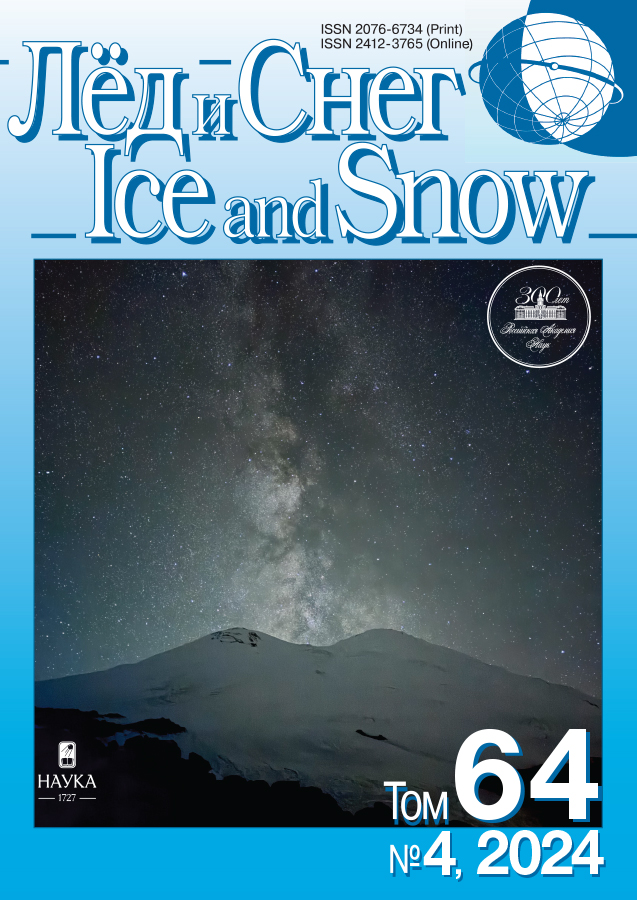Reduction of glaciers of the South Chuya Range (Altai) since the maximum of the Little Ice Age
- Авторлар: Ganyushkin D.A.1, Bantcev D.V.1, Griga S.A.1, Derkach E.S.1, Ostanin O.V.2, Gorbunova Y.A.1, Rasputina V.A.1, Chistyakov K.V.1
-
Мекемелер:
- Saint Petersburg State University
- Altai State University
- Шығарылым: Том 64, № 4 (2024)
- Беттер: 497-512
- Бөлім: Glaciers and ice sheets
- URL: https://journals.eco-vector.com/2076-6734/article/view/684213
- DOI: https://doi.org/10.31857/10.31857/S2076673424040024
- EDN: https://elibrary.ru/HTXSDL
- ID: 684213
Дәйексөз келтіру
Аннотация
The extent of glaciation of the South Chuya Range in the LIA and the analysis of its subsequent gradual reduction were assessed. Based on interpretation of Corona, Landsat-7, Sentinel-2, World View-3 satellite images and analysis of field data, the reconstruction and cataloging of glaciers for the LIA maximum, for 1962 and 2000/21 were carried out. For each time slice, the morphology of glaciers, their altitudinal and aspect distribution were analyzed, and the changes that occurred in the glaciation pattern were revealed. The range area covered by glaciers at LIA maximum is estimated as 313.19 km2. The estimate of the glacier area for 1962 is approximately 11 km2 higher than given in the USSR Glacier Inventory. Higher rates of glacier shrinkage after the LIA maximum were identified (61% of area and 59–64% of volume) than in earlier estimates by other authors (21%). The lower limit of glacier extent shifted upward by 300 m, and the altitudinal maximum of ice distribution – by 100 m. Glacier retreat accelerated at each successive stage, reaching in 2000/21 an average rate of about 1.5% per year of their area at the beginning of this last stage. Differences in the distribution of glaciers by their aspect have increased. At the last stages of glacier retreat there was an accelerated degradation of glacier tongues and disintegration of complex valley glaciers into simple valley and cirque-valley glaciers (Bolshoi Taldurinsky, Sofiysky glaciers).
Негізгі сөздер
Толық мәтін
Авторлар туралы
D. Ganyushkin
Saint Petersburg State University
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: d.ganyushkin@spbu.ru
Ресей, Saint Petersburg
D. Bantcev
Saint Petersburg State University
Email: d.ganyushkin@spbu.ru
Ресей, Saint Petersburg
S. Griga
Saint Petersburg State University
Email: d.ganyushkin@spbu.ru
Ресей, Saint Petersburg
E. Derkach
Saint Petersburg State University
Email: d.ganyushkin@spbu.ru
Ресей, Saint Petersburg
O. Ostanin
Altai State University
Email: d.ganyushkin@spbu.ru
Ресей, Barnaul
Yu. Gorbunova
Saint Petersburg State University
Email: d.ganyushkin@spbu.ru
Ресей, Saint Petersburg
V. Rasputina
Saint Petersburg State University
Email: d.ganyushkin@spbu.ru
Ресей, Saint Petersburg
K. Chistyakov
Saint Petersburg State University
Email: d.ganyushkin@spbu.ru
Ресей, Saint Petersburg
Әдебиет тізімі
- Adamenko M.F., Syubaev A.A. Dinamika klimata na territorii Gornogo Altaya v XV – XX vekah po dannym dendrohronologii. Climate dynamics in the territory of the Altai Mountains in the XV – XX centuries according to dendrochronology. Tomsk: Tomsk State University, 1977: 196–202. [In Russian].
- Galaxov V.P., Samoilova S.Yu., Shevchenko A.A., Shereme-tov R.T. Fluctuation of Maly Aktru glacier (Russian Altai) for the period of instrumental observations from 1952 to 2013. Kriosfera Zemli. Earth’s Cryosphere. 2015, 2 (19): 81–86.
- Ganyushkin D.A., Chistyakov K.V., Kunaeva E.P., Vol-kov I.V. Interpretation of glaciogenic complexes from satellite image of the Mongun-Taiga mountain range. Geografiya I Prirodny`e Resursy` Geography and Natural Resources. 2018. 1 (1): 167–177.
- Ganyushkin D.A., Konkova O.S., Chistyakov K.V., Bantsev D.V., Terekhov A.V., Kunaeva E.P., Kurochkin Yu.N., Andreeva T.A., Volkova, D.D. Shrinking of the glaciers of East Altai (Shapshal Center) after the maximum of the Little Ice Age. Led i Sneg. Ice and Snow. 2021b, 61 (4): 500–520. https://doi.org/10.31857/S2076673421040104. [In Russian].
- Ivanovskiy L.N., Panychev.V.A. Development and age of the terminal moraines of the XVII–XIX centuries. Ak-Turu glaciers in Altai. Processy sovremennogo rel’efoobrazovaniya v Sibiri. Processes of modern relief formation in Siberia. Irkutsk: V. B. Sochava Institute of Geography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 1978: 127–138. [In Russian].
- Kotlyakov V.M., Khromova T.Y., Nosenko G.A., Muraviev A.Y., Nikitin S.A. Glaciers in the Russian Mountains (Caucasus, Altai, Kamchatka) in the First Quarter of the 21st Century. Led i Sneg. Ice and Snow. 2023, 63 (2): 157–173. https://doi.org/10.31857/S2076673423020114. [In Russian].
- Macheret Yu.Ya., Kutuzov S.S., In Matskovsky. V., Lavrentiev I. On the assessment of the volume of ice of mountain glaciers. Led i sneg. Ice and Snow. 2013, 53(1): 5–15 [In Russian]. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2013-1-5-15 [In Russian].
- Nazarov A.N., Myglan V.S., Orlova V.A., Ovchinnikov I.Yu. Activity of the Malyi Aktru Glacier (Central Altai) and changes in the forest boundary in the Aktru basin for the historical period. Led i Sneg. Ice and Snow. 2016, 1 (56): 103–118. https://doi.org/10.15356/20766734-2016-1-103-118 [In Russian].
- Nazarov А.N., Solomina O.N., Myglan V.S. Absolute and relative age of moraines of the Aktru and Historical stages of glaciers of Central Altai based on lichenometry and dendrochronology. Led i Sneg. Ice and Snow. 2022, 62 (3): 387–409. https://doi.org/10.31857/S2076673422030140 [In Russian].
- Narozhny Yu.K., Okishev P.A. Dynamics of Altay glaciers in regression phase of Little Ice Age. Materialy Glyatsiologicheskikh Issledovaniy. Data of Glaciological Studies. 1999, 87: 119–123. [In Russian].
- Nikitin S.A. Regularities of the distribution of glacial ice in the Russian Altai, assessment of their reserves and dynamics. Materialy Glyatsiologicheskikh Issledovaniy. Data of Glaciological Studies. 2009, 107: 87–96. [In Russian].
- Okishev P.A. Reljef i oledenenie Russkogo Altaja. Relief and glaciation of the Russian Altai. Tomsk: Tomsk University Press, 2011: 382 p. [In Russian].
- Revyakin V.S. Glaciation of the Uzhno-Chuiskiy range on Altai. Materialy Glyatsiologicheskikh Issledovaniy. Data of Glaciological Studies. 1966, 12: 194–199.
- Sapozhnikov V.V. Katun` i eyo istoki : puteshestviya 1897–1899 godov. Katun and its sources: travels of 1897–1899. Tomsk: Steam typo-lithography by P.I. Makushin, 1901: 271 p. [In Russian].
- Toropov P.A., Aleshina M.A., Nosenko G.A., Khromova T.E., Nikitin S.A. Modern degradation of mountain glaciation of Altai, its consequences and possible causes. Meteorologia i Gidrologia. Meteorology and Hydrology. 2020, 5: 118–130. [In Russian].
- Tronov M.V. Ocherki oledeneniya Altaya. Essays of the Altai glacierization. Moscow: Geografgiz, 1949: 373 p. [In Russian]
- Barsch D. Rockglaciers: Indicators for the Present and Former Geoecology in High Mountain Environments. Berlin: Springer-Verlag, 1996: 331 p.
- Frey H., Machgut H., Huss M., Haggel S., Bayracharya S., Bolch T., Kulkarni A., Linsbauer A., Salzmann N., Stoffel M. Estimation of the volume of glaciers in the Himalayan-Karakoram region using various methods. Cryosphere. 2014, 8 (6): 2313–2333. https://doi.org/10.5194/tc-8-2313-2014
- Ganiushkin D., Chistyakov K., Kunaeva E. Fluctuation of glaciers in the southeast Russian Altai and northwest Mongolia Mountains since the Little Ice Age maximum. Environmental Earth Sciences. 2015, 3 (74): 1883–1904. https://doi.org/10.1007/s12665-015-4301-2
- Ganyushkin D., Chistyakov K., Derkach E., Bantcev D., Kunaeva E., Terekhov A., Rasputina V. Glacier Recession in the Altai Mountains after the LIA Maximum. Remote Sensing. 2022, 6 (14): 1508. https://doi.org/10.3390/rs14061508
- Ganyushkin D., Bantcev D., Derkach E., Agatova A., Nepop R., Griga S., Rasputina V., Ostanin O., Dyakova G., Pryakhina G., Chistyakov K., Kurochkin Y., Gorbunova Y. Post-Little Ice Age Glacier Recession in the North-Chuya Ridge and Dynamics of the Bolshoi Maashei Glacier, Altai. Remote Sensing. 2023, 8 (15): 2186. https://doi.org/10.3390/rs15082186
- Hugonnet R., McNabb R., Berthier E., Menounos B., Nuth C., Girod L., Farinotti D., Huss M., Dussaillant I., Brun F., Kääb A. Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century. Nature. 2021, 7856 (592): 726–731.
- Kääb A., Haeberli W., Gudmundsson G. Analysing the creep of mountain permafrost using high precision aerial photogrammetry: 25 Years of Monitoring Gruben Rock Glacier, Swiss Alps. Permafrost and Periglacial Processes. 1997, 8: 409–426.
- Kurowsky L. Die Hōhe der Schneegrenze mit besonderer Berücksichtigung der Finsteraarhorn-Gruppe. Pencks Geogr. Abhandlungen. 1891, 5: 119–160.
- Loibl D., Lemkul F., Griesinger J. Reconstruction of glacier retreat since the Little Ice Age in Southern Tibet by mapping glaciers and calculating the height of the equilibrium. Geomorphology. 2014, 214: 22–39. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2014.03.018
- Qiao B., Yi C. Reconstruction of Little Ice Age glacier area and equilibrium line attitudes in the central and western Himalaya. Quaternary International. 2017, 444: 65–75.
- Rodríguez E., Morris C.S., Belz J.E. A global assessment of the SRTM performance. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 2006, 3 (72): 249–260.
- Zemp M., Paul F., Hoelzle M., Haeberli W., Glacier fluctuations in the European Alps 1850-2000: an overview and spatio-temporal analysis of available data. In: B. Orlove, E. Wiegandt, B.H. Luckman. Darkening Peaks: Glacial Retreat, Science and Society. University of California Press, 2008: 152–167.
Қосымша файлдар