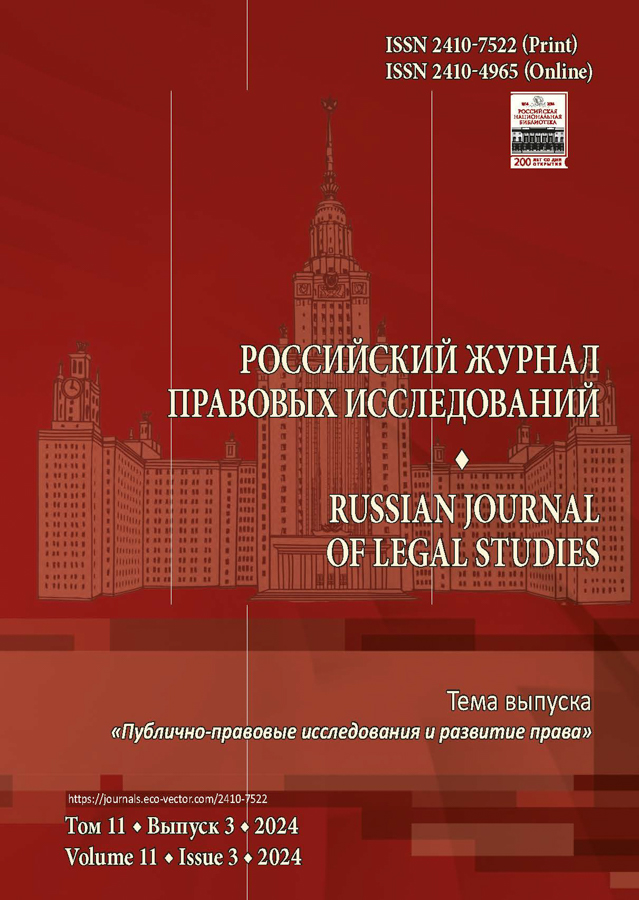Защита государством семьи, материнства, отцовства и детства сквозь призму подведомственности дел о расторжении брака
- Авторы: Шеменева О.Н.1
-
Учреждения:
- Воронежский государственный университет
- Выпуск: Том 11, № 3 (2024)
- Страницы: 53-59
- Раздел: Частно-правовые (цивилистические) науки
- Статья получена: 29.05.2024
- Статья одобрена: 13.06.2024
- Статья опубликована: 21.10.2024
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/633011
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS633011
- ID: 633011
Цитировать
Аннотация
Автором обосновывается, что в настоящее время суды не располагают ни процессуальными средствами, ни специальной профессиональной подготовкой, ни временем для решения задачи по защите прав несовершеннолетних детей при расторжении брака их родителей. Это свидетельствует о необходимости разработки более действенного внесудебного порядка осуществления реального контроля со стороны государства за соблюдением родителями прав и интересов несовершеннолетних детей в рамках бракоразводного процесса. В основу такого порядка предлагается положить идею о том, что осуществлять контроль за законностью решения вопросов, сопутствующих расторжению брака, следует не только суду, но и другим органам власти в пределах своей компетенции: судам ― разрешать споры о праве; органам загс ― регистрировать акты гражданского состояния; органам опеки и попечительства ― осуществлять проверку соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи в конфликтных ситуациях.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Сущность и назначение современного социального государства проявляются в его функциях и задачах. Под функциями государства принято понимать «основные направления его деятельности, вытекающие из его сущности и роли в общественной жизни. В отличие от задач государства, которые могут носить временный, локальный характер, функции государства имеют постоянный характер и общесоциальную направленность, хотя в различные исторические эпохи они могли быть направлены и на узкокорпоративные цели»1. На характер и содержание функций государства оказывают влияние многие факторы социально-экономического, политического, экологического характера, международная обстановка и т.п.
Наряду с иными внешними и внутренними функциями государства свое место в развитых государствах современного типа прочно занимает социальная функция. Ее конкретное наполнение может изменяться с течением времени в различных исторических условиях.
В настоящее время, как известно, помимо иных важнейших социальных функций государства, значительное внимание уделяется поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, что нашло проявление в последних изменениях Конституции РФ. Так, оставив без изменения ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, согласно которой «материнство и детство, семья находятся под защитой государства», законодатель дополнил ст. 72 Основного закона пунктом ж.1), в соответствии с которым предусматривается «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях»2.
При этом законодатель не ограничивается лишь декларациями.
В законодательстве о социальном обеспечении мы уже длительное время наблюдаем систематическое введение различных и довольно многочисленных мер, направленных на стимулирование рождаемости, материальной поддержки семей с детьми и т.п.
За изменениями Конституции РФ 2020 г. последовали изменения и в семейном законодательстве. Статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ) в редакции ФЗ от 31.07.2023 № 403 1 предоставляют право требовать от супруга алименты на свое содержание в период ухода за общим ребенком в возрасте до трех лет не только жене или бывшей жене, но и мужу или бывшему мужу. Тем самым устранено, пожалуй, последнее противоречие семейного законодательства ч. 3 ст. 19 Конституции РФ, предусматривающей, что мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
При этом в отличие от законодательства о социальном обеспечении дополнительных мер, направленных на защиту прав женщин, детей, укрепление семьи, защиту членов семьи, находящихся в уязвимом положении, в семейном законодательстве больше не появилось. Одной из причин этому явилось то, что в ст. 1 СК РФ среди прочих важных принципов семейного законодательства предусмотрены принципы недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, добровольности брачного союза мужчины и женщины, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. И действительно, лучшее, что государство может сделать для отдельно взятой нормальной семьи ― это не вмешиваться в нее.
Другое дело, когда права одних членов семьи, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, попавших в зависимость от других членов семьи, не способных временно или постоянно самостоятельно защищать свои права, нарушаются более благополучными участниками семейных правоотношений. В этой ситуации государство в лице компетентных органов может и должно вмешаться, что, собственно, и декларируется в ст. 1 СК РФ, закрепляющей принципы обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. И, соответственно, данный подход уже многие годы находит отражение во многих положениях российского, а ранее советского семейного законодательства, содержащих гарантии реализации данных принципов и осуществления государством социальных функций в области защиты и укрепления семьи, материнства, отцовства и детства.
В то же время, учитывая значительные изменения, произошедшие в различных сферах жизни за период существования отечественного семейного законодательства, это повод задуматься о том, насколько современными являются средства, при помощи которых происходит реализация данных функций государства. В частности, на примере подведомственности дел о расторжении брака.
Основная часть
Действующее законодательство РФ предусматривает возможность расторжения брака двумя способами. Органами загс ― при взаимном согласии обоих супругов, у которых нет общих несовершеннолетних детей (ст. 19 СК РФ). В судебном порядке ― при отсутствии согласия одного из супругов, в том числе, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе загс. Кроме того, дело о расторжении брака подлежит рассмотрению судом при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей вне зависимости от того, есть ли между супругами спор о детях (ст. 21 СК РФ). Причем в каждом из указанных случаев дело о расторжении брака рассматривается судом в порядке искового производства.
Существующая длительное время ситуация не вполне обычна. Дело в том, что согласно классическому представлению исковое производство характеризуется обязательным наличием спора о праве (курсив мой ― О.Ш.) [1]. Понятие спора о праве само по себе является дискуссионным и многоаспектным, что позволяет наполнять его различным содержанием, а также утверждать о его наличии или отсутствии в зависимости от целей, которые преследуются в той или иной ситуации [2, с. 238–320; 3, с. 98–102; 4, с. 58]. Однако в отношении дел о расторжении брака законодатель указывает прямо: при наличии общих несовершеннолетних детей брак подлежит расторжению только в суде. Даже, повторим, «если между супругами отсутствует спор о детях». И даже при наличии их взаимного согласия на расторжение брака.
Данное законодательное решение уже много лет подвергается критике на страницах правовой литературы. Многие ученые, в первую очередь представители науки гражданского процессуального права, настойчиво пишут о целесообразности передачи всех бесспорных дел о расторжении брака в компетенцию органов загс [5, с. 84; 6, с. 49; 7, с. 15; 8, с. 42–43; 9].
Между тем положения ст. 21 СК РФ, как и предшествовавшие ей ст. 32, 33, 38, 39 Кодекса о браке и семье РСФСР 1968 г. (далее ― КоБС РСФСР 1968 г.)3 и ст. 220 Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 г. (далее ― ГПК РСФСР 1923 г.)4, содержащие точно такие же критерии разграничения подведомственности по рассмотрению дел о расторжении брака между судом и органом загс, уже более ста лет сохраняются практически в неизменном виде.
Разделяя в целом изложенный выше «процессуальный» подход к подведомственности дел о расторжении брака, согласно которому суду следует их рассматривать лишь в случае возникновения реального спора супругов по данному вопросу, нельзя не признать, что при принятии ГПК РСФСР 1923 г., КоБС РСФСР 1968 г. и действующего СК РФ их разработчики преследовали весьма значимую цель. Предполагалось, что в условиях острого семейного конфликта именно суд должен осуществлять контроль за соблюдением прав несовершеннолетних детей как наиболее слабо защищенных членов распадающейся семьи. И соответственно, на суд во многом возлагалось выполнение функции государства по защите материнства, семьи и детства.
В этих целях согласно ст. 224 ГПК РСФСР 1923 г., ст. 34 КоБС РСФСР 1968 г., а сегодня ― ст. 24 СК РФ суд обязан по своей инициативе разрешить два вопроса, при условии, что расторгающие брак супруги-родители не достигли по ним соглашения или это соглашение нарушает интересы детей, ― определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода; определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей.
Можно предположить, что на момент появления анализируемой нормы в советский период у законодателя были основания полагать, что суд справится с крайне значимой задачей по осуществлению контроля за соблюдением прав детей при расторжении брака. Такие основания предоставляло советское гражданское процессуальное законодательство, в основу которого был положен принцип активной роли суда. В этот период суд был «…обязан, не ограничиваясь представленными материалами и объяснениями, принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного выяснения действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон» (ст. 14 ГПК РСФСР 1964 г.5).
Сегодня ситуация принципиально иная. Действующее гражданское процессуальное законодательство подобных полномочий судьям не предоставляет. И соответственно, возможности эффективно реализовать функцию по защите семьи у них тоже нет [10, с. 28–38]. Современные судьи больше самостоятельно не собирают доказательства по гражданским делам. При рассмотрении дела о расторжении брака им остается верить на слово истцам, указывающим в исковых заявлениях, составленных по образцу, что «…соглашение о проживании, воспитании, содержании ребенка между сторонами достигнуто». Других сведений у судей часто просто нет, равно как и других способов убедиться в наличии соглашения по вопросам воспитания и содержания несовершеннолетних детей. Тем более это невозможно в случае, если ответчик не является в судебное заседание и (или) заявляет ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Возложить обязанность удостовериться в том, что супруги достигли соглашения о детях, на органы опеки и попечительства судья тоже не может. Согласно ст. 78 СК РФ данный орган привлекается к участию в деле в целях проведения обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и представления суду акта обследования и основанного на нем заключения при рассмотрении судом именно споров, связанных с воспитанием детей.
Кроме того, судья, а это, как правило, мировой судья, который загружен огромным количеством уголовных дел и дел, связанных с привлечением к административной ответственности, при определении того, не нарушаются ли права несовершеннолетних детей в бракоразводном процессе, может рассчитывать преимущественно на собственную интуицию и житейский опыт.
Изложенные соображения приводят к неутешительному выводу о том, что суды сегодня объективно не способны справиться с задачей по защите прав несовершеннолетних детей при расторжении брака и соответственно с выполнением важной социальной функции государства. У них просто нет для этого ни процессуальных средств, ни специальной профессиональной подготовки, ни времени в плотном графике среди уголовных и административных дел.
Можно было бы предположить, что отнесение дел о расторжении брака к судебной подведомственности может способствовать решению другой задачи ― примирению супругов и сохранению семьи, в чем также сегодня заинтересованы общество и государство. Но это, к сожалению, тоже не совсем так. Причем по тем же причинам, которые не дают судьям эффективно защищать права несовершеннолетних детей в бракоразводных процессах. Во-первых, это огромная нагрузка и отсутствие достаточного времени. Во-вторых, это отсутствие специальной профессиональной подготовки в области семейной психологии и навыков в сфере организации и проведения примирительных процедур. Более того, уже давно замечено, что совмещение функций примирителя и судьи в одном лице и по одному делу принципиально недопустимо. Это и невозможно, так как стороны не могут вести открытые и конструктивные переговоры при посредничестве лица, которое в случае недостижения соглашения будет выносить властное решение по их спору [11, с. 56–57]. В-третьих, это отсутствие действенных процессуальных средств для примирения супругов. У судьи есть лишь право отложить разбирательство дела на срок для их примирения в пределах трех месяцев, если отсутствует согласие одного из них на расторжение брака, по истечении которого он обязан вынести решение о его расторжении, если супруги или один из них на этом настаивают (ст. 22 СК РФ). Как отмечает Верховный Суд РФ, «в случае принятия решения о расторжении брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, суд исходя из п. 2 ст. 24 СК РФ принимает меры к защите интересов несовершеннолетних детей и разъясняет сторонам, что отдельно проживающий родитель имеет право и обязан принимать участие в воспитании ребенка, а родитель, с которым проживает несовершеннолетний, не вправе препятствовать этому»6. То есть все, что суды реально делают в этой ситуации ― разъясняют родителям их права и обязанности, при том что нормы ст. 24 СК РФ не служат гарантией непременной защиты прав ребенка [12, с. 46–55].
Требуется ли высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности, успешная сдача квалификационного экзамена для совершения указанных в ст. 22 и ст. 24 СК РФ действий? Едва ли. Это вполне может сделать начинающий сотрудник органа загс, также, кстати, обладающий высшим юридическим образованием и успешно выдержавший испытание кадровой комиссии.
Изложенные соображения, имеющие преимущественно практический характер, приведены с целью поддержки ранее высказанных теоретических тезисов многих ученых о том, что в отсутствие спора (то есть при наличии взаимного согласия супругов на расторжение брака) относить рассмотрение данных дел к судебной подведомственности неверно, несмотря даже на то, что у супругов есть общие несовершеннолетние дети.
И дело тут даже не в том, что, рассматривая такие дела, суды занимаются не своим делом с точки зрения теории гражданского процессуального права. Проблема сегодня в том, что ни суды, ни кто-либо другой на должном уровне НЕ контролирует соблюдение прав несовершеннолетних детей и НЕ выполняет государственную функцию по защите семьи, материнства, отцовства и детства.
Сложившееся положение свидетельствует о необходимости разработки более действенных механизмов, направленных на выполнение данной функции в рамках бракоразводного процесса. И в первую очередь ― на осуществление реального контроля за соблюдением родителями прав и интересов несовершеннолетних детей.
Причем вряд ли следует подозревать все распадающиеся супружеские пары в том, что они прямо или косвенно стремятся в чем-то ущемить своих детей. На этапе расторжения брака «вмешательство суда в их отношения, связанные с семейным воспитанием детей, есть неоправданное посягательство на их личную жизнь» [13, с. 15–18]. Поэтому и решение вопроса о детях, как собственно предполагает ч. 1 ст. 24 СК РФ, следует оставить самим их родителям. С той лишь разницей, что для осуществления реального контроля подтверждать факт достижения соглашения о месте жительства детей и порядке их содержания следует обоим родителям. Желательно в письменной форме и желательно с приложением доказательств, что у родителя, с которым будет проживать ребенок, есть необходимое для этого жилое помещение.
Данное соглашение может быть представлено в контролирующий орган как до расторжения брака, если оба супруга согласны на его расторжение и, соответственно, обговорили вопросы, связанные с проживанием и содержанием детей, так и в разумный срок (например, один месяц) после того, как брак будет расторгнут. Подчеркнем, что как предварительный, так и последующий контроль за разрешением родителями данных вопросов совсем не обязательно должен быть судебным. Не менее успешно с этим может справляться орган опеки и попечительства.
А вот уже непредставление рассматриваемого соглашения или несообщение о причинах его непредставления может стать достаточным основанием для проверки со стороны государства, что наиболее эффективно опять же могут осуществить органы опеки и попечительства. Идеальным результатом такой проверки будет полная утрата интереса к данной семье со стороны органов опеки в связи с тем, что вопросы проживания и содержания ребенка (детей) фактически решены. Либо же орган опеки придет к заключению о необходимости дальнейшего контроля за решением этих вопросов родителями, и, возможно, о целесообразности принятия какой-либо из множества мер по защите прав ребенка ― от разъяснительных бесед до обращения в суд с иском о лишении родительских прав.
Выводы
Традиционные ценности российского общества и государства, среди которых значительное место занимают семейные ценности, следует защищать современными методами и используя те средства, которыми располагает современное российское государство. И в рамках такой защиты каждому следует заниматься своим делом: родителям ― заботиться о своих несовершеннолетних детях; судам ― разрешать споры о праве; органам загс ― регистрировать акты гражданского состояния; органам опеки и попечительства ― осуществлять проверку соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи в конфликтных ситуациях.
Механизм контроля за соблюдением прав детей при расторжении брака их родителей, предполагающий изменение подведомственности дел о расторжении брака, основы которого были предложены в рамках настоящей публикации, представляется более действенным по сравнению с тем, который существует на сегодняшний день. Он предоставит государству в лице суда и органов опеки и попечительства более четкие критерии для выявления нерешенных вопросов, связанных с местом жительства детей и их содержанием, а также позволит применять более индивидуальные подходы для защиты их прав и законных интересов.
1 Абдулаев М.И. Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений. Москва: Магистр-Пресс, 2004. С. 32.
2 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.
3 Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30.07.1969) // Ведомости ВС РСФСР. 1969. № 32. Ст. 1397 (утратил силу).
4 Постановление ВЦИК от 10.07.1923 «О введении в действие Гражданского Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Гражданским Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1923. № 46–47. Ст. 478 (утратил силу).
5 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407 (утратил силу).
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6 «Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам» // БВС РФ. 2007. № 5.
Об авторах
Ольга Николаевна Шеменева
Воронежский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: shon_in_law@mail.ru
SPIN-код: 2302-2007
д-р юрид. наук, профессор
Россия, ВоронежСписок литературы
- Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. Москва: Издательство Московского университета, 1965. 189 с.
- Зайцев И.М. Спор о праве // Зайцев И.М. Научное наследие в 3-х томах. Т. 1. Неизданное. Саратов: Наука, 2009. С. 239–320.
- Рожкова М.А. Понятие спора о праве гражданском // Журнал российского права. 2005. № 4(100). С. 98–102. EDN: OPCTBN
- Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. Москва: Волтерс Клувер, 2008. 676 с. EDN: QXMANP
- Кострова Н.М. Теория и практика взаимодействия гражданского процессуального и семейного права. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1988. 144 с.
- Чечина Н.А. Основные направления развития науки советского гражданского процессуального права. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1987. 104 с.
- Шакарян М.С. Соотношения судебной формы с иными формами защиты субъективных прав граждан. В кн.: Актуальные проблемы защиты субъективных прав граждан и организаций. Москва, 1985. С. 7–16.
- Смолина Л.А. Правовое регулирование отношений супругов и бывших супругов: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. 184 с. EDN: NNTCFH
- Исаенкова О.В., Демичев А.А., Соловьева Т.В. и др. Иск в гражданском судопроизводстве: сборник / под ред. О.В. Исаенковой. Москва: Волтерс Клувер, 2009. 216 с.
- Тригубович Н.В., Хазова О.А., Чашкова С.Ю., и др. О концепции совершенствования законодательства, регулирующего отношения детей и родителей // Закон. 2022. № 1. С. 28–38. EDN: IHCDYH
- Нефедьев Е.А. Склонение сторон к миру в гражданском процессе. Казань: Типография Губернского Правления, 1890. 92 с.
- Чашкова С.Ю. Проблемы алиментного обязательства родителей и детей: частноправовой и публично-правовой аспекты // Закон. 2022. № 1. С. 46–55. EDN: SDCVLE
- Нечаева А.М. Споры о неделимом // Российская юстиция. 2016. № 2. С. 15–18. EDN: VKSJOR
Дополнительные файлы