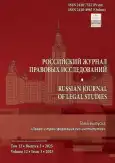К вопросу об унификации юридической терминологии в рамках модернизации российской правовой доктрины
- Авторы: Завьялова И.С.1
-
Учреждения:
- Воронежский государственный университет
- Выпуск: Том 12, № 3 (2025)
- Страницы: 5-10
- Раздел: Актуальная тема
- Статья получена: 15.09.2025
- Статья одобрена: 15.09.2025
- Статья опубликована: 29.09.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/690370
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS690370
- EDN: https://elibrary.ru/WYTLOI
- ID: 690370
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В данной научной статье анализируется современное состояние российской юридической доктрины. Обращается внимание на достаточно динамичное развитие общественных отношений, в том числе и цифровых. Юридическая практика нуждается в языковых средствах, которые бы точно обозначали правовые понятия, категории и конструкции, а также более точно выражали бы мысль законодателя. Все это в свою очередь создает некоторые предпосылки для определенной модернизации юридической науки. Отмечается, что один из факторов, влияющих на качество результатов соответствующего процесса модернизации, ― это наличие терминологической определенности базовых юридических понятий, категорий и конструкций. В работе проводится анализ некоторых правовых понятий, категорий и конструкций, для которых характерна некая множественность понимания, а также делается вывод о том, что такая терминологическая неопределенность значительно усложняет как российскую юридическую доктрину, так и правоприменительную практику, а иногда даже ставит их в тупик. Большой акцент автор делает на внимательное отношение к процессу заимствования терминологии из зарубежной юридической доктрины. Формулируется вывод о необходимости проведения серьезных научных исследований, например, в части унификации базовых понятий, категорий и конструкций. Такие результаты могли бы создать так называемый терминологический порядок.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время российское государство переживает достаточно бурные процессы своего развития и модернизации. Мы сталкиваемся с различными вызовами современности, как на уровне государства, так и на международном уровне. Стремительно проиходит становление цифрового общества, затронувшее практически все сферы нашей жизни. В то же время и отечественная юридическая наука также переживает период обновления, выходя на принципиально новые рубежи постижения своего предмета. Определяются новые ориентиры научных исследований, которые должны быть направлены на поиск наиболее приемлемых моделей развития всей российской правовой системы и российской государственности в целом. Появляются новые понятия, категории, приходящие в право из естественных наук. Кроме того, сотрудничество России с такими дружественными международными организациями, как Шанхайская организация сотрудничества, организация БРИКС, предполагает необходимость некоторого правового сближения с другими государствами ― участниками данных организаций.
Таким образом, необходимо констатировать тот факт, что весьма серьезно назрел вопрос о некой модернизации российской юридической доктрины. Успешность данного процесса зависит от ряда факторов, в том числе и от наличия терминологической определенности базовых юридических конструкций, возможной посредством процесса их унификации.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В современных условиях модернизации российской государственности, правового пространства, юридической теории нам приходится сталкиваться с новыми явлениями, требующими понимания их сущности, исследования, обоснования. Возникают новые правовые институты, новые юридические понятия, категории и конструкции. Все это подталкивает юридическое сообщество к выдвижению новых теорий, которые, что самое интересное, доказуемы и перспективны в современных условиях. Занимаясь исследованиями, обоснованиями выдвинутых теорий, мы приводим различные аргументы, слышим эти аргументы и понимаем их, а также формулируем новые позиции, делаем новые выводы на основании приведенной аргументации. В то же время зачастую мы получаем абсолютно диаметрально противоположную картину в итоге. Почему такое происходит в доктрине? Вероятнее всего, это связано с тем, что в основе нашей доказательственной базы, построения соответствующей теории лежат понятия, конструкции, категории, которые не унифицированы, понимаются разным кругом специалистов по-разному, и достоверность которых просто доказать невозможно. В связи с этим при различном понимании основополагающих понятий, категорий и конструкций совокупность доказательственной базы будет принципиально различной. Мы просто не услышим друг друга.
Допустима ли множественность понимания категорий, конструкций, понятий? Вероятно, допустима. Однако речь идет о базовых понятиях, категориях и конструкциях. Что значит базовые понятия, конструкции, категории? Это те, на которых базируются в целом, можно сказать, разделы научного познания, т. е. заложенные в основу иных и понятий, и конструкций, и категорий, в том числе и отраслевых.
Если все конструкции, понятия, категории самым простым образом разделить на две большие группы, то мы получим основные и производные конструкции, категории и понятия. Когда мы говорим о производных конструкциях, категориях и понятиях, то здесь необходимо отметить, что их многообразие иногда бывает положительным и даже полезным. А вот когда мы говорим об основных, о базовых конструктах, представляется, что это недопустимо. В связи с этим перед современной теорией права в настоящее время стоит задача их унификации (приведение к единообразному пониманию). Возникновение такой задачи продиктовано различными причинами, в том числе грандиозной динамикой развития общественных отношений в XXI в. Еще одна причина и одновременно следствие из первой ― это отмирание одних институтов и возникновение других.
Кроме того, необходимо отметить, что категориальный аппарат изменился и развился просто невероятными темпами и способами. Так, например, если еще двадцать лет тому назад, т. е. меньше четверти века, мы практически не говорили об искусственном интеллекте, кроме как на фрагментарных заседаниях каких-то клубов и в кругу любителей фантастики, то сегодня мы уже не просто разговариваем об этом, мы констатируем, что искусственный интеллект есть, он существует, и мы обсуждаем вопросы его субъектности. Научное сообщество обсуждает, а возможно ли придать ему эти свойства или невозможно; как ограничить интеллект, каковы его параметры и многое другое. То есть сегодня мы говорим об искусственном интеллекте как о естественно существующей категории, конструкции: ему теперь необходимо придать правовые параметры, поселить в правовую среду. В связи с этим возникает опять же большое количество проблем и вопросов. Что такое искусственный интеллект? Ответ на этот вопрос до конца еще никто не знает, право тоже не дает однозначного ответа. Поэтому конструкция «искусственный интеллект» пока еще в процессе становления.
В то же время в отечественной юридической доктрине мы имеем очень много понятий и конструкций, вызывающих иногда споры. Так, например, в нашей речи часто звучит «правовая норма», «норма права». Возникает вопрос: одно и то же это или нет [1]?
Или сейчас актуальным трендом развития государства является цифровизация, и здесь тоже мы оперируем такими категориями, как «цифровизация» или «цифровая трансформация». Анализируя различные научные статьи по данной тематике, применительно к юридической сфере [2–4], порой понимаешь, что автор, раскрывая основную цель своего научного исследования в той или иной отрасли юридической науки, попросту даже и не обращает внимание на соотношение этих категорий, поскольку современные исследования в основном направлены на то, чтобы доказать полезность внедрения цифровых технологий или, наоборот, негативное влияние. Такая ситуация может приводить к формулированию недостоверных сведений о результатах воздействия цифровых технологий в конкретной сфере.
В связи с этим необходимо отметить, что какую бы систему доказательной базы мы не приводили, все равно будет очень трудно четко определить сущность категории, понятия, конструкции, если мы не уйдем к первооснове, у которой в данном случае будет филологическое толкование, филологические законы.
На самом деле существует очень много так называемых парных конструкций в теории права, например «норма права» и «правовая норма», «механизм государства» и «государственный механизм», «аппарат государства» и «государственный аппарат», «цифровизация» и «цифровая трансформация» и некоторые другие.
Проанализируем исходя из первоосновы, например, категории «правовая норма» и «норма права». Категория «правовая норма» состоит из существительного и прилагательного. Руководствуясь филологическими знаниями, мы понимаем, что прилагательное ― это явление, описывающее определенные свойства существительного. Следовательно, конструкция «правовая норма» описывает свойства нормы. Нормы также могут быть социальные, религиозные ― отсюда нам становится все предельно ясно. Если же мы проанализируем конструкцию «норма права», то мы обязательно столкнемся с дискуссией, поскольку категория «право» ― это уже очень сложная для понимания категория, ведь мы говорим о разных подходах к пониманию права, и множественность таких подходов закономерна, так как право многомерное. В связи с этим конструкция «норма права» становится весьма сложной, а также многомерной. И наше понимание «нормы права» ставится в зависимость от нашего понимания права в целом.
Следующее, что привлекает внимание в рамках заявленной проблемы, так это наличие в юридической доктрине сложно понимаемых существительных, которые, как представляется, сами по себе уже сложны даже в рамках филологии, без перевода их в юридическую плоскость.
Например, очень часто мы используем такую конструкцию, как «акт». Значение данного слова может быть различным: и правовой акт, и акт как действие ― что уводит нас от понимания категории «акт» как документа. Еще больше ситуация усложняется, когда мы говорим «акт активного действия» или «акт пассивного действия». Все это тоже требует определенной упорядоченности, но по сравнению с ситуацией, описанной выше, данный аспект более проблематичный, более сложный в наведении так называемого терминологического порядка.
Анализируя обозначенную проблему в данной научной статье, конечно, нельзя обойти своим вниманием и ситуацию с заимствованными и переводными понятиями, категориями и конструкциями. Такие конструкции изобилуют в нашей речи и иногда нас ставят просто в тупик, а следовательно, порождают значительные сложности в юридической доктрине.
В качестве яркого примера можно привести уже почти полувековую дискуссию о соотношении понятий «процесс» и «процедура». Некоторые ученые уже предпринимали попытки подвести некий итог этой дискуссии, например, в работе «Теория юридического процесса» [5], но приходится отмечать, что до сих пор существуют разные подходы. При этом если проанализировать зарубежный опыт, то там такой оживленной дискуссии мы не найдем в части соотношения данных конструкций. Везде очень простое, четкое, логичное понимание. Процесс означает наличие судопроизводства либо длительную по времени деятельность, направленную на достижение конкретного юридического результата. Такая деятельность многоэтапная, постепенная и последовательная. Процедура ― это юридически значимый акт или юридически значимое одномоментное деяние, имеющее свою узконаправленную цель. Примерно так понимают данные конструкции в зарубежных юридических доктринах. На самом доле по логике именно так и получается, что из процедур состоит процесс. Например, процедура подачи искового заявления, процедура допроса, опроса, процедура вынесения решения ― это не что иное, как тот или иной вид судебного процесса. Несмотря на такую простоту в определении конструкций, в российской юридической доктрине все-таки сложность возникла. Для этого есть своя причина. В какое-то время российской юридической доктриной была заимствована лишь одна часть из парной конструкции, а именно конструкция «процесс». А такую конструкцию, как «процедура», в советское время не заимствовали, поскольку посчитали ее не совсем нужной для отечественной юридической доктрины. Об этом очень интересно рассуждает профессор С.Н. Махина на страницах своей монографии «Административный процесс: проблемы теории, перспективы правового регулирования» [6].
В результате у нас получилось разделить парные конструкции и применить в отечественной юриспруденции только одну ― «процесс», что и привело к таким бурным дебатам, не прекращающимся и в наши дни в части обсуждения вопроса о том, что же является шире по объему «процесс» или «процедура». Понимание конструкции «юридический процесс» мы сложили на протяжении многих десятилетий без анализа второго элемента парной конструкции, т. е. без «процедуры». После, когда в определенное время российская юридическая доктрина занялась вопросом юридизации деятельности органов исполнительной власти в России, мы столкнулись с вопросом, какую форму необходимо избрать применительно к этому направлению. И в такой ситуации возникла необходимость в заимствовании второй парной конструкции ― «процедуры». И если говорить о сегодняшнем дне, то практика показывает, что власть функционирует в рамках процедур. Она создает свои процедурные регламенты, называя их административными, должностными и иными регламентами. Ну а что касается процесса, здесь вопрос остается по-прежнему открытым. В рамках процесса процессуалисты по-прежнему дискутируют по таким вопросам, как: есть ли у нас отрасль процессуального права, един ли процесс, состоит ли процесс из процедур или процесс представляет собой одну большую процедуру, подразделяющуюся на виды, а именно виды юридического процесса, и многим иным вопросам.
В связи с этим можно отметить, что касается заимствованных или переводных понятий, категорий, конструкций, то в этом направлении в части наведения терминологического порядка и некоторой унификации работа еще более сложная, чем в первых двух случаях, описанных выше.
Несмотря на прогнозируемые сложности в работе по унификации базовых категорий, понятий, конструкций, все-таки такая деятельность обязательно должна осуществляться.
Если мы все чаще и чаще сегодня говорим с дружественными государствами о построении единого или хотя бы сближенного правового пространства, то мы должны понимать, что конкретно мы сближаем, как и в каком направлении мы это сближаем. И для проведения этой работы, для такого единения, сближения нам обязательно нужно единообразное понимание базовых терминов, конструкций и категорий. В противном случае наша работа будет просто бессмысленной.
ВЫВОДЫ
Таким образом, динамично развивающиеся общественные отношения, модернизация государства, появление новых правовых институтов, интенсивное формирование цифрового общества, сближение правового пространства нашего государства с правовыми пространствами дружественных государств и некоторые иные обстоятельства ― все это неизбежно создает предпосылки для модернизации и отечественной юридической доктрины. Эффективность такой модернизации, как представляется, несомненно, будет зависеть от различных факторов. Один из таких факторов ― наличие терминологического порядка, т. е. единого понимания базовых юридических понятий, категорий и конструкций. Для его достижения представляется весьма правильным провести серьезную работу по унификации данных элементов.
Такие исследования очень перспективны для современной юридической науки. Нам необходимо сформировать понятия, конструкции, категории и подойти к этому профессионально. Постепенно теория права должна становиться более гармоничной, более логически обоснованной, а также четкой. Базовые юридические конструкции требуют большой научной и правовой определенности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад автора. И.С. Завьялова — определение концепции, сбор, анализ и обобщение литературы, написание черновика, пересмотр и редактирование рукописи. Автор одобрил рукопись (версию для публикации), а также согласился нести ответственность за все аспекты настоящей работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Автор заявляет об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы автор не использовал ранее опубликованные сведения.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента.
ADDITIONAL INFO
Author contribution: I.S. Zavyalova: conceptualization; investigation; writing—original draft, writing—review & editing. The author approved the version of the manuscript to be published and agrees to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding source: No funding.
Disclosure of interests: The author has no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: The author did not use previously published information to create this paper.
Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.
Provenance and peer review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two internal reviewers participated in the review.
Об авторах
Ирина Сергеевна Завьялова
Воронежский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: irina944978@mail.ru
SPIN-код: 5550-0930
канд. юрид. наук
Россия, 394018, Воронеж, пл. Ленина, д. 10аСписок литературы
- Gorshenev VM, Krupin VG, Melnikov YuI. Theory of legal process. Kharkiv: Vyshcha shkola; 1985.
- Davydova ML. Formation and normalization of legal terminology in the field of digital technologies. Science journal of Volgograd State University. Linguistics. 2020;19(4):52–63. EDN: UJYBTG doi: 10.15688/jvolsu2.2020.4.5
- Makhina SN. Administrative process: problems of theory, prospects of legal regulation. Voronezh: Voronezh State University; 1999. EDN: SARVAX
- Nikolaev AI. Issues of digitalization of law in modern legal doctrine. MCU journal of legal sciences. 2024;(1):38–44. EDN: JXATYE doi: 10.25688/2076-9113.2024.53.1.04
- Tretyakova ES. Problems of terminology in bio-law. Science. Society. State. 2023;11(3):59–68. EDN: ENMQZR doi: 10.21685/2307-9525-2023-11-3-6
- Chernyshov SV. Normativity of law and legal norm: problems of the relationship between concepts. Bulletin of the South Ural State University. Series: Law. 2006;(13):191–192. (In Russ.) EDN: KYWSIH
Дополнительные файлы