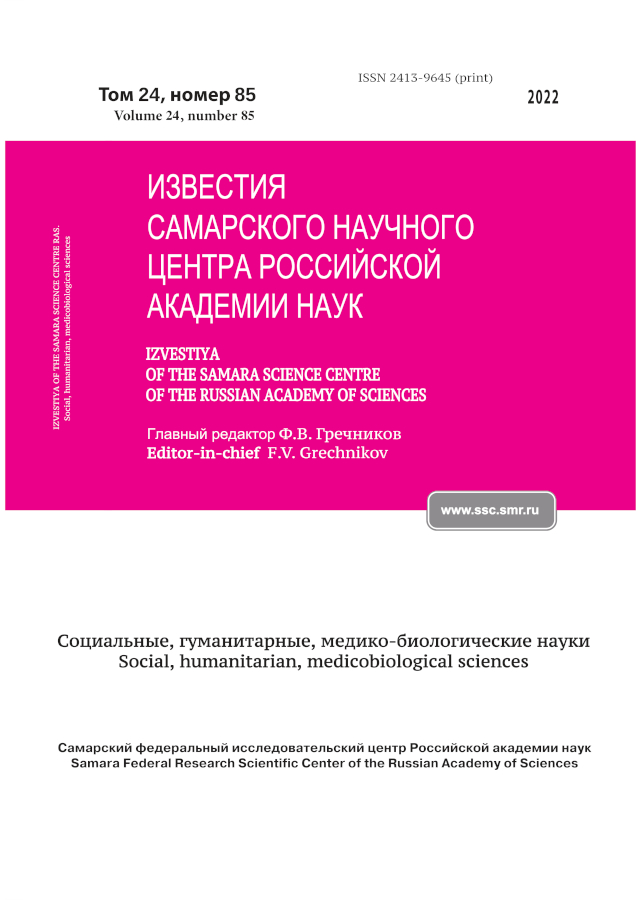I.S. Turgenev’s strange Asya: apophaticism of Russian Eros. Culturological analysis of the story
- 作者: Dudareva M.A.1
-
隶属关系:
- Peoples' Friendship University of Russia
- 期: 卷 24, 编号 4 (2022)
- 页面: 41-46
- 栏目: HUMANITIES SCIENCES
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/120087
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2022-24-85-41-46
- ID: 120087
如何引用文章
全文:
详细
The object of the article is apophaticism of Russian verbal culture. The apophaticism of love, of Russian Eros serves as the subject. This article is based on Turgenev’s well-known short novel “Asya”. The hermeneutic reconstruction core is represented by the symbolic space of the 19th century novel. Much attention is paid to the problem of love metaphysics, its apophatic aspect in the Russian cosmo-psycho-logos, which is essential for understanding the philosophical nature of the writer’s creative work. The research methodology is mainly represented by the holistic ontohermeneutic analysis aimed at highlighting the cultural potential of the literary work in question, which makes it possible to approach the specificity of the writer’s creative process ontologically and delve into the wordsmith’s treatment of genesis. Much attention is paid to the comparison of Pushkin’s Tatiana from the novel “Eugene Onegin” and Turgenev’s story protagonist. The notions of “imagination”, “apophaticism”, “cosmo-psycho-logos” are introduced for profound culturological analysis of the work. The research results are represented by identification of cultural and philosophical potential of the novel “Asya” for further study of the problems of Russian artistic culture apophaticism, metaphysics of Russian Eros, national style of life. The results may be of interest for literary historians incorporating literature in the extensive dialogue of cultural space, and may be also used in teaching courses on cultural studies and philosophy.
全文:
Введение. Каждый национальный образ мира, или космо-психо-логос, предлагает свой вариант Абсолюта любви. Продуктивно использовать культурфилософскую триаду «космо-психо-логос» русского филолога Г.Д. Гачева, когда занимаешься герменевтикой реалий русской культуры, национальной топики, поскольку русский космос, равнина, апейронна [2, с. 213], апофатична [8, с. 241], что накладывает свой отпечаток на характер и Логоса, и Эроса, и Танатоса в отечественной космологии. Ученый указывал на принципиально неразделенный, невоплощенный телесно характер русского Эроса [3, с. 287], что придает ему высокую модальность. В истории мировой культуры, еще в античности у Платона, находим разделение любви на несколько модусов: существует Афродита небесная и земная, высокий космический модус любви и плотский [10]. Полагаем, что русский Эрос носит все-таки софийный характер, русский художник стремится изобразить Уранию, Прекрасную Даму, хоть и располагает ее, по меткому наблюдению искусствоведа Г. Гунна, не в средневековых замках, а в полях [6, с. 66]. Обратимся к известной повести И.С. Тургенева «Ася», которая является ярким примером проявления русского варианта Эроса в культуре.
История вопроса. Мы привыкли считать И.С. Тургенева реалистом. Но русский реализм особого свойства — для русского человека важнее жизнь не в этом мире, а в мире горнем, он апофатически ориентирован, то есть думает о жизни в ином мире. Может, поэтому у нас такая неустроенность, может, поэтому мы такие «дички» (так определяет Н. Н. Асю в повести). Для нас реальность — нездешняя, не явная, а навная, и понять это может помочь искусство слова, обладающее апофатическим горизонтом, приближающее нас к непостижимому. Современный философ Г.Л. Тульчинский настаивает на глубинном апофатизме русского духовного опыта, русского труда, когда для русского человека важна жизнь в мире ином, потустороннем: «Содержанию российской смысловой картины мира свойственна апофатическая ориентация не столько на опыт реальной жизни в этом мире, включая конструктивную трудовую деятельность, сколько на опыт переживания сопричастности трансцендентному, выходящему за рамки повседневности, иногда даже отрицания ее» [13, с. 42]. Любовь в повести И. Тургенева «Ася» именно такого свойства, апофатическая. В русском космо-психо-логосе любовь всегда неразделенная, невоплощенная, и в этом «не» не только отрицание плоти, но и инобытие. На внелогическое восприятие Эроса и Красоты в произведениях писателя обратил внимание современный исследователь В.Г. Щукин в статье «Тургенев и Гете. Нечто о психопоэтике, Эросе и Красоте» [19], в которой ученый затрагивает важную связь Эроса и Танатоса, и эту парадигматичность в отношениях необходимо учитывать, когда размышляем о метафизике любви в поэтике И. Тургенева.
Методы исследования. Изучение философии русского Эроса, сопряженного с феноменом апофатики в мировой культуре, и его метафизической стороны в поэтике И.С. Тургенева требует онтогерменевтического прочтения повести «Ася», анализа символических «просветов», формул «порога» в произведении.
Результаты исследования. Повесть И.С. Тургенева «Ася» (1957) представляется одним из самых понятных произведений, написанных на любовную тему. Налицо прежде всего социальный конфликт: девушка не соответствует общественному положению мужчины, которого любит. И такое уже было в русской литературе — вспомним сюжет карамзинской «Бедной Лизы», который разрешился смертью героини. И можно было бы на этом успокоить движение исследовательской мысли. Но что-то нас повергает в смятение. Лизу, безусловно, жаль: она жертва и оттого наш идеал, но с ее смертью история заканчивается, история более или менее понятна. Ю.М. Лотман, защищая Эраста, подчеркивает разность в социальном положении героев [7, с. 618], таким образом социальная мотивировка смерти девушки становится определяющей. Тургеневский Эрос принципиально другой. Во-первых, он неразделенный: он ориентирован на эллинскую традицию, на немецкую традицию, прежде всего гетевскую, в которой существует внелогическое переживание Красоты. «Красоты, которую немецкие романтики (а вслед за ними Жуковский) называли словом “невыразимое” (das Unaussprechlichе)» [19, с. 268]. Во-вторых, для этого Эроса фундирующей выступает трагедия, которая всегда апофатична. Ася и Н.Н. могут быть вместе, счастье уже идет в руки молодому барину, но почему-то он отказывается от него, и сам не понимает почему. Он понимает коварную вдову, которая обманывает его, но не понимает юную Асю, которая любит его: «Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем» [15, с. 151]. Но понимание не приносит любовь. Примечательно то, что скептик И. Тургенев, реалист И. Тургенев пишет абсолютно апофатическое произведение. Почему так происходит? По мысли современного философа Н.А. Хренова, бывают эпохи, когда «трансцендентное восприятие бытия угасает» [16, с. 251], человек становится все более метафизически отрешенным, что, собственно, и происходит в Новое время. Но парадокс в том, что чем больше человек отдаляется от сакрального в мире, тем больше его настигает апофатическое, то есть непостижимое. Все сакральное, священное всегда апофатично, но не все апофатичное непрерывно сакрально для человека. С одной стороны, в эпоху открытий и научных свершений знания человека о мире значительно расширяются, с другой — усиливается и его тоска по мировой культуре с отпадением от лона сакральной космологии. Р. Гвардини в работе с характерным заглавием «Конец Нового времени» пишет: «…человека нового времени неизведанное манит, влечет к познанию. Он начинает открывать новые земли и покорять их» [4, с. 137]. Искусство слова, к которому нельзя подходить филистерски, напоминает нам об этом, воспевая нелогически Красоту, Любовь, Смерть, наконец, Бога.
Интересно то, что некоторые литературоведы все-таки обращают внимание на тему филистерства, латентно проявившуюся в повести. Так, Г.М. Ребель пишет: «Тема филистерства не лежит на поверхности рассказа и, на первый взгляд, акцентирование ее может показаться надуманным» [9, с. 105]. Но далее исследователь метко подмечает насчет одной цитаты: «“Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!” — вот он, образчик филистерской логики, которая вытесняет и поэтический настрой, и жажду счастья, и душевное благородство» [Там же, с. 105].
Это замечание существенно для понимания природы искусства и любви в русском космо-психо-логосе. Ася обладает предельно семиотическим мышлением. Она особенным образом воспринимает действительность. Можно употребить понятие «имагинация». По наблюдению современного антропософа Г.А. Кавтарадзе, «имагинации (от слова imago — “воображение”, “образ”) — это те образы, которые рисует себе сама душа при вступлении в непосредственное соприкосновение с духовной действительностью». [Устный доклад Г.А. Кавтарадзе «Путь познания в антропософии». Доклад расшифрован Е. Киселевой по устному выступлению автора, отредактирован Я. Лучшевой и С.В. Пахомовым].
Важно то, что немецкий философ начала XX в. Р. Штейнер описал художественный мир Гете через систему имагинаций, сопоставляя духовидение, внутреннее око, развитое у поэта, и восприятие действительности у естествоиспытателей, у людей метафизически отрешенных: «У них отсутствует орган для идеального, и потому они не знают сферу его действия. Посредством того, что у Гете этот орган был особенно развит, он, исходя из своего общего мировоззрения, пришел к глубоким прозрениям в существо живого» [18, с. 134]. И.С. Тургенев был последовательным гетенианцем, в его творчество проник двойственный идеал женщины, но он отдавал предпочтение одному образу: «Творения веймарского гения открывали наиболее приемлемый для него путь “эротического” стремления к познанию Красоты, воплощенной у Гете не в идеале Матери-Мадонны, а в идеале Елены Прекрасной, архетипической любовницы» [19, с. 270]. Но все же Ася многим отличается от других женских образов, в ней сказывается пушкинское начало, она, как Татьяна, потенциально могла бы быть Богиней царственной Невы [12, с. 65]. Современные исследователи справедливо указывают на то, что «имагинация связана с работой сознания» [1, с. 7], но она также обусловлена и работой души. Ася, возможно, и сетует на нехватку должного, как ей кажется, образования, но она наделена природным, врожденным воображением, основанным на ее душевной развитости. Она воспринимает мир имагинативно: «Вы в лунный столб въехали, вы его разбили» [15, с. 155]. В этой одной детали и кроется трагедия, раскол между героями.
Современный исследователь отмечает: «Тургенев замечательно тонко и убедительно разрабатывает психологическую мотивировку драматического финала» [9, с. 107], но, кажется, эта мотивировка все-таки носит глубинно онтологический характер. Ася и Н. Н. не могут быть вместе не только из-за социальной детерминированности или даже из-за духовной незрелости, несостоятельности молодого человека (хотя и это стоит принять во внимание), как обычно было принято думать, они просто не могут быть вместе, потому что не должны. Только в их дистанцированности друг от друга, в этом меоне возникает подлинная любовь, инобытийная, русская. Стоит обратить внимание на символ перевернутой лодки: «Передо мною белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху» [15, с. 151]. Этот символ еще в более напряженном проявлении появится в раннем рассказе М. Горького «Однажды осенью» (1895): «Небо тяжело и мрачно, с него неустанно сыпались еле видные глазом капельки дождя; печальную элегию в природе вокруг меня подчеркивали две обломанные и уродливые ветлы и опрокинутая вверх дном лодка у их корней» [5, с. 473]. Кстати, М. Горький высоко ценил И. Тургенева, считал, что именно у него нужно «брать» уроки писательского искусства (статья 1928 года «О пользе грамотности»), поскольку у того все предельно просто и прозрачно.Но только кажется, что все можно объяснить в этой повести, но в том-то и дело — объяснять, по крайней мере рационально, не нужно. Конечно, стоит вспомнить пушкинскую Татьяну, когда размышляем об этой вещи, в которой очевиден пушкинский код. Так, Г.М. Ребель в статье «Пушкинские мотивы и образы в повести И.С. Тургенева “Ася”» тонко указывает как на открытое, так и на имплицитное проявление онегинского сюжета в повести, подчеркивая то схожесть, то принципиальную разность между героинями. Однако И.С. Тургенев ближе к А.С. Пушкину, чем мы думаем. Он усиливает его дорациональную онтологическую линию (здесь употребляем «дорациональный» в понимании немецкого философа Курта Хюбнера как сверхданность, что не подлежит объяснению или что пока не может быть рационально объяснено в науке и мифе [17, с. 265]). Если у А.С. Пушкина еще дано какое-то объяснение невозможности союза Татьяны и Онегина (она «другому отдана»), то у И.С. Тургенева читатель и вовсе остается без видимого ответа. В.Н. Топоров в своей небольшой, но очень значимой с точки зрения онтологии писателя книге с характерным названием «Странный Тургенев» обращает внимание на темные, или ночные, места в художественном мире классика, пронизанные инобытийным: «…мистическое открывало Тургеневу за видимым миром очертания иного мира, таинственного, чаще недоброго, связанного с мучительными, почти физическими страданиями» [13, с. 47]. Но именно иное в обыденном, бытовом и является ответом филистерам, именно оно ставит в тупик их (рациональности), не готовых к большой любви, как в случае Н. Н.Чем дальше мы продвигаемся по временной оси к некалендарному XX веку, съедаемые эоном Нового времени, тем больше у нас возникает вопросов «почему?». Известный литературовед М.М. Голубков в одной из своих работ сравнивал особенности любовного конфликта в «Асе» И.С. Тургенева и «Солнечном ударе» И.А. Бунина, настаивая на том, что в первом случае все предельно понятно и объяснимо, наблюдается причинная связь [11, с. 400], а во втором читатель уже не понимает, почему так происходит, почему герои не могут быть вместе. Однако, полемизируя с исследователем, можем сказать: в тургеневской повести, пронизанной символизмом, тоже не все однозначно. Случайно ли то, что и Н. Некрасов указывал на особенную поэтичность этой вещи? Н. Н. разбил лунный столб, по словам Аси. И это преступление. Не видеть красоты — преступление. Он просто не обладает семиотическим мышлением, он не мыслит мир через символы, а Ася мыслит. Татьяна (и Пушкин вместе с ней) мыслит — «столбик с куклою чугунной» и предметы на столе Евгения, которые с большим вниманием осматривает девушка в лунную ночь, — тому доказательство (фольклорист В.А. Смирнов уделял большое внимание этой странной сцене в романе, которой не должно было быть, по законам дворянского быта, девушка никак не могла оказаться в чужом доме, но лунарный сюжет обладает иной логикой [12]). Литературоведы пишут: «Тургенев дает реалистическую проекцию начертанного Пушкиным романтического образа, переводит в социально-психологический план то, что у Пушкина подано с позиций этико-эстетических, и обнажает внутренний драматизм, противоречивость явления, которое у Пушкина предстает как цельное и даже величавое» [9, с. 102]. Но что есть реализм? Что для нас, исследователей русской культуры, реализм?
Русская мокрая земля не любит, не терпит «теплых», ей нужна горячка, огонь (вспомним разговор архиерея Тихона и Ставрогина в «Бесах» Ф.М. Достоевского), но эта огненность есть только в русских женщинах — пушкинской Татьяне, тургеневской Асе, лермонтовской Вере, роковой, по Достоевскому, Настасье Филипповне Барашковой, булгаковской инфернальной Маргарите. Мужчина оплодотворяет душу такой женщины, матери (земли), и так рождается чувство, так появляются всходы, урожай, который кормит нас, и в нас прорастают эти семена и в нас же и умирают — вечный круговорот, вечная драма, но это драма-мистерия. Собственно, с таких размышлений начинается повесть: «Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя» [15, с. 149]. За цветением следует увядание, смерть и снова возрождение — это знаменитые «метаморфозы» Гете.
Без усилий, без страданий, в конечном итоге без смерти в русском космо-психо-логосе невозможна великая любовь, невозможно осознание ее, а для русского человека необходимо осознание, со стороны себя осмотрение. Мы любим стихийно, мы разлиты по равнине, мы растворены в Апейроне России, а как собраться? Через боль, через жертву. Это западный миропорядок предполагает соединение двух возлюбленных — соединение прежде всего в плоти. Любой западный семейный психолог вам обязательно скажет, что без телесного контакта невозможна здоровая семья, здоровые отношения. Но для логоцентричной России важнее эйдос, важнее идеал, без которого русский не сможет жить. Оттого мы работаем до смерти, не думая о наживе (вспомним великое некрасовское «мы до смерти работаем, до полусмерти пьем»), оттого мы с любимыми расстаемся, зная, что встретимся в вечности, оттого мы задаем напряженные вопросы, не отвечая на них. В этой отрицательности, беспочвенности мы ближе к Богу.
Выводы. Загадочный лунный столб, вертикаль света в повести «Ася», — это просвет в символическое, метафизическое пространство художественного. Тургеневская Ася интересна не только с точки зрения психологии поведения женщины в трудной пороговой ситуации, с точки зрения женского образа, конечно, органично встраиваемого в общую галерею русских женских архетипов, но и с позиций судьбы героя, апофатики этой судьбы, продолжающейся читателе, откликающейся алеаторически в нас, то есть случайно. Автор через трагедию неразделенной любви показал драму-мистерию этой любви, которая учит нас имагинативно (духовно) воспринимать знаки невидимого мира, провидеть и принять в них и через них божественную волю на земле. Онтогерменевтический анализ известной повести позволяет пересмотреть взгляды на поэтику И.С. Тургенева, что важно для дальнейших филологических изысканий, а также продолжить исследования метафизики русского Эроса, которые начал в своих культурологических работах Г.Д. Гачев.
作者简介
Marianna Dudareva
Peoples' Friendship University of Russia
编辑信件的主要联系方式.
Email: marianna.galieva@yandex.ru
PhD (philological sciences), Doctor of culture studies, Associate Professor, Department of Russian Language No. 2 under Institute of Russian Language, Head of Department of Literary Studies and Intercultural Communication
俄罗斯联邦, Moscow参考
- Volkova, V. O., Malahova, N. V., Volkov, I. E. Imaginacija: ot obraza k simvolu, ot simvola k tekstu (Imagination: from image to symbol, from symbol to text ) // Filosofskaja mysl'. – 2020. – № 8. – S. 1–18.
- Gachev, G. D. Mental'nosti narodov mira (Mentality of the peoples of the world). – M.: Algoritm; Jeksmo, 2008. – 544 s.
- Gachev, G. D. Nacional'nye obrazy mira. Kosmo-Psiho-Logos (National images of the world. Cosmo-Psycho-Logos). M.: Progress — Kul'tura, 1995. – 480 s.
- Gvardini, R. Konec novogo vremeni (End of the New Age) // Voprosy filosofii. – 1990. – № 4. – S. 127–163.
- Gor'kij, M. Poln. sobr. soch.: v 30 t. (Full. coll. cit.: in 30 volumes). – M.: Hudozh. lit., 1949. – T. 1. – 465 s.
- Gunn, G. Ocharovannaja Rus' (Enchanted Russia). – M.: Iskusstvo, 1990. – 288 s.
- Lotman, Ju. M. Ob odnom chitatel'skom vosprijatii «Bednoj Lizy» N.M. Karamzina (K strukture massovogo soznanija XVIII veka) (About one reader's perception of "Poor Lisa" N.M. Karamzin (On the structure of the mass consciousness of the XVIII century)) // Lotman Ju.M. Karamzin. – SPb.: Iskusstvo-SPb, 1997. – S. 616–620.
- Okeanskij, V. P. Chelovek i total'nost': pojetika prostranstva i ee krizis (Man and totality: the poetics of space and its crisis). – Ivanovo: ShGPU, 2010. – 358 s.
- Rebel', G. M. Pushkinskie motivy i obrazy v povesti I.S. Turgeneva «Asja» (Pushkin's motives and images in "Asya" by I.S. Turgenev) // Vestnik Udmurtskogo universiteta. – 2006. – № 5 (1). – S. 97–110.
- Rozin, V. M. Antichnoe ponimanie ljubvi (Ancient understanding of love) // Predposylki i osobennosti antichnoj kul'tury. - M.: IFRAN, 2004. - S. 145–167.
- Russkaja literatura XIX–XX vekov: v 2 t. T. 2. Russkaja literatura XX veka. Literaturovedcheskij slovar': ucheb. posobie dlja postupajushhih v MGU im. M.V. Lomonosova (Russian literature of the 19th–20th centuries: in 2 vols. T. 2. Russian literature of the 20th century. Literary Dictionary: Proc. allowance for applicants to Moscow State University. M.V. Lomonosov) / sost. i nauch. red. B.S. Bugrov, M.M Golubkov. 2-e izd., dop. i pererab. - M.: Aspekt Press, 2000.
- Smirnov, V. A. Literatura i fol'klornaja tradicija: voprosy pojetiki (arhetipy «zhenskogo nachala» v russkoj literature XIX — nachala XX veka): Pushkin. Lermontov. Dostoevskij. Bunin (Literature and folklore tradition: questions of poetics (archetypes of the "feminine principle" in Russian literature of the XIX - early XX centuries): Pushkin. Lermontov. Dostoevsky. Bunin). – Ivanovo: Junona, 2001. – 234 s.
- Toporov, V. N. Strannyj Turgenev (Chetyre glavy) (Strange Turgenev (Four chapters)). – M.: Rossijsk. gos. gumanit. un-t, 1998. – 192 s.
- Tul'chinskij, G. L. Uroki A. Platonova v osmyslenii raciona-lizacii social'noj zhizni (Platonov's lessons in understanding the rationalization of social life) // Nasledie. – 2020. – № 1 (16). – C. 32–44.
- Turgenev, I. S. Polnoe sobranie sochinenij i pisem: v 30 t. (Complete collection of works and letters: in 30 volumes). – M.: Nauka, 1980. – T. 5. – 543 s.
- Hrenov, N.A. Genij i kul'tura: transcendentnoe v tvorchestve Bethovina (Genius and culture: the transcendent in Beethovin's work) // Vestnik Russkoj hristianskoj akademii. – 2021. – T. 22. – Vyp. 1. – S. 240–252.
- Hjubner, K. Istina mifa (The truth of the myth). – M.: Respublika, 1996. – 448 s.
- Shtejner, R. Mirovozzrenie Gete (Goethe's worldview). – SPb.: Demetra, 2011. – 192 s.
- Shhukin, V. G. Turgenev i Gete. Nechto o psihopojetike, Jerose i Krasote (Turgenev and Goethe. Something about psychopoetics, Eros and Beauty) // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. – 2016. – T. 18. – № 1 (2). – S. 268–276.
补充文件