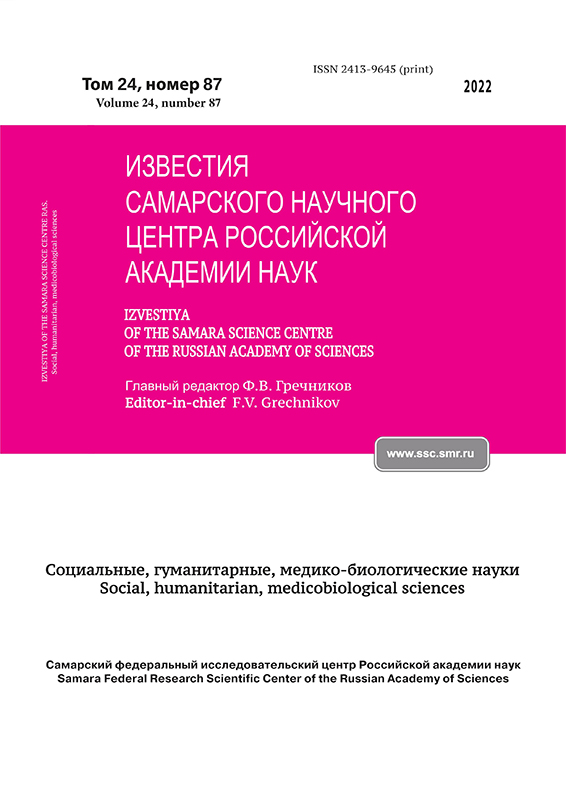Chaos of «Horizons of Expectations» in F.M. Dostoevsky's Novel «The Possessed»
- Authors: Gorbarenko E.A.1
-
Affiliations:
- Leningrad Regional Branch of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
- Issue: Vol 24, No 6 (2022)
- Pages: 45-52
- Section: HUMANITIES SCIENCES
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/120110
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2022-24-87-45-52
- ID: 120110
Cite item
Full Text
Abstract
The article offers a completely new perspective for Dostoevsky studies of the study of Dostoevsky's artistic creativity, specifically one of the novels of the «great five books» – the novel «The Prossessed». The concept of «horizons of expectations», which is used in the presented study, has received its justification within the framework of the receptive aesthetics of G.R. Jauss. In the works of Jauss, the main attention is paid to the peculiarities of the reader's perception of the text. In our study, we propose to expand the possibilities of this approach. Therefore, the concept of «horizon of expectations» is used by us in relation not only to the level of reader's perception of the text, but also to the «expectations» of the writer and the characters of the novel. For this purpose, draft versions of the text are involved, which help to trace the dynamics of the author's idea and, accordingly, the change of the «horizons of expectations» of the writer. Equally important is the analysis of the «horizons of expectations» of the most important characters, their change, mutual intersection or substitution. This allows, firstly, to rethink the plot roles of the main characters of the novel (Stepan Trofimovich Verkhovensky, Stavrogin, Pyotr Verkhovensky, Shatov, Kirillov), as well as a number of female characters, and, secondly, to expand the ideas available in Dostoevsky studies about the conceptual meaning of each artistic image in the novel as a whole.
Full Text
Введение. В настоящее время назрела необходимость современного прочтения творческого наследия Федора Михайловича Достоевского. Начиная с конца XX в., отечественное литературоведение и, в том числе, достоевистика, продуктивно осваивало в прикладном виде западную философскую методологию [5]. Рецептивная эстетика как направление в теории литературы возникло в 60–70 годы ХХ столетия и продолжает пополняться научными работами в основном зарубежных исследователей. Необходимо сразу определить принципиально важное для нас положение: в нашем случае знакомство с теоретическими работами Р-Х Яусса [15] и концепцией рецептивной эстетики [16] послужило стимулом для формирования собственного литературоведческой концепции, апробацию которой мы предлагаем на основе анализа романов Ф. М. Достоевского.
Методы исследования. Методологическим основанием для исследования текстов Достоевского для нас является сочетание нескольких аналитических методов. По отношению к роману «Бесы» наиболее продуктивными, на наш взгляд, являются:
- проблемно-тематический (анализ тематики и проблематики произведений писателя в свете особенностей его миропонимания);
- историко-литературный (исследование произведений писателя в контексте его творчества);
- аксиологического (интерпретация поведения героев романов в свете актуальных ценностей и идеалов [2]).
В качестве общих ориентиров использованы рекомендации герменевтической школы (П. Рикёр [13]).
История вопроса. Понятие «горизонты ожиданий» является, как известно, ключевым в теории восприятия Х.-Р. Яусса и используется в рецептивной эстетике. Между тем, сам Х.-Р. Яусс, известный историк и теоретик литературы, по его признанию, заимствовал это понятие из работ социолога Карла Маннгейма и философа Карла Поппера: «Поппер рассматривает «горизонт ожидания» как предпосылку наблюдения, а такой разворот проблемы наблюдения дает основание сопоставить его с моей попыткой определить специфическую роль литературы в общем процессе формирования опыта ˂…˃. По Попперу, прогресс в науке и донаучный опыт объединяет то, что каждой гипотезе, как и каждому наблюдению, всегда предшествуют ожидания, «и именно те, которые конституируют горизонт ожидания, собственно, и делающий значимыми наблюдения ˂…˃» [11]. Для прогресса науки, как и для практики жизненного опыта, весьма существенным моментом является «разочарование в ожиданиях”» [16].
Мы предлагаем использовать это понятие в более широком значении, нежели Г.Р. Яусс, который рассматривал в рамках рецептивной эстетики «горизонты ожиданий» у читателя, то есть уделял внимание прежде всего проблеме рецепции текста. На наш взгляд, «горизонты ожиданий» образуются и меняются не только у читателя, но и у автора и, конечно, у героев произведения. Нас интересуют прежде всего герои романов Ф.М. Достоевского, их субъективные «ожидания», сбывшиеся и несбывшиеся. Не менее важное значение имеет «репутация» героя в глазах автора и читателей, которая может быть внутренне противоречивой либо динамично меняющейся по ходу развития сюжета или оформления творческого замысла.
Результаты исследования. Роман «Бесы» занимает свое уникальное место с точки зрения нашего исследования. В «Преступлении и наказании» центральные герои – Раскольников и Соня Мармеладова – являют собой персонализированное конфликтное противостояние основных различающихся «горизонтов». В романе «Идиот» князь Мышкин – представляет собою персонифицированное средоточие очень разных «горизонтов ожиданий» для остальных персонажей. В романе «Подросток» главный герой также безусловен и подразумевается уже в названии. В итоговом произведении основные герои также обозначены в названии – это все «братья Карамазовы».
С романом «Бесы» всё сложнее. Не случайно Л.И. Сараскина отмечала, что это «самый спорный, самый многострадальный» роман писателя [14]. Основанием к такому выводу служит сама история создания произведения [2, т. 12]. Работа над романом на стадии меняющихся один за другим творческих планов шла у Достоевского более года, с 1869 по 1871 гг. Примечательно, что в ходе этого творческого процесса менялись и претенденты на роль главного героя.
Первоначально «эти планы объединяет памфлетная направленность замысла. Главные герои памфлета — Грановский и его сын, Нечаев. Образ Князя играет в планах второстепенную роль. Своеобразие и значительность образ этот начинает приобретать в записях второй половины февраля 1870 г.» [2, т. 12, с. 173]. Здесь упомянуты два прототипа (Грановский и Нечаев), которых в романе сменят отец и сын Верховенские. Что касается «Князя», то в романе это будет Николай Ставрогин (уже без «княжеского» статуса). Одна из позднейших его характеристик в черновых авторских записях заканчивается обобщением: «ИТАК, ВЕСЬ ПАФОС РОМАНА В КНЯЗЕ, он герой. Всё остальное движется около него, как калейдоскоп» [2, т. 11, с. 136]. Автор Комментариев к роману, Н.Ф. Буданова, делает вывод, что «творческие искания Достоевского весной 1870 г. подготовили совершившийся летом 1870 г. коренной перелом в творческой истории романа, в результате которого политический памфлет соединился с романом-трагедией, а центральным персонажем «Бесов» стал Ставрогин» [2, т. 12, с. 183].
Мы остановили внимание на истории замысла, потому что статус «центрального героя» в «Бесах» можно еще уточнять. Самому Ф.М. Достоевскому могло казаться (и это отражалось в черновых записях), что он с главным героем окончательно определился – это Ставрогин. Однако художнический инстинкт не позволял писателю отодвинуть на второй план других претендентов, это касается прежде всего Степана Верховенского. В этом отношении нам представляются убедительными суждения Н.А. Макаричевой. Имея в виду аргументы в пользу Ставрогина как центрального героя, она указывает: «В целом принимая приведенную логику, нельзя не заметить, что в ней образу Степана Верховенского отводится почти служебная роль (родитель Петра и домашний воспитатель Николеньки Ставрогина). Между тем, это несправедливо. Если оставаться в рамках романа, то сопоставление сюжетных судеб Степана Верховенского и Николая Ставрогина позволяет прямо соотносить их образы как в равной мере, хотя и по-разному – центральные для этого произведения» [8].
Таким образом, в связи с переменами авторского замысла, с неизжитым до конца статусом главного героя обнаруживаются подвижные «горизонты ожиданий» самого Достоевского. В зависимости от того, кто на данный момент занимает место главного героя, творческая энергия Достоевского направляется то по одному вектору, то по-другому.
В окончательном тексте романа такая исходная переменчивость не только оставила свой след, но обусловила, на наш взгляд, важную составляющую концепции произведения в целом. Обозначенное в названии явление – это бесовщина, или одержимость, которая по-разному и в разной степени овладевает едва ли не всеми персонажами романа. Здесь нет полноценных персонифицированных «горизонтов» (как Раскольников или князь Мышкин), то есть таких героев, к кому интерес остальных персонажей не остывал бы или не менялся бы кардинально. В то же время личностных «горизонтов», характерных для того или иного персонажа, порой даже слишком много: они чередуются и мешаются друг с другом. Хорошо передает эту особенность слово из черновых записей Достоевского, где про Степана Верховенского сказано, что он «не поддался новым идеям и остался верен старому идеальному сумбуру» [22, т. 11, с. 176].
Ближайшие «горизонты ожиданий» часто оборачиваются в романе обманчивыми «псевдогоризонтами», что вполне соответствует «бесовщине», на которую указывает не только название романа, но и один из эпиграфов, из пушкинских «Бесов»: «Хоть убей, следа не видно, /Сбились мы, что делать нам? / В поле бес нас водит, видно, /Да кружит по сторонам…» [2, т. 10, с. 7].
Н.А. Макаричева в своем исследовании применительно к «Бесам» удачно ввела в обиход понятие «гендерной валентности», имея в виду отношения героев с женщинами. Согласно ее наблюдениям, в этом романе есть персонажи «многовалентные» (Степан Верховенский и Николай Ставрогин), и напротив, персонажи с «нулевой валентностью» [8, с. 178–179]. В свете нашей темы здесь возможна аналогия с вариативностью «горизонтов ожиданий» у разных персонажей романа. Только «нулевой валентности» (то есть полного отсутствия «горизонтов ожиданий») в романе «Бесы» почти не наблюдается. Таких «горизонтов», даже персонифицированных, по ходу сюжета может обнаружиться всего два или три. Но их сочетаниям в одном «лице» свойственна сумбурность.
Хорошей иллюстрацией к этому служит образ генеральши Варвары Ставрогиной. С одной стороны, ее устремления охарактеризованы очень обобщенно: «Это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений» [2, т. 10, с. 12]. С другой стороны, не столько ее «соображения», сколько фантазии ищут и находят персонифицированные воплощения. Вначале она избирает своим «горизонтом ожиданий» давнего друга Степана Верховенского. Он «стал наконец для нее ее сыном, ее созданием, даже, можно сказать, ее изобретением, стал плотью от плоти ее <…> Она его выдумала и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то ее мечты» [2, т. 10, с.16].
Затем, даже еще без утраты прежнего «горизонта», возникает новый, олицетворенный в сыне Николае Ставрогине: «…сын явился пред нею теперь как бы в виде новой надежды и даже в виде какой-то новой мечты» [2, т. 10, с. 38]. Примечательно, что в отношениях Варвары Ставрогиной как к «давнему другу» Степану Верховенскому, так и к своему сыну повторяется мотив «рабства». Только при этом он как бы переворачивается: от друга она требует «даже рабства»; а к сыну сама относится «словно раба». Дело, на наш взгляд, в том, что оба эти персонифицированные «горизонты» в ее воображении оказываются нестойкими и даже взаимозаменяемыми.
Степан Верховенский сумел вырваться из «рабства» и в «новый путь», на котором его подстерегали болезнь и гибель. Последнее же примирение у него с генеральшей состоялось, когда она хватилась «друга» и настигла его на «большой дороге», но уже на смертном одре. Это способствует и освобождению (правда, временному) Варвары Петровны от рабства перед другим ее мнимым «горизонтом», воплощенном в Николае Ставрогине.
Однако и в этом случае всё оборачивается самообманом. Генеральша недолго способна оставаться «на саму себя», без «горизонтов» как жизненных ориентиров. Когда Николай Ставрогин письмом зовет за собой в Швейцарию беззаветно преданную ему Дарью Шатову, то и Варвара Петровна намерена следовать за ними. Помимо этих двух персонифицированных «горизонтов ожиданий» на Варвару Ставрогину постоянно оказывают влияние другие манящие цели и «прожекты». В этом отношении она тоже как бы многовалентна и потому не способна выбраться из паутины своих и чужих «горизонтов».
Например, был в череде ее увлечений «идейный период»: «…кроме фактов явились и какие-то сопровождавшие их идеи, и, главное, в чрезмерном количестве. <…> Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать всё на деле, вникнуть лично и, если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим, она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. <…> Всё, однако, <…> лопнуло, как радужный мыльный пузырь. Мечты разлетелись, а сумбур не только не выяснился, но стал еще отвратительнее» [2, т. 10, с. 20–21]. Характерно, что «проект» генеральши Ставрогиной возник на пересечении и смене двух ее персонифицированных «горизонтов». Надежды на Степана Верховенского потускнели, а на сына Николая, напротив, – обострились. Между тем, пошли слухи, что Ставрогина и воспитанницу генеральши Дарью связывают некие тайные «чувства». Она «…мысли она не могла допустить, чтоб ее Nicolas мог увлечься ее… «Дарьей»» [2, т. 10, с. 56]. Так и рождается взбалмошный проект генеральши – сделать Степана Трофимовича и Дарью «горизонтами ожиданий» друг для друга, то есть сочетать узами брака, притом добровольного. И она их обоих изобретательно уговаривает.
Примечательно, что ее уговоры во многом сходны с тактикой Петра Верховенского, когда он почти принуждает членов «пятерки» к участию в убийстве Ивана Шатова. Он, как и она, навязывает им свой личный «горизонт». Но такая манипуляция людьми срабатывает только на ближайшую перспективу. Этот «прожект» тоже «лопнул как радужный мыльный пузырь» прямо в день его обнародования. Главную роль сыграло то, что «горизонт» Варвары Петровны пересекся и вошел в противоречие с планами Петра Верховенского и Николая Ставрогина на будущее. И Петр, как более умелый манипулятор и искушенный в интригах персонаж, легко одержал верх.
Наибольшее влияние на окружающих (особенно женщин) оказывает в романе Николай Ставрогин. Среди его «побед» – Марья Шатова, Лиза Дроздова, Марья Лебядкина и девочка Матреша. Всех женщин Ставрогин довел до гибели. Поэтому можно считать, что в этом герое воплотился их «гибельный горизонт».
В этой связи особенно примечательна Марья Лебядкина, или «Хромоножка». Для Ставрогина она – никакой не «горизонт», а лишь подвернувшаяся жертва, прихоть его многовалентного сладострастия. С ее же стороны различимы признаки одержимости, притом даже и в значении психиатрическом. Развитие их взаимоотношений проходят по сюжету несколько стадий. Первая известна в двух трактовках, от лица Петра Верховенского и Кириллова. Верховенский: «Лебядкина, которой одно время слишком часто пришлось встречать Николая Всеволодовича, была поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне ее жизни <…> А Николай Всеволодович, как нарочно, еще более раздражал мечту: вместо того чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к mademoiselle Лебядкиной с неожиданным уважением». Кириллов же считал, что это был новый этюд пресыщенного человека с целью узнать, до чего можно довести сумасшедшую калеку.
Оба интерпретатора – как Верховенский, так и Кириллов – согласны в том, что Марья Лебядкина живет своими больными фантазиями. В первой фазе своего восприятия Ставрогина она видит в нем «предел мечтаний», единственный светлый горизонт на мрачном фоне ее жизни. И это завершилась «немыслимым» для многих венчанием. Даже и при новой встрече, после большой паузы, Хромоножка продолжает видеть в Ставрогине своего кумира, хотя в ее впечатления уже проникают противоречивые мотивы: «…и испуг и восторг» [2, т. 10, с. 146].
Переворот происходит в последней фазе, когда в больном сознании Марьи Лебядкиной светлый горизонт сталкивается с обратным по значению. И это, как ни парадоксально, делает Хромоножку прозорливой носительницей народной правды. В результате она обвиняет Ставрогина, который будто бы подменил в ее воображении прежнего кумира:
«Похож-то ты очень похож, может, и родственник ему будешь, – хитрый народ! Только мой – ясный сокол и князь, а ты – сыч и купчишка! <…> Прочь, самозванец! – повелительно вскричала она» [2, т. 10, с. 219].
Это будет стоить ей жизни, потому что последующее ее убийство инспирировано Ставрогиным.
Одержимы Ставрогиным и мужские персонажи. Например, Петр Верховенский видит в нем возможного и желанного вождя революционных потрясений. Петр Верховенский, как и ранее Лебядкина, также выдумал себе Ставрогина, глядя на него «из угла». Для нее он был «ясным соколом и князям», а для Петра Степановича – «Иван-Царевичем». Если Хромоножка обвиняла его в «самозванстве», то теперь Верховенский-младший пытается навязать ему такую роль. И обоих Ставрогин воспринимает исступленными фантазерами. А ближе к финалу Петр Степанович вновь напоминает Хромоножку, когда в его восприятии Ставрогин как желанный «горизонт» так же, как у нее, сменяется на противоположный: «Какая вы «ладья», старая вы, дырявая дровяная барка на слом!..» [2, т. 10, с. 408].
Принципиальное отличие Верховенского-младшего от Хромоножки состоит в том, что оба ее «горизонта» были зациклены на Ставрогине, тогда как у Петра Степановича «горизонтов ожиданий» множество, он в этом отношении многовалентен. Крупные, масштабные его устемления сочетались с мелкими, и одни служили другим: «У Петра Степановича действительно были некоторые замыслы на родителя. <…> Это нужно было ему для целей дальнейших, посторонних, о которых еще речь впереди. Подобных разных расчетов и предначертаний в ту пору накопилось у него чрезвычайное множество, — конечно, почти все фантастических. Был у него в виду и другой мученик, кроме Степана Трофимовича. Вообще мучеников было у него немало, как и оказалось впоследствии» [2, т. 10, с. 241].
Что касается Ставрогина, то он также способен жить на сочетании и перекрестье разных своих и чужих «горизонтов». В этом его уникальность в романе, потому и не состоялись расчеты Петра Верховенского на него. Ставрогин остается свободен даже от собственных, тем более от чужих увлечений, в чем выражается его душевная ущербность. Убедительно прокомментировал это Е.М. Мелетинский: «Ставрогин совмещает в себе разнообразные и противоречащие друг другу идеи, к которым при этом практически совершенно равнодушен. Он вместилище этического хаоса, метания между добром и злом, между полнейшим атеизмом и верой, силой и бессилием. Он – воплощение русского хаоса в рамках личности, а Пётр Верховенский – сеятель хаоса в общественной жизни» [10, с. 113].
Итак, Ставрогин способен иметь в виду разнообразные «горизонты». Они равновеликие в том отношении, что каждый из них может стать для кого-то другого всепоглощающей целью жизни (или даже смерти). Но сам Ставрогин как «генератор идей» (а вернее, «генератор горизонтов») остается свободен от их влияния. Самого его они не «поглощают» целиком, но ищут выхода, воплощения – и находят своих «носителей». Ставрогин фактически как бы заражает некоторыми своими «идеями-горизонтами» других персонажей. Таковыми в романе являются Кириллов и Шатов, и оба в отношении к «ставрогинским» идеям-горизонтам одновалентны. Они одержимы этими идеями, устремлены к этим горизонтам.
Кириллов признаёт свою зависимость от Ставрогина лишь однажды в очень лаконичной реплике: «Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин» [2, т. 10, с. 189]. Особенно подробно развернута в романе логика зависимости от Ставрогина его прежнего ученика Шатова, который не так далеко зашел в устремлении к своему «горизонту», как Кириллов – к своему. Поэтому первый из них остается более зависимым, чем второй. В то же время у Шатова заметно двойственное, еще противоречивое отношение к Ставрогину – именно потому, что он готов еще сохранять надежды на «учителя»: «…Я об вас говорю, я вас два года здесь ожидал… <…> Вы, вы одни могли бы поднять это знамя!..». В то же время у Шатова, как у Кириллова, заметно нарастание скепсиса по отношению к Ставрогину. Тем самым Шатов фактически подвергает «ревизии» и разоблачает прежний, безусловный для себя «горизонт»: «Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнию для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?» [2, т. 10, с. 201, 202].
Другое отличие Шатова от Кириллова состоит в том, что по своим личностным возможностям он к финалу романа оказывается шире Кириллова. Кириллов поглощен «ставрогинской» идеей и развивает ее дальше, до логического конца, до своего самоубийства. У Шатова же на усвоенной от Ставрогина идее еще не все закончилось в жизни. Накануне гибели Шатову суждено открыть для себя новый, живительный «горизонт», который делает его на несколько часов по-настоящему счастливым. К нему приезжает его бывшая супруга Мария, ранее обманутая Ставрогиным и беременная от него ребенком, – и Шатов преображается: «Этот сильный и шершавый человек, постоянно шерстью вверх, вдруг весь смягчился и просветлел. В душе его задрожало что-то необычайное, совсем неожиданное. <…> Марья Шатова вдруг опять в его доме, опять пред ним… этого почти невозможно было понять! Он так был поражен, в этом событии заключалось для него столько чего-то страшного и вместе с тем столько счастия, что, конечно, он не мог, а может быть, не желал, боялся опомниться» [2, т. 10, с. 434].
Под влиянием такого душевного потрясения Шатов избавляется от прежних наваждений и готов вступить на новую дорогу, двигаться к другому «горизонту»: «– Marie, –вскричал он, держа на руках ребенка. – кончено с старым бредом, с позором и мертвечиной! Давай трудиться и на новую дорогу втроем, да, да!..» [2, т. 10, с. 453]. Однако жертва была уже обречена. К тому же не только Иван Шатов, но и его вновь обретенная супруга и только что родившийся ребенок тоже погибнут вслед за ним.
Таким образом, Шатов и Кириллов задуманы Достоевским и показаны в романе как незаурядные личности. В них воплотились кардинально разные личностные горизонты Ставрогина. Он, как былой «кумир», заразил их своими идеями, которые в дальнейшем Шатов и Кириллов развивают, живут ими до одержимости. Это тоже своего рода «бесовщина», но питается она глубоким личностным содержанием и энергией. Не случайно сам Ставрогин относится к этим своим последователям серьезно и не без уважения.
Другое дело – Петр Верховенский. К нему Ставрогин относится, напротив, с опаской и не без брезгливости. Он знает цену этому «сеятелю хаоса в общественной жизни». По мнению Николая Всеволодовича, Петр Степанович – «полупомешанный энтузист». Тем самым если образ Ставрогина является художественным средоточием разных идейных измерений (горизонтов), то для образа Верховенского-младшего характерна стихийность [9]. Этот герой – носитель стихии бесовщины. «Стихия» заразительна, потому что безличностна. Подобно зловредному вирусу, она поражает самые нестойкие натуры, не имеющие к ней иммунитета. Или даже натуры, уже предрасположенные к восприятию такой стихии. Эта закономерность и отражена в романе.
Петр Верховенский одержим идеей разрушения устоев, потрясения основ, политического хаоса. Однако само по себе это может и отпугнуть. Тогда нужно замаскировать ее, например, под «горизонты» утопического социализма и самоотверженной борьбы со злом. Хорошо знающий цену подобным социалистическим идеям, Степан Трофимович проницательно замечает: «Их пленяет не реализм, а чувствительная, идеальная сторона социализма, так сказать, религиозный оттенок его, поэзия его… с чужого голоса, разумеется» [2, т. 10, с. 324]. Сам Петр позднее, в минуту откровенности, признается Ставрогину: «Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!» [2, т.10, с. 324]. Именно поэтому он склонен к манипулированию людьми недалекими, нестойкими, и ему легко удается их устремления направить будто бы на благое «общее дело», а конкретно – на убийство Шатова. Наиболее типичные его сторонники – прапорщик Эркель, чиновники Виргинский и Липутин. «Бесовщина» как стихия еще до череды беспорядков и убийств захватила не только последователей Ставрогина и Петра Верховенского. Например, не без влияния Петра Верховенского это коснулось Варвары Ставрогиной: «Казалось, она точно переродилась и из прежней недоступной «высшей дамы» (выражение Степана Трофимовича) обратилась в самую обыкновенную взбалмошную светскую женщину» [2, т. 10, с. 261]. Выразительный сумбур «горизонтов ожиданий» овладел головой губернаторши Юлии Лембке – и тоже не без влияния Петра Верховенского. Амбициозная губернаторша показана в романе взбалмошной дамой, одержимой своей репутацией. Она и объединительница сословий и партий, и воспитательница молодежи, покорительница сердец, и даже спасительница отечества. Под стать своей супруге и губернатор, Андрей Антонович Лембке [12]. Если ей мерещится в губернии «антиправительственный заговор», то ему – городской «бунт». Это его негативный «горизонт ожиданий».
Таким образом, в этом романе Ф.М. Достоевский представил «бесовщину» в широких ее разновидностях – идейную, политическую, личностную, стихийную и прочую. Он видел в ней болезнь своего времени, 1870-х гг. Но, возможно, писатель заглядывал и гораздо дальше. Понятие «горизонта ожиданий» помогает нам увидеть динамику образов романа, подверженность той «бесовщине», которые становятся смертельной для многих из них.
Выводы. Применение понятия «горизонты ожиданий» при анализе романа «Бесы» позволяет сделать нам ряд важных выводов. Во-первых, анализ истории создания романа и поиски главного героя Ф.М. Достоевским свидетельстуют о том, что «авторские ожидания» неоднократно подвергались корректировке в зависимости от смены концепции романа.
Во-вторых, Ставрогину как главному героию романа свойственна уникальная многовалентость по отношению к личным горизонтам ожиданий, которая при этом сочетается со свободой от их влияния.
В-третьих, «бесовщина» как стихийное явление, способное захватывать умы и сердца людей, мастерски показана через стихийный характер идейного влияния на окружающих Петра Верховенского. Это обеспечивает ее широкое распространение и высокую степень «заразности», о чем свидетельствуют судьбы Эркеля, Виргинского, Липутина.
About the authors
Ekaterina A. Gorbarenko
Leningrad Regional Branch of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Author for correspondence.
Email: romanovakaterina@list.ru
Senior lecturer of Socio-Economic and Humanitarian Subjects Department
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Budanova, N. F. Besy // Dostoevskii: Sochineniia, pis'ma, dokumenty: Slovar'-spravochnik (Dostoevskij: Essays, letters, docu-ments: Dictionary-reference). – SPb.: «Pushkinskii dom», 2008. – 468 s.
- Dostoevskii, F. M. Poln. sobr. soch. (Complete works) v 30 tt. – L.: Nauka, 1972–1990.
- Vlaskin, A. P. Aksiologicheskaia sostavliaiushchaia khudozhestvennogo mira romana F. M. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazanie» (The axiological component of the artistic world of F. M. Dostoevsky's novel «Crime and Punishment») / A.P. Vlaskin // Dostoevskii: Filosofskoe myshlenie, vzgliad pisatelia. – SPb.: Dmitrii Bulanin, 2012. (Dostoevsky monographs; Vyp.3) – 491 s.
- Vlaskin, A. P., Rudakova, S. V. Metasmysly zaglavii romanov Dostoevskogo (Meta - meanings of the titles of Dostoevsky 's novels) // LIBRI MAGISTRI. – Vyp.2 (16). – Nasledie F. M. Dostoevskogo i sovremennost'. – Magnitogorsk: Izd-vo MGTU im. G.I. Nosova, 2021. – S. 119–128.
- Egorova, L. P. K voprosu o literaturovedcheskoi interpretatsii i ee issledovatel'skikh prizmakh (To the question of literary interpretation and its research prisms). // Izvestiia Sochinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2013. – № 1 (23). – S. 182–186.
- Istoriia estetiki: Uchebnoe posobie (History of aesthetics: Study guide) / Otv. red. V.V. Prozerskii, N.V. Golik. – SPb, 2011. – 702 s.
- Kozhanova, V. Iu. Kontsepty retseptivnoi estetiki v interpretativnoi paradigme mediateksta (Concepts of receptive aesthetics in the interpretative paradigm of media text) // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriia 10. Zhurnalistika. – 2012. – № 5. – S. 97–107.
- Makaricheva, N. A. Khudozhestvennaia genderologiia v tvorcheskikh iskaniiakh F. M. Dostoevskogo (Artistic genderology in the creative quest of F. M. Dostoevsky). – SPb.: Izd-vo SPbGEU, 2019. – 301 s.
- Makarichev, F. V. Khudozhestvennaia individologiia F.M. Dostoevskogo (F.M. Dostoevsky 's Artistic Individuology). – Spb: Ele-kSis, 2016. – S. 122–339.
- Meletinskiĭ E.M. Zametki o tvorchestve Dostoevskogo (Notes on Dostoevsky 's work). – M.: RGGU, 2001. – 187 s.
- Popper, K. Ob"ektivnoe znanie: Evoliutsionnyi podkhod (Objective Knowledge: An Evolutionary Approach). – M: Editorial URSS, 1979. – 91 s.
- Postnikova, E. G. Mifologiia vlasti i vlast' mifologii: M.E. Saltykov-Shchedrin – F.M. Dostoevskii (The mythology of power and the power of mythology: M.E. Saltykov-Shchedrin – F.M. Dostoevsky). – Magnitogorsk: Izd-vo MaGU, 2009. – 230 s.
- Riker, P. Konflikt interpretatsii. Ocherki o germenvtike (Conflict of interpretations. Essays on hermeneutics). – M.: Akad-emicheskii Proekt, 2008. – 695 s.
- Saraskina, L. I. «Besy»: roman-preduprezhdenie («The Possessed»: a warning novel). – M.: Sov. pisatel', 1990. – 478 s.
- Iauss, G. R. Istoriia literatury kak vyzov teorii literatury (The History of literature as a challenge to the theory of literature) // Sovremennaia literaturnaia teoriia. Antologiia / Sost. I. V. Kabanova. – M., 2004. – 342 s.
- Iauss, Kh.-R. Istoriia literatury kak provokatsiia literaturovedeniia (The History of Literature as a provocation of literary criti-cism) // Novoe literaturnoe obozrenie. – 1995. – № 12. – S. 34–84.
- Jaus, H-R. Question and answer: forms of dialogic understanding. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989. – 283 s.
Supplementary files