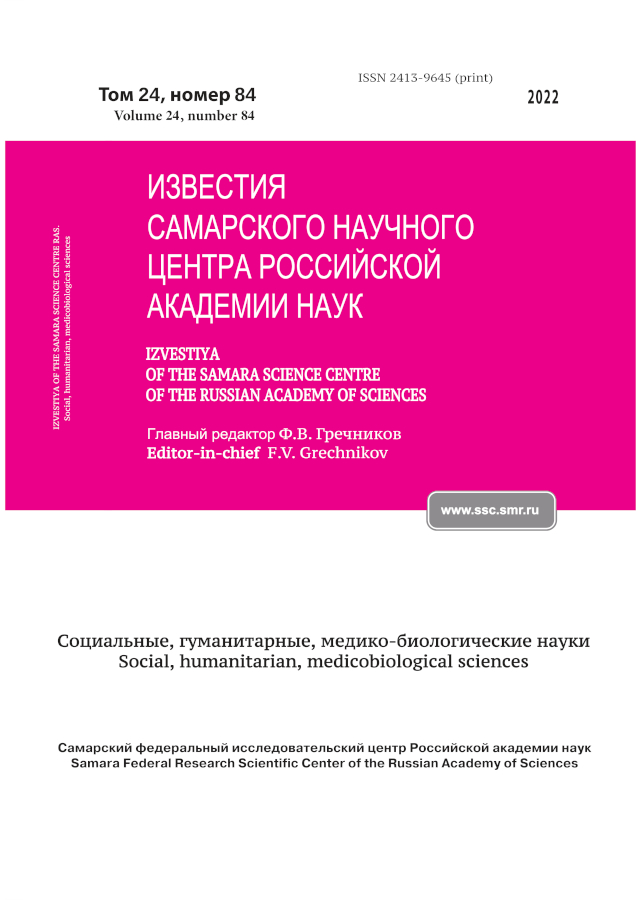Apophaticism of pain in S.A. Yesenin’s poem “Black man” (liminal states in Russian culture)
- Authors: Dudareva M.A.1
-
Affiliations:
- Peoples' Friendship University of Russia
- Issue: Vol 24, No 3 (2022)
- Pages: 52-60
- Section: HUMANITIES SCIENCES
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/121345
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2022-24-84-52-60
- ID: 121345
Cite item
Full Text
Abstract
The object of the article is apophaticism as a phenomenon of artistic culture. The subject is apophaticism of the phenomenon of pain, which is perceived from metaphysical positions in the Russian philosophical thought. The material for the article is represented by S.A. Yesenin’s poem “Black Man” and his early poems. The ethos of life and death in the poet’s art is subject to hermeneutic reconstruction. Much attention is given to the Russian folklore tradition in the poet’s works, which is expressed both explicitly and implicitly. One can find liminal, i.e. borderline states in the Russian folklore, in folkloric accounts, in fairy tales in which the hero stays. These states are associated with temporal death and going through the initiation path. The research methodology represents a holistic ontohermeneutical analysis aimed at highlighting the folklore paradigm in S.A. Yesenin’s poetic style. Much attention is paid to the oneiric space in his figurative system, as well as to the phenomenon of “black” colour which is ambivalent in the world culture. The research results lie in revealing the cultural potential of the poem “Black Man” for further study of the apophatic aspect of the phenomenon of pain as well as apophaticism as a specific feature of the Russian culture associated with the phenomenon of pain and death. The results can also be used in courses on Russian literature, culturology and philosophy.
Full Text
Введение. Разговор о феномене боли должен начаться с размышлений о лиминальных, то есть пограничных состояниях в мировой культуре, поскольку боль связана с болезнью, она амбивалентна — боль, с одной стороны, не является отрицательным понятием [22, с. 89], в ней сказывается не недостаток, а присутствие, избыток, с другой стороны, через боль человек стремится к обнулению, к отказу от этого избытка (рациональности). Но боль апофатична, то есть непостижима, и потенциальна, поскольку необходима для нас, людей метафизически отрешенных, погруженных в мир «радикального гедонизма» [21, с. 217-219]. Интересно то, что боль в мировой архаической культуре ассоциировалась с черным цветом — это хорошо показал В. Тернер, исследуя цветовую классификацию в африканском ритуале [18, с. 71].
История вопроса. Мы привыкли воспринимать черное с негативным оттенком, но ведь без черного, без темного, наконец, без Тьмы мы доподлинно и не ощутили бы значения, ценности Света. Черное и белое взаимосвязаны, они одухотворяют друг друга. Немецкий философ Р. Штейнер, чье антропософское учение повлияло на многих представителей Серебряного века [15] (в том числе на Есенина), разработал теорию о сущности цвета, цвета-переживания, связав черное с образом (имагинацией) смерти, белое — с жизнью и светом: «Нельзя говорить о цветовых переживаниях как филистер, ибо тогда вообще не прийти к переживанию цвета. <…> Что черное есть тьма — в этом мы не сомневаемся; поэтому нам весьма легко идентифицировать белое со светлым, со светом как таковым. Короче говоря, когда мы поднимаем все наше рассмотрение в область ощущений, мы уже находим там глубокую связь белого со светом» [25, с. 39]. Однако далее философ указывает на одухотворенный характер черного цвета, который вступает в парадигматические отношения с белым: «Именно черным штрихом, черной поверхностью вы одухотворяете белое» [Там же, с. 42].
Но где же тот момент (и как уловить его), когда цвет превращается в свет, вечерний или невечерний? Например, у С.А. Есенина цвет перестает быть просто цветом, черным или белым, когда герой оказывается на пороге, в пограничный час своего бытия встречается лицом к лицу со Смертью. Смерть мыслится не столько как конечная инстанция, сколько как лиминальное состояние, из которого должен выбраться герой. Это даже не смерть в прямом смысле слова, а некое ее предчувствие, sensus mortis, проживание в образе — коня на крыше избы, лебедя, головы, машущей ушами, черного человека, дерева-всадника и т.д. Через эти образы открывается бытийный и инобытийный план художественного текста. Как же мы должны воспринимать тогда черного человека? Кто он для нас? Мы боимся его как самой темной ночи? В русской словесной культуре воплотилось со-противопоставление жизни и смерти в образе черного солнца [19]. Именно в таком световом образе, полуденной тьме, выражается, по мысли М. Хайдеггера, потаенное бытие: «Обывательское мнение видит в тени только нехватку света... тень есть явное, хотя и непроницаемое свидетельство потаенного свечения» [22, с. 62]. Конечно, без посыла в Тьму — ночь — мировую полночь (смерть), о чем размышляли и немецкие романтики (Новалис в «Гимнах к ночи»), и С. Есенин, невозможно приблизиться к тайне мироздания. Из тени и в тени возникает свет, о чем подробно писал в порубежный период и русский философ Н. А. Бердяев: «Из Ungrund'a, из Бездны рождается свет, Бог, совершается теогонический процесс и истекает тьма, зло как тень божественного света. Зло имеет источник не в рожденном Боге, а в основе Бога, в Бездне, из которой течет и свет, и тьма» [2, с. 155].
Методы исследования. Изучение феномена боли, сопряженного с феноменом смерти в мировой культуре и его апофатической стороны в поэтике С. Есенина, требует имманентного прочтения последней знаковой поэмы «Черный человек» с привлечением онтогерменевтического анализа лиминальных состояний, формул «порога» в раннем и позднем творчестве поэта. Еще С.М. Городецкий в воспоминаниях о Сергее Есенине (1926) подчеркивал необходимость выявления «потусторонней струи» в творчестве имажинистов: «...было бы любопытно проследить в стихах других имажинистов и во всем имажинизме эту струю потусторонности. Она должна там иметься. Но разница в том, что то, что для других было литературой, для Есенина было самой жизнью» [6, с. 129]. Однако здесь необходимо сделать одно важное дополнение: Есенин, обращаясь к теме смерти еще в трактате «Ключи Марии» и указывая на необходимость «послания в смерть», тут же оговаривает: «Конечно, никакие сестры не убивали своей сестры; это убил ее в своем сердце наш творчески жестокий народ, чтоб легче слить себя с тайной звуков и слова и овладеть ею как образом» [9, т.5, с. 190]. Смерть для поэта — проявление не физическое, не столько факт материального мира, сколько временное переживание, необходимость для творчества (а значит, и жизни-бессмертия), глубинно усвоенная самим народом (и здесь жестокий — не с отрицательным знаком) в его творчестве, вышивке, резьбе, избяном орнаменте. Необходимо овладеть смертью в имагинативном, то есть в образном смысле, преломить (приручить) ее в символах, доступных для души. Эти символы, этнопоэтические константы, и описал С.А. Есенин в «Ключах Марии» и применил в своем творчестве. Здесь необходимо принять во внимание теоретическую сторону вопроса о фольклорных формулах и поэтических общих местах, топосах, связанных с «тем светом», а не притягивать определенные есенинские строчки вроде «в зеленый вечер под окном…», «себя усопшего», провокационное начало из «Черного человека» к биографии поэта и странному уходу из жизни. Одно дело — стилизация, размышления по теме, прямое обращение к теме смерти у того же А. Мариенгофа, что сказывается уже на лексическом уровне, другое — органическое восприятие фольклорной действительности, вживание в систему мышления архаического человека в поэтическом мире Есенина, о чем сам он писал в статье «Быт и искусство» (положения об органическом мышлении). Поэт пропускал тему смерти, как через фильтр, через фольклорное мировосприятие, при этом фольклорные формулы и коды перерабатывались. Это обусловлено тем, что для «зрелого сказителя формула значит не то же самое, что для юного ученика, точно так же разное значение имеет она для искусного и для неумелого, менее вдохновенного певца» [12, с. 43]. Нужно учитывать, что более «общие места» фольклорного нарратива пластичны в отношении комбинирования элементов, но всегда устойчивы в содержании [14].
Результаты исследования. Есениновед Е.А. Самоделова обращалась к непосредственным проявлениям темы на лексическом уровне, к текстам вроде «Колокольчик среброзвонный», в котором, по мнению исследователя, заключено противоречие, дихотомия жизни и смерти [16]. Однако стоит посмотреть на это стихотворение с точки зрения фольклорной формульности. Привлекательно начало стихотворения:
Колокольчик среброзвонный,
Ты поешь? Иль сердцу снится? [9, т.1, с. 82]
В этом текстовом фрагменте заключена вся семантическая напряженность стихотворения: колокольчик поет или это лишь снится герою? Здесь создана полусновидческая действительность, которая погружает сознание лирического героя в другую, небытовую реальность. Кроме того, звук колокольца, струны в русском фольклоре, например, в волшебной сказке, маркируют пространство, или выполняя функцию оберега, или означая нарушение запрета, что косвенно влечет за собой последующие испытания для героя [7, с. 75]. Человек оказывается в пороговой ситуации, которая нарушает привычный ход вещей, позволяя иначе взглянуть на обыденное. С одной стороны, лирический герой спит:
Сон мой радостен и кроток
О нездешнем перелеске. [9, т.1, с. 82]
С другой стороны, он не спит, так как видит самого себя, наблюдает за собой со стороны:
Свет от розовой иконы
На златых моих ресницах.
Пусть не я тот нежный отрок
В голубином крыльев плеске,
Сон мой радостен и кроток
О нездешнем перелеске. [9, т.1, с. 82]
И тогда никакой неразрешимой антиномии, заключенной в идее вечного сна и «живой могилы» одновременно, здесь нет, на что указывала Е.А. Самоделова:
Мне не нужен вздох могилы,
Слову с тайной не обняться.
Научи, чтоб можно было
Никогда не просыпаться. [9, т.1, с. 82]
В обмираниях в фольклоре (сюжеты о посещении «того света») герой пребывает в состоянии пограничности, достигаемом посредством вынужденного сна. И такое лиминальное положение соответствует состоянию инициации, то есть герой приобщается к высшей реальности, достигает сакральных знаний (лиминальность понимается нами, вслед за В. Тернером, как «пороговость» [18, с. 169]). Это можно было бы выразить формулой Вячеслава Иванова — a realibus ad realiora. Кроме того, на нее указывал и Городецкий относительно есенинской философии: «Конец Есенина оказался практическим применением формулы Вячеслава Иванова — a realibus ad realiora — от реального к высшей реальности, т. е. от земли на тот свет». Только вот он не вполне верно понял эту реализацию в творчестве Есенина. И Иванов, и Есенин говорили о сакрализации бытовой действительности, о ее преломлении в художественной, через Логос, таким образом, что бытовое становилось проникнутым сакральным смыслом, в обыденном провиделось вечное, иерофаническое, космическое, но «это должно означать отнюдь не уход от плотной и ощутимой реальности к чему-то призрачному и нереальному» [4, с. 145].
И орнамент, и петушки, и цветы на постельном и тельном белье как бы есть просто знаки, но для поэта это вечная знаковая система, наполненная энтелехийной энергией. «Ведь сестры не убивали девушки!» [9, т.5, с. 190]. Это произошло в сердце народа, в душе художника слова. Ни о каком «том свете» в прямом его назначении и речи не идет. Имагинативное, то есть образное, видение действительности и есть ad realiora, то есть прорыв от быта к бытию через Логос, поэтическое слово. Однако для этого самому сказителю необходимо уловить это состояние между бытием и инобытием, как бы впасть в него. Этим и оправдано обращение к некоторым фольклорным формулам, отсылающим и сказителя (поэта), и героя к поиску «иного царства», проживанию его в художественной реальности.
Стихотворение «Колокольчик среброзвонный» говорит именно о таком состоянии: формула поиска, выраженная в сомнении («Ты поешь? Иль сердцу снится?»), потенциально связана с топикой «того света». Вспомним «общие места, устойчивые словосочетания (леса темные, дорожка прямоезжая, богатырский голос, добрые кони и т. п.), традиционные формулы сказки (Жили-были.., В некотором царстве.., Скоро сказка сказывается… и т. д.), формулы поэтического языка эпической или лирической песни (Как у ласкова князя у Владимира.., А и конь под ним, точно лютый зверь.., Встану раным-ранешенько… и пр.)» [14]. За каждой такой формулой поэтического языка и ее модификациями кроется определенная семантическая устойчивость. Поэт, обращаясь к подобным сочетаниям, может быть относительно свободен в комбинировании элементов (речь идет не о простых языковых фразеологизмах), но в целом соблюдает законы ритуальной логики и семантику формул.
Сон мыслится как другая реальность — граница между доступным и неведомым. Неслучайно в стихотворении и выражение «о нездешнем перелеске», то есть месте за пределом видимого. Такой семантикой оного мира, эйдологией «иного царства» в фольклоре обладают топосы края леса, поля, места на границе чего-либо [13]. Здесь топос трансформируется в топику, то есть реальное — в реальнейшее. Подобная ситуация перехода встречается и в других стихотворениях. Например, в известном «Я по первому снегу бреду» (1917):
Я не знаю, то свет или мрак?
В чаще ветер поет иль петух?
Может, вместо зимы на полях
Это лебеди сели на луг. [9, т.1, с. 125]
Лирический герой также пребывает в пограничном состоянии, которое позволяет увидеть иномирную действительность. И в этом нет ни капли безумия или намека на болезнь, алкогольное опьянение, которые почему-то упорно усматривают в таком же формульном начале поэмы «Черный человек», хотя Е.А. Самоделова, анализируя образ машущей ушами головы, акцентирует внимание на шее (все-таки на шее ноги, а не ночи) как на пограничном элементе [16, с. 444]. Однако такой формулой перехода, проявившейся в мортальной образности и указывающей на топику смерти в разных вариациях, пронизано все творчество поэта. Так или иначе, именно такой фольклорно-поэтический комплекс есть и в раннем творчестве, в стихотворениях 1917 года, и в позднем. Он связан с разными образами, указывающими на ритуальную реальность в тексте. Так, в стихотворении «Слышишь — мчатся сани...» задана ритуальная действительность образами саней и пьяного клена, с которым как бы пускается в пляс герой с возлюбленной:
Эх вы, сани, сани! Конь ты мои буланый!
Где-то на поляне клен танцует пьяный.
Мы к нему подъедем, спросим — что такое?
И станцуем вместе под тальянку трое. [9, т.1, с. 281]
Речь идет об инвертированной действительности; конечно, нет по существу никакого пьяного танцующего клена, но само обращение к ситуации катания в санях и включение в эту парадигму третьей фигуры отсылает к переходной (погребальной) обрядности. Кони, сани и ладьи — три медиарных символа, по общеславянским представлениям [1]. У Ф.М. Достоевского в «Бесах» воссоздана подобная ситуация: Ставрогин и Лиза тоже были приглашены Петрушей Верховенским покататься в лодочке с кленовыми веселками, где устроителем путешествия, ритуального хаоса являлся Верховенский, а Кормчим — Ставрогин [17, с. 160]. Достоевский непосредственно в этом фрагменте отсылает читателя к мотивам народных разбойничьих песен: «Мы, знаете, сядем в ладью, веселки кленовые, паруса шелковые, на корме сидит красна девица, свет Лизавета Николаевна… или как там у них, черт, поется в этой песне…» [8, т. 7, с. 404]. На этот фрагмент обращали внимание и в связи с разинским сюжетом, «разинской расписной ладьей» [3, с. 220]. Сюжетика есенинского стихотворения тоже не так проста: поэт за метафорой «пьяный клен» спрятал приобщение двоих к другой, высшей реальности. Любовь здесь не пошлая, бытовая, она приобретает статус космической любви. Клен можно помыслить как Мировую ось (третья фигура), сани и коня буланого — как символы переходного обрядового комплекса. И все это происходит также на грани реальной и космической действительности.
Топика смерти в поэтике С. Есенина заключена не только и не столько просто в определенных лексемах типа «труп», «гроб», «кладбище» и т. д., сколько в этнопоэтических константах, фольклорных формулах, связанных с поисками «иного царства» или его моделями, при этом латентно вошедшими в поэтику. В стихотворении 1916–1922 гг. «Нощь и поле, и крик петухов...» важно не просто упоминание кутьи, поминальной пищи, важна сама топика, место действия:
Тихо-тихо в божничном углу,
Месяц месит кутью на полу...
Но тревожит лишь помином тишь
Из запечья пугливая мышь. [9, т.1, с. 77]
Угол в устройстве избы, по архаическим представлениям, к которым обращался С.А. Есенин в трактате «Ключи Марии», символизирует границу между домом и чужим пространством, показывает соотношение периферии и центра [10]. Окно, печное окно, углы и двери — все это маркированные места в ритуальном плане. Приход духов-предков в поминальные дни осуществляется именно через эти границы. Кроме того, чтобы увидеть явления иного мира, нужно сидеть в молчании на печи (ср.: у В. Распутина в «Прощании с Матерой» сцена сидения на печи старухи Дарьи [5]).
Мортальная образность проявляется и в поэмах, особенно в «Пугачеве» и «Черном человеке». В первой вещи это вроде бы и так предполагается, поскольку поэма посвящена историческим событиям, бунту. Однако для нас привлекательны образы, генетически восходящие к фольклорной действительности и связанные с идеей смерти — космического вознесения. В первую очередь это образ челна / паруса. Голова Емельяна Пугачева сравнивается с челном, тело — с парусом:
Не удалось им на осиновый шест
Водрузить головы моей парус. [9, т.3, с. 7]
Пугачев представляет фигуру умершего Петра в виде паруса, корабля:
Я ж хочу научить их под хохот сабль
Обтянуть тот зловещий скелет парусами
И пустить его по безводным степям,
Как корабль. [9, т.3, с. 26]
Здесь проявляется травестийный мотив. Человек приравнивается, можно сказать, к кораблю и к рулевому одновременно (подобное перевоплощение мы встретим и в хрестоматийном «Письме к женщине»). Кроме того, сам архетип корабля / лодки сопряжен, еще раз напомним, с погребальным обрядовым комплексом. И в контексте исторической поэмы, кровавых событий, которые как бы остаются за текстом, этот образ усиливается, и проявляется его мортальное значение. Однако представление головы в виде чего-то нестандартного, паруса, например, как в этой поэме, встречается и в другом произведении. Так, в поэме «Черный человек» вызывает много споров в гуманитарной науке следующая метафора:
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.
Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица… [9, т.3, с. 188]
И речь здесь идет, конечно же, не о бытовом опьянении, иначе говоря, пьянстве, а о преображении самого себя посредством этого опьянения. Такое состояние находим в фольклоре, в обрядово-погребальном комплексе, и связано оно, по замечанию специалистов, с ритуальным изменением человека.
Однако стоило бы обратить пристальное внимание на самое начало поэмы, где говорится в первую очередь не об опьянении, а о боли, всепоглощающей, апофатической, заставляющей иначе воспринимать мир:
Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль. [9, т.3, с. 188]
Боль такая сильная, такая пьянящая, что с ног валит — «ноги на шее маячить больше невмочь» [9, т.3, с.188], так что голова отсекается, редуцируется, «машет ушами». Ноги — земля, голова — небо, человек как Мировая ось, но голова, то есть головное познание больше нестерпимо, невыносимо для героя С. Есенина, душа которого грустит о небесах (стихотворение Душа грустит о небесах...»). «Понятен мне земли глагол», но это тяготит, это бо́лит, это мука («не стряхну я муку эту» [9, т.1, с. 138]). Познание делает нас больными, по мысли Ф.М. Достоевского: «Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь» [8, т. 4, с. 136]. И это поэт тонко прочувствовал в своей черной цветовой-световой поэме. Но в то же время боль (не болезнь как ее следствие) потенциальна, тьма, черное потенциально, в ней есть сокрытый свет и жизнь: «...момент боли необходим как возвращение к рождению / смерти» [22, с. 90]. Бытовое, рациональное познание мира, который заражен повсеместно «радикальным гедонизмом», больше невозможно, это тупик, предел метафизической отрешенности. Снова нужны боль и смерть, чтобы человек совершил оборот, вспомнил, что мир оборотен. Отсюда и у С. Есенина в последней его большой вещи все с ног на голову переворачивается, дана установка на инвертированную действительность: ноги — на шее, деревья как всадники, черный человек не слишком-то черный, когда на него проливается подлинный свет души, рассвет («…Месяц умер // Синеет в окошко рассвет» [9, т.3, с. 194]).
С.А. Есенин стремится к целостности бытия, объединяя через боль (таков инициационный путь) концы и начала, рождение и смерть. Русский мыслитель начала XX века С. Кржижановский в философской прозе «Швы» пишет: «…увеличивать свое бытие содержанием познанного — значит умножить его, болю… Скепсис в мире болей, вздумавших заняться познанием, должен опираться не на малость познавательных сил, а на огромность той боли, которая стоит между миром и познанием и делает последнее нестерпимым… Все вещи — от звезд до пылин — позвать назад: пусть болят во мне» [11, с. 424]. Так и поэт в «Черном человеке» ищет возможности соединения в человеке «звезд и пылин». Исследователи в статьях нашего времени об этой поэме обращают пристальное внимание на систему образов, анализируя «зеркальность» произведения, выявляя несколько лирических «я»: «Финальный жест героя, запускающего в черного человека тростью, не только не избавляет от нежелательных двойников, но окончательно объединяет их всех в одно “я”» [24, с. 72]. Но дело в том, что изначально в поэме один герой — у которого очень болит голова, поэтому ум его, своего рода нафс (на эзотерическом языке суфизма так обозначаются страсти, неуспокоенный ум), превращается в некое существо, терзающее лирического героя. Ведь был же отделившийся нос, как живое существо, у Н.В. Гоголя? У С. Есенина отделяется ум, мысли, думы-песни (стихотворение «Песни, песни, о чем вы кричите?»), которые превращаются, выражаясь языком онтологии, в эманации. Отсюда и болезнь, и мука, связанные с избыточным познанием, — ведь черный человек начинает дробить, по полочкам раскладывать жизнь героя, ковыряясь в ненужных фактах биографии, как бы забывая о главном — о стихах, об их ухватистой силе. Но божественный глагол поражает в самое сердце, сердцевину, и именном через Логос мы попираем Тьму, Смерть.
С. Есенин еще в раннем трактате «Ключи Марии» писал о нашем духовном внутреннем человеке, о его устройстве, размышляя о плоти, о духе, о не-разуме, описывая образы «заставочный», «корабельный» и «ангелический». Конечно, наивысший образ, внерациональный, апофатический — ангелический. По мысли поэта, все три элемента должны соединиться, на что он указывает в рассуждении о поэтике А. Белого: «…между Белым земным и Белым небесным происходит некое сочетание в браке. Нам является лик человека, завершаемый с обоих концов ногами» [9, т.5, с. 209]. Это очень важный онтологический момент, связанный с культурологическими априори С. Есенина. Поэма «Черный человек» — лунная поэма, о власти луны над головой человека, о чем еще поэт писал в трактате, и о преодолении, о необходимости преодоления лунного и порыва к солнечному: «…в нас пока колесо нашего мозга движет луна, что мы мыслим в ее пространстве и что в пространство солнца мы начинаем только просовываться» [9, т.5, с. 209]. Месяц умер, синеет рассвет — апофатически страшный час лирический герой пережил, собрался воедино, стал полным и цельным. Эта поэма о торжестве Единого человека, в котором белое и черное, дневное и ночное знания сходятся. Еще богословы указывали на то, что ночное должно стать дневным: «…отрицательное познание непостижимым путем» может перейти в положительное [19]. С. Есенин через боль, или Боля, через перерождение в Смерти показал этот великий переход в своей последней поэме «Черный человек».
Выводы. Итак, в поэтике С.А. Есенина, во-первых, тема смерти и боли непосредственно связана с обращением поэта к архаическим представлениям о мире; во-вторых, она раскрывается в устойчивых фольклорных формулах, связанных с пограничным состоянием, поиском и топосами «того света»; в-третьих, переживание смерти, «посыл» в нее осуществляется в художественной действительности через «конкретный образ», воссозданный народом в орнаменте, шитье, резьбе и прочем, что необходимо изучать исследователям; наконец, в-четвертых, фольклорная традиция в поэтике С.А. Есенина проявляется всегда в вариациях, в латентном виде, то есть поэт художественно обыгрывает свое обращение к народным идеалам и образцам. Во всем этом и заключается прорыв от реального, бытового, данного посредственно к реальнейшему, то есть имагинативно выраженному в литературе, пережитому художником слова и его героем наяву. Но совершить этот прорыв от тьмы к свету, который находим и в русской волшебной сказке, можно лишь через проживание боли и смерти образно, то есть в художественной реальности, в которой сходятся феноменальное и ноуменальное.
About the authors
Marianna A. Dudareva
Peoples' Friendship University of Russia
Author for correspondence.
Email: marianna.galieva@yandex.ru
PhD (philological sciences), Doctor of culture studies, Associate Professor, Department of Russian Language No. 2 under Institute of Russian Language, Head of Department of Literary Studies and Intercultural Communication
Russian Federation, MoscowReferences
- Anuchin, D. N. Sani, lad'ja i koni kak prinadlezhnosti pohoronnogo obrjada (Sani, Rye and Horses as the belonging of the funeral rite) // Drevnosti. Trudy Moskovskogo arheologicheskogo obshhestva. — M.: Tipografіja i Slovolitnja O.O. Gerbek, 1890. — T. 14. — S. 81–226.
- Berdjaev, N. A. Filosofija tvorchestva, kul'tury i iskusstva (Philosophy of creativity, culture and art). — M.: Iskusstvo, 1994. — 542 s.
- Bocharov, S. G. Francuzskij jepigraf k «Evgeniju Oneginu» (Onegin i Stavrogin) (French epigraph for «Evgeniy Onegin» (Onegin and Stavrogin)) // Moskovskij pushkinist — V: ezhegodnyj sbornik. — M.: Nasledie, 1995. — S. 212–250.
- Vatman, S. V. Filosofija iskusstva Vjacheslava Ivanova: dialektika padenija i apofeoza (Philosophy of Art by Vyacheslav Ivanov: Dialectics of fall and apotheosis) // Vestnik SPbGUKI. – 2015. — № 3 (24). — S. 140–151.
- Galieva, M. A. «Vlast' zemli». Fol'klornaja tradicija v tvorchestve S.A. Esenina i V.G. Rasputina ("Power of the Earth." Folklore tradition in the work of S. A. Yesenin and V. G. Rasputin) // Tradicionnaja kul'tura. — 2014. — № 3. — S. 28–37.
- Gorodeckij, S. M. O Sergee Esenine. Vospominanija (About Sergei Yesenin. Memories) // O Esenine: Stihi i proza pisatelej-sovremennikov pojeta. M.: Pravda, 1990. — S. 120–132.
- Dobrovol'skaja, E. V. Funkcional'nyj oblik predmetnyh realij (Functional appearance of subject realities) // Predmetnye realii russkoj volshebnoj skazki. M.: Gosudarstvennyj respublikanskij centr russkogo fol'klora, 2009. — S. 41–140.
- Dostoevskij, F. M. Sobr. soch.: v 10 t. (Collected works.: in 10 volumes). — M.: Hud. lit., 1956. — 611 s.
- Esenin, S. A. Sobr. soch.: v 7 t. (Collected works.: in 7 volumes). — M.: Nauka — Golos, 1995–2002. — V. 1. — 672 s.
- Krasnoperova, A. V. Simvolika krest'janskogo byta v kul'ture Drevnej Rusi (Symbolism of the peasant life in the culture of ancient Russia) // Studia culturae. — 2002. — № 2. — C. 130–146.
- Krzhizhanovskij, S. Chuzhaja tema. Sobranie sochinenij. T. 1 (Alien theme. Collected Works. T. 1). — SPb.: Simpozium, 2001. — 687 s.
- Lord, A. B. Skazitel' (Saucer). M.: Izdatel'skaja firma «Vostochnaja literatura» RAN, 1994. — 295 s.
- Nekljudov, S. Ju. Obrazy potustoronnego mira v narodnyh verovanijah i tradicionnoj slovesnosti [Jelektronnyj resurs] (Images of the other world in folk beliefs and traditional literature). URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov8.htm (data obrashhenija: 09.04.2022).
- Nekljudov, S. Ju. Semantika fol'klornogo teksta i «znanie tradicii» (Semantics of folklore text and "Tradition knowledge") // Slavjanskaja tradicionnaja kul'tura i sovremennyj mir. Sbornik materialov nauchnoj konferencii. – Vyp. 8. M.: GRCRF, 2005. — S. 22–41.
- Pinaev, S. M. «Blizkij vsem, vsemu chuzhoj»: Maksimilian Voloshin v istoriko-kul'turnom kontekste Serebrjanogo veka ("Close to everyone, everything else": Maximilian Voloshin in the historical and cultural context of the Silver century). — M.: Izd-vo RUDN, 2009. — 356 s.
- Samodelova, E. A. Antropologicheskaja pojetika S. A. Esenina: Avtorskij zhiznetekst na perekrest'e kul'turnyh tradicij. — M.: Jazyki slavjanskih kul'tur, 2006. — 954 s.
- Smirnov, V. A. Literatura i fol'klornaja tradicija: voprosy pojetiki (arhetipy «zhenskogo nachala» v russkoj literature XIX — nachala XX veka): Pushkin. Lermontov. Dostoevskij. Bunin (Literature and folklore tradition: questions of poetics (archetypes of the “feminine principle” in Russian literature of the 19th — early 20th centuries): Pushkin. Lermontov. Dostoevsky. Bunin). — Ivanovo: Junona, 2001. — 234 s.
- Terner, V. Simvol i ritual (Symbol and ritual). — M.: Nauka, 1983. — 277 s.
- Trostnikov, V. Apofatika — osnovnoj metod nauki XXI veka [Jelektronnyj resurs] (Apobatics — the main method of science of the XXI century). - URL: https://pravoslavie.ru/736.html (data obrashhenija: 12.04.2022).
- Fedotov, O. I. Chernoe solnce Ivana Shmeleva (Black Sun by Ivan Shmelev) // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 9, Filologija. – 2013. — № 4. — S. 93–109.
- Fromm, Je. Zabytyj jazyk. Imet' ili byt'? (Forgotten language. To have or be?) — M.: AST, 2009. — 444 s.
- Hajdarova, G. R. Fenomen boli v evropejskoj i russkoj filosofii (Phenomenon of pain in European and Russian philosophy) // Omskij nauchnyj vestnik. — 2011. — № 4 (99). — S. 88–91.
- Hajdegger, M. Vremja i bytie: Stat'i i vystuplenija (ime and Genesis: Articles and performances). — M.: Respublika, 1993. — 447 s.
- Chizhonkova, L. V. O zerkal'noj pojetike «Chernogo cheloveka» S. A. Esenina (On the mirror poetics by S.A. Yesenin’s poem “Black Man”) // Izvestija PGPU. — 2007. — № 4 (8). — S. 70–72.
- Shtajner, R. Sushhnost' cvetov: Tri lekcii, prochitannye v Dornahe 6, 7 i 8 maja 1921 goda, a takzhe devjat' lekcij v kachestve dopolnenija iz lekcionnogo nasledija 1914–1924 gg. (Essence of colors: Three lectures read in Dornakh 6, 7 and 8 May 1921, as well as nine lectures as a supplement from the lectural heritage of 1914-1924). — SPb.: Kljuchi, 2017. — 304 s.
Supplementary files