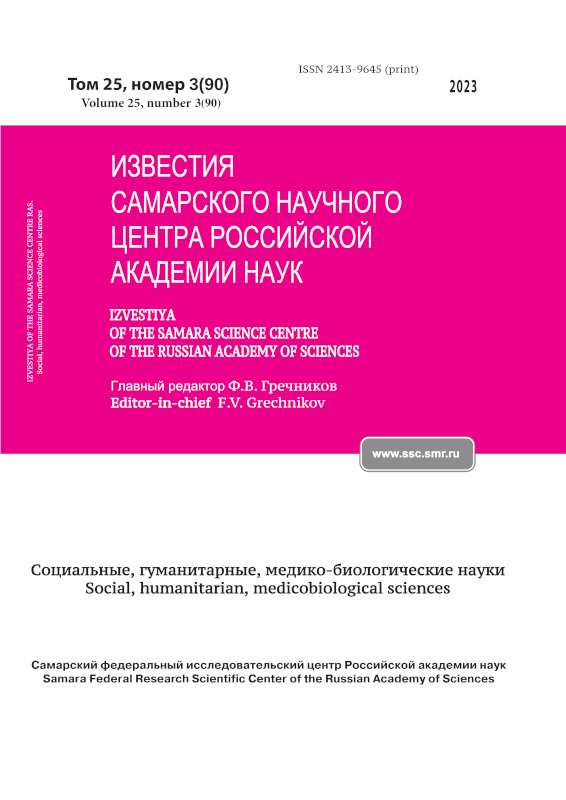Antinomies of russian traditional culture in D. Mizgulin's poetry book «Po kromke bytiya» ("On the edge of being")
- Authors: Dudareva M.A.1, Aripova D.A.2
-
Affiliations:
- Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
- Irkutsk National Research Technical University
- Issue: Vol 25, No 3 (2023)
- Pages: 68-73
- Section: HUMANITIES SCIENCES
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/430274
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2023-25-90-68-73
- ID: 430274
Cite item
Full Text
Abstract
The object of the article is antinomy in Russian artistic culture, which manifested itself in the main oppositions: “up” and “down”, “male” and “female”, “living” and “dead”. The subject of the research is the variations of the fundamental principles with ambivalent semantics in modern poetry. The material for the article is a new poetic book by the modern writer D. Mizgulin "Along the Edge of Being". At the center of cultural-philosophical and onto-hermeneutical analysis is the interaction of the phenomenal and the noumenal, the rational and the metaphysical in poetry. Much attention is paid to the problem of the metaphysics of creativity, its apophatic side in the Russian cosmo-psycho-logos, which is of great importance for understanding the ontological issues of writers' creativity. The research methodology is reduced to a holistic hermeneutic analysis aimed at highlighting the cultural potential of this poetic book, studying the axiological and ontological value of antinomies in modern verbal culture. Much attention is paid to the comparison of poems within the book, the analysis of its structure, as well as the national topic, without talking about which it is impossible to perceive Russian literature in a holistic way. The results of the work may be of interest to literary historians, who include literature in the space of a large dialogue of cultures, and can also be used in teaching courses in cultural studies and Russian philosophy.
Full Text
Введение. Человек воспринимает мир архетипически, по крайней мере язык как дом бытия, напоминает об этом — стоит хотя бы в первом приближении обратиться к выражениям с оттенком идиоматичности «отец и мать», «день и ночь». Тайна «двойного», взаимодействие мужского и женского, неба и земли, или то, что Вяч. Иванов определил как чет и нечет, пронизывает мировую культуру и особенно ярко проявилась в словесной художественной культуре. Поэзия, язык которой наполнен символами, позволяющими проникнуть в сферу ноуменального в культуре, особенно показательна в этом отношении. Поэт-символист К.Д. Бальмонт в программной статье «Поэзия как волшебство» мифологически и поэтически представляет мир через призму двойственных символов-знаков, через «верх» и «низ», «небо» и «землю» [8]. Русский философ и литературовед В.В. Кожинов также в своих размышлениях о космической, то есть надмирной природе поэзии подошел к проблеме ее апофатичности: «…поэзия же схватывает то органическое единство внешнего и внутреннего, в котором и осуществлены живая жизнь и живой смысл явления, уходящие корнями в бесконечность Вселенной» [9, с. 83]. Из этого следует, что в настоящей поэзии (заметим, работа ученого носит характерное название «Стихи и поэзия») изначально заложена тайна «двойного», оптика «двойного бытия», о чем емко в философском ракурсе поэтически написал Ф.И. Тютчев в стихотворении «О вещая душа моя!» (1850).
История вопроса. Размышления о современная поэзии требуют культурной временной дистанции для ее полного онтологического осмысления. Но есть в ней архетипически близкие и понятные читателю вещи, которые уже сегодня могут раскрыть культурный потенциал произведения. Творчество современных поэтов, особенно представителей старшего поколения, все-таки существует в рамках классических традиций и, кажется, в первую очередь традиций Серебряного века, поскольку последние его представители, А. Ахматова и Б. Пастернак, ушли из жизни в 1960-е гг., когда приходили молодыми в литературу новые авторы. Онтологически и аксиологически современным литераторам близко именно это время, эстетика начала минувшего XX в. Если внимательно всмотреться в названия современных литературных премий, корни которых уходят еще в элитарную культуру прошлого века, то можно наблюдать пиетет перед имена С.А. Есенина (литературная премия от Российского союза писателей), А.А. Ахматовой (премия от журнала «Юность»), Б. Корнилова (премия «Навстречу дня!» от литературного фонда «Дорога жизни»).
Методы исследования. Изучение оптики «двойного бытия», этого феномена и ноумена в их соединенности, со-бытийности, требует онтогерменевтического подхода, целостного анализа художественного произведения, которое создается и существует в пределах национальной топики, космо-психо-логоса, то есть в слиянности с родной природой (природиной, в терминологии Г.Д. Гачева [6, с. 34]), связь с которой онтологически прочувствована художником слова: важно взаимодействие ноуменального и феноменального, апофатический подход к процессу порождения поэтического Логоса.
Результаты исследования. Новая книга современного русского поэта Дмитрия Мизгулина уже получила ряд откликов от известных литературных критиков (А. Балтин, Е. Крюкова, И. Баранова), в которых единогласно отмечается устремленность лирического героя в небо, художественное ощущение дольнего и горнего в целокупном лике природы [1; 2]. Русская душа, ноумен которой инспирирует нашу художественную культуру, по меткому замечанию философов Д.К. и Л.В. Богатыревых [3], живет на пороге «двойного бытия» (Ф. И. Тютчев), ходит по краю ойкумены (И. Ефремов), обнажая свои рубцы, которые онтологически перерастают в швы жизни, то есть скрепы бытия (С. Кржижановский). Апология края, краевой образ русской жизни — корневой для нашего космо-психо-логоса. Эту устремленность «за календарь», в «иное царство» русской сказки тонко прочувствовал и изобразил в своей новой седьмой по счету книге стихов «По кромке бытия» Д. Мизгулин. Первое, а значит, программное, настраивающее, стихотворение книги сразу погружает читателя в символическое пространство:
Горят в ночи рубиновые росы,
Мерцают тени голубых берез,
Гремят в раскат чугунные колеса,
Судьба летит со свистом под откос. [11, с. 6]
Вероятно, что действие происходит на заре — росы рубиновые от рассветного луча, который прогоняет ночь. Но час перед рассветом самый загадочный, апофатический, поскольку это время переходное по своей сути — уже не ночь, но еще и не день. Русский психолог начала XX в. Л.С. Выготский, размышляя о Гамлете Шекспира, определял это время как самое пугающее и одновременно значимое в мистическом отношении: «Перед самым рассветом есть час, когда пришло уже утро, но еще ночь. Нет ничего таинственнее и непонятнее, загадочнее и темнее этого странного перехода ночи в день» [4, с. 96]. В такой период решается судьба человека. Неслучайно русские вставали рано, с зарей или даже предупреждая ее восход, как пушкинская Татьяна из романа «Евгений Онегин». В нашем народном искусстве фольклористы особо выделяют формулу раннего вставания [10]. Так живет и лирический герой этой современной и своевременной книги: «Встану поутру, выпью чаю / Первую зарю повстречаю» [11, с. 20].
Однако у Д. Мизгулина в этой предрассветной гуще, пугающей звуком колес, редкими тенями берез, решается судьба человека, она «летит под откос». И, кажется, чувствуется некий пессимизм, возникающий по нарастающей в следующих стихах: «Не ворваться в безмятежные дали. / Уработали меня, укачали» [11, с. 7]. Но не так прост автор этой книги — он и сам качает читателя на волнах бытия, то погружая его в пучину вод, то поднимая на гребне волны, следуя в лучшем смысле за Ф.И. Тютчевым, напоминающем нам о двойственности бытия человека:
Окна, словно свечи, зажигались.
И в метельной, снежной кутерьме
В поднебесье ангелы смеялись,
Словно дети, радуясь зиме. [11, с. 9]
От страстей человеческих, личной трагедии, изматывающей душу лирического героя, до ангельского поднебесья, мира горнего распростерся Логос Дмитрия Мизгулина — такова архитектоника его сакрального мира, такова апофатика души русского человека. Но как разрешить этот дуализм, вырваться из метельности жизни? Как разрешить, выражаясь языком философии, этот вопрос-вопрошание?
От бед устану,
От слез и боли,
Я молча встану
И выйду в поле… [11, с. 19]
Конечно, здесь уловлено автором корневое для русского человека состояние — полная самоотдача природе, матери сырой земле, полю, равнине в нашем космосе. И поэтому сетует автор: «Голубая кружится планета / Человек давно не смотрит ввысь» [11, с. 23]. А даль, горизонтальный космос, и высь — два культурных априори русского космо-психо-логоса (понятие русского культуролога и философа Г.Д. Гачева [5]), в котором все спаяно: и природа, и душа, и искусство, поэзия, как высшая форма бытия для русского человека. И здесь мы не должны понимать поэзию логически, обвинять автора в легкомысленности, в запрокидывании головы к небу. Поле — отражение звездного неба над головой, которое продолжает поражать художников слова, являясь одновременно и нравственным законом для них. В этом проявляется феномен-ноумен «двойного бытия». Именно поэтому в стихах Д. Мизгулина много звездных образов:
И опрокинут склочные метели
От звезд опустошенный небосвод.
И ото сна очнувшийся Емеля
С печи в снега со щукою сойдет. [11, с. 16]
Но что же надо русскому человеку, главный народный герой для которого Емеля, Иван-дурак, в этом равнинном и звездном космосе? В чем смысл поиска «иного царства» в русской волшебной сказке? Культурный герой ищет вещую невесту, любимую:
За окном сиреневая мгла, Мне хотелось, чтоб и ты ждала, Позвонила в чуткой тишине: — Где ты, милый? Скоро ли ко мне? [11, с. 28]
Однако здесь возникает обманчивое ощущение «грубой плоти», рук и губ, потому что возлюбленная для русского художника слова — идеальная, потусторонняя, из сиреневой мглы пришедшая. Колоратив «сиреневый» в русской художественной культуре наделен иномирными коннотациями, то есть связан с «тем светом», с ощущением порога (интересен в этом отношении семиотический анализ известной песни «Дорожное танго» [7]). Мгла также связана в русской культуре с пограничным состоянием, с вневременностью, с ощущением новой судьбы (вспомним известное есенинское «залегла забота в сердце мглистом…»), которую по-настоящему, по-христиански принимает лирический герой стихов Д. Мизгулина:
Приемли все, что ниспослал Господь.
И что бы в этой жизни ни случилось,
И ясный день прими, и непогóдь,
И жизнь, как бы нечаянную милость. [11, с. 34]
Хотя лирический герой, конечно, не схимник, он ищет свой путь, который начинается на земле, а заканчивается по-тютчевски (см. стихотворение Ф.И. Тютчева «Как океан объемлет шар земной…») в надзвездном пространстве:
Ни охнуть, ни вздохнуть —
В потоке скоростей
Разгадывая суть
Космических путей,
Взметая прах веков,
Стремимся все успеть —
Без наших мудрых слов
Вселенной не прозреть.
В глухих стенах квартир,
Уйдя в телеэкран,
Опять спасаем мир,
Который сыт и пьян.
Который пьян и сыт,
Цветные видит сны.
И со своих орбит
Слетаем только мы.
И, сделав сказкой быль,
Мы подведем итог,
Когда осядет пыль
Проселочных дорог. [11, с. 92]
Это центральное переломное стихотворение в онтологии Д. Мизгулина. Вектор движения поэтического Логоса направлен «вверх», и в итоге мы вместе с автором и его героем с немыслимых высот, где нет уже боли и земных страстей, вдруг снова слышим дыхание «матушки сырой земли», России:
И наступит тишина такая,
Что услышу, сердце затая,
Как, сама себя превозмогая,
Дышит тяжко русская земля. [11, с. 104]
Выводы. Новая поэтическая книга Д. Мизгулина — воплощение русского национального образа мира в художественной форме, который представлен через призму и страданий человека, его жажду любви земной, и через онтологический поиск идеальной возлюбленной, алкание сердца любви божественной, и все это слилось в образе родины, русской земли, которая для нас и есть поэзия, и есть судьба (гачевская природина). Душа лирического героя находится на пороге бытия: в природе, в иконическом лике России обретается целокупность мира дольнего и горнего, сама русская равнина воплощает феномен-ноумен «двойного бытия». Россия в стихах поэта приобретает иконический лик, вся страна с раскатами полей («и поле русское в крестах...») — большая икона, которая хранит свой народ, что бы с ним не происходило. Поэтическая книга «По кромке бытия» имеет культурный потенциал для изучения основных антиномий в культуре и может быть интересна для филологов и культурологов, исследующих современный литературный процесс в пространстве большого диалога культур.
About the authors
Marianna A. Dudareva
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
Author for correspondence.
Email: marianna.galieva@yandex.ru
Doctor of Culturology, PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Russian Literature
Russian Federation, Nizhny NovgorodDaria A. Aripova
Irkutsk National Research Technical University
Email: aripovad@mail.ru
Candidate of Philology, Associate Professor,Head of the Department of Foreign Languages № 2 Institute of Linguistics and Intercultural Сommunication
Russian Federation, IrkutskReferences
- Baltin, A. Po kromke bytija dvizhen'e k svetu (On the edge of being, movement to the light) [Jelektronnyj resurs]. — URL: https://lgz.ru/article/-41-6855-12-10-2022/po-kromke-bytiya-dvizhene-k-svetu/ (data obrashhenija: 12.02.2023).
- Baranova, I. “On the edge of being”, or the Milky Way of Russian Modern Poetry [Jelektronnyj resurs]. — URL: https://klauzura.ru/2022/11/po-kromke-bytiya-ili-mlechnyj-put-russkoj-sovremennoj-poezii/ (data obrashhenija: 12.02.2023).
- Bogatyrev, D.K., Bogatyreva, L.V. Noumen russkoj klassiki (Noumen of Russian classics) // Vestnik Russkoj hristianskoj akademii. — 2017. — T. 18. — Vyp. 3. — S. 245–263.
- Vygotskij, L. Tragedija o Gamlete, prince datskom, V. Shekspira (Tragedy of Hamlet, Danish Prince, V. Shakespeare) // Poln. sobr. soch.: v 16 t. — M.: Lev#, 2015. T. 1. Dramaturgija i teatr. — S. 77–304.
- Gachev, G. D. Kosmo-Psiho-Logos: Nacional'nye obrazy mira (Cosmo-Psycho-Logos: national images of the world). — M.: Akademicheskij proekt, 2007. — 511 s.
- Gachev, G. D. Mental'nosti narodov mira (Mentality of the peoples of the world). — M.: Algoritm; Jeksmo, 2008. — 544 s.
- Dudareva, M. A. Pojetika cveta v pesne «Dorozhnoe tango»: semanticheskij i semioticheskij aspekty (Poetics of color in the song "Road Tango": semantic and semiotic aspects) // Mediamuzyka. — 2020. — № 11.
- Dudareva, M. A., Aripova, D. A. Sakral'naja rizoma pojezii v stat'jah K.D. Bal'monta i S.A. Esenina: kul'turologicheskij kommentarij (Sacred rhizoma of poetry in articles by K.D. Balmont and S.A. Yesenin: Cultural Comment) // Izvestija Sa-marskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. Social'nye, gumanitarnye, mediko-biologicheskie nauki. — 2022. — T. 24, № 85. — S. 47–51.
- Kozhinov, V. V. Stihi i pojezija (Verses and poetry). — M.: Sov. Ros., 1980. — 304 s.
- Mal'cev, G. I. Jesteticheskaja specifika formuly i soderzhanie pesni: tradicija — formula — tekst (Aesthetic specificity of the formula and the content of the song: tradition - formula – text) // Tradicionnye formuly russkoj narodnoj neobrjadovoj liriki. — Leningrad: Nauka, 1989. — S. 37—104.
- Mizgulin, D. Po kromke bytija. Sed'maja kniga stihotvorenij (Along the edge of being. The seventh book of poems). — SPb.: Ljubavich, 2021. — 108 s.
Supplementary files