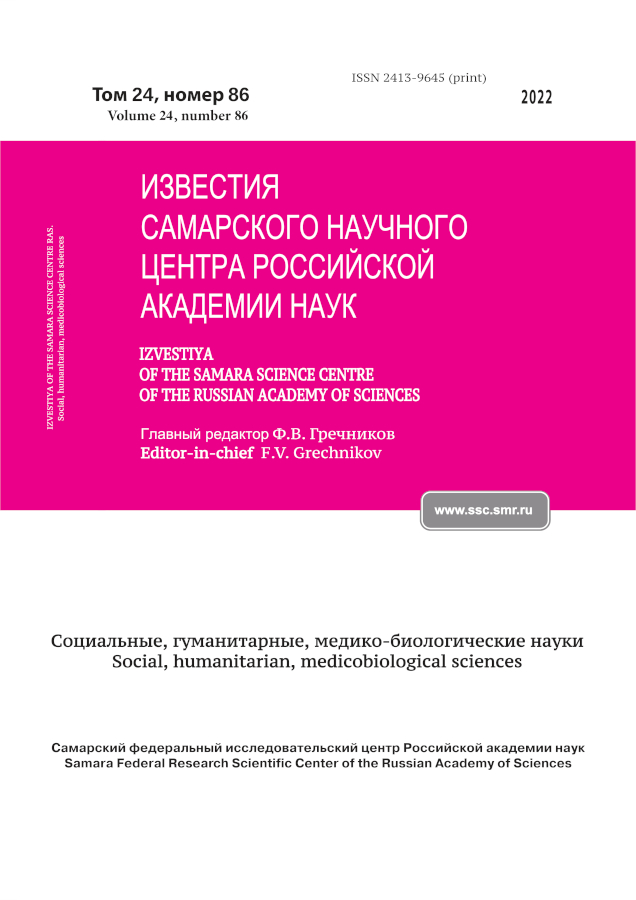Психофизические эффекты активного использования технических средств экранной коммуникации
- Авторы: Григорьев С.Л.1
-
Учреждения:
- Российский государственный аграрный университет – МСХА им К. А. Тимирязева
- Выпуск: Том 24, № 5 (2022)
- Страницы: 42-50
- Раздел: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/121269
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2022-24-86-42-50
- ID: 121269
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассмотрен ряд новых взглядов на особенности взаимодействия человека с виртуальным пространством через экран мобильного электронного устройства, используемого как средство связи, так и как средство доступа к всемирной сети Интернет. Особое внимание уделено влиянию на восприятие и сознание пользователя факторов наличия и возможности обращения к устройству, а также анализу таких функций, как информирование, реферирование, ассистирование. По результатам исследования выделены и охарактеризованы особенности изменений, происходящих в сфере восприятия и последующей обработки информации, результатами которых часто становится прогрессирующая редукция способностей и навыков личности, связанных с основными ее высшими психическими функциями. Экран заменил, а затем и вытеснил исторически сложившиеся формы человеческого общения, оставив тем самым индивиду себя в качестве единственного собеседника, что не могло не отразиться на психике человека негативно. Уровень поглощенности и охваченности восприятия и мышления человека экраном смартфона представляет угрозу не только психическому, но и физическому здоровью. В заключение рассматривается парадокс появления аддикции нового типа, в основе которой лежит патологическая зависимость пользователя от своего гаджета, исследована патопсихология этого феномена и его возможные причины.
Ключевые слова
Полный текст
Введение. С первых шагов эволюции биологического вида «человек разумный» его бытие осуществлялось в режиме постоянного взаимодействия с разнообразными факторами природной регуляции, включающей также и взаимодействие с окружающими людьми. позже к этим естественным факторам добавились и социальные коммуникаторы – общество, государство. Яркой спецификой обладает относительно новый диалог «человек – техника», в контексте которого вычленилось в последние несколько десятилетий взаимодействие «человек – экран». С появлением в начале ХХ в. экрана он постепенно стал выдавливать из жизни людей живое общение, превратившись в основное звено современной коммуникации, и главное – став решающим фактором влияния на самого человека, его психику, духовный мир, ментальность.
Цель нашей статьи связана с неоспоримой актуальностью поставленного вопроса и определяется как выявление и фиксация наиболее полного спектра видов и форм воздействия современных экранных электронных устройств, находящихся во взаимодействии с восприятием и сознанием человека, на его отдельные высшие психические функции, рецептивную, когнитивную и аффективно-эмоциональную сферы, а также на всю психику в целом.
Методы исследования. Методология исследования включает в себя анализ текстов научной информации, методы контент-анализа и кросс-факторного анализа ряда включенных источников по параметрам, обладающим собственным значимым содержанием, исследование которого было определено для достижения намеченной цели как необходимого.
История вопроса. Размышляя о природе и качестве отмеченного взаимодействия, важно увидеть его исторические корни (человек смотрит на поверхность, отражающую изображение). И здесь уместно вспомнить миф о Нарциссе, рассказанный в «Метаморфозах» Овидия. Отражение, которое Нарцисс увидел на водной поверхности, Овидий называет симулякром. Посредством этого латинского слова – simulacrum – он раскрывает суть истории о прекрасном юноше: Нарцисс влюбился не в себя, а в свое подобие. Уподобляя водную гладь зеркальной поверхности, за которой пустота, нельзя не признать, что, по сути, миф о Нарциссе дает старт сквозной для всей европейской культуры темы подлинного и иллюзорного, сущности и явлению, актуализируя установку на выяснение подлинности статуса вещей, будь то в быту, искусстве, в философии или науке.
Другой античный автор Лукреций затрагивает интересующую нас тему в своей философской поэме «О природе вещей». Он употребляет много слов, обозначающих нечто вроде копий реальных предметов: rerum copia, effigies, imago, figura, simulacrum. Тем не менее, все то, что воспринимает человеческий глаз и ум он также определяет посредством используемого Овидием слова – simulacra, говоря о подобиях, отраженных на сетчатке нашего глаза. Выстраивая систему аргументации, Лукреций, будучи эпикурейцем, прибегает к таким категориям (или концептам), как атом и пустота, которые недостижимы для непосредственного видения несмотря на то, что они есть. Тем не менее, скопления атомов образуют сгустки, которые благодаря свету отражаются в наших глазах и именно такие скопления воспринимаются нами как копии, некие подобия действительности. При этом символично и само название трактата Лукреция – «О природе вещей», поскольку от начала до конца эта природа иллюзорна, являя собой создания нашего сознания.
Сопоставление истинного целостного знания с гадательным предположением обнаруживается в Первом послании Коринфянам апостола Павла: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1-е послание Коринфянам 13:12 — 1Кор 13:12).
В дальнейшем эта проблема активно разрабатывалась в рамках философии. Широко, например, известна мысль, сформулированная практически через две тысячи лет К. Марксом: «Если бы форма проявления вещей и их сущность непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишней» [16, с. 384].
Так обнаруживаются основы двух концепций – а) внешний экран, изображения на котором соблазняют, так как они привлекательнее действительности; б) экран внутри человека; экраном является сам человек, изображение реальность проецируется на него, доступа к самой реальности у человека нет.
Актуальное культурологическое воплощение разрабатываемая в произведениях Овидия и Лукреция тема получает в работах Жана Бодрийяра. Критикуя современную культуру, философ утверждает, что мир уничтожен, а кругом одни симулякры — от товаров до информации и труда. Спустя тысячелетия после античного вопрошания о реальности и её отражении глаз человека отражает даже не сгустки атомов, а их экранную копию, осуществляя таким образом двойную симуляцию.
За экраном ничего нет, «пустыня реального», как резко и саркастично заявляет это другой современный философ, Славой Жижек, утверждая не просто влияние экранного кинематографа и экранного телевидения на реальность, но замену реальности экраном: «…следует отойти от стандартного прочтения, согласно которому взрывы Всемирного торгового центра были вторжением Реального, которое разрушило нашу иллюзорную Сферу. Напротив, это до разрушения Всемирного торгового центра мы жили в нашей реальности, воспринимая ужасы третьего мира как что-то, не являющееся частью нашей социальной реальности и существующее (для нас) как призрачное видение на (телевизионном) экране, — и то, что произошло 11 сентября, есть экран фантазматического видения, вошедшего в нашу реальность. Это не реальность вошла в наши видения, а видение вошло и разрушило нашу реальность (т.е. символические координаты, определяющие наше восприятие реальности)» [9, с. 8].
Философские и культурологические рассуждения о влиянии отражения (как такового, а сегодня – экранного) реального на культурные формы, постепенно наращивая степень критики и трагичности, отмечают это влияние как неопровержимый факт. Вопрос же о трансформирующем воздействии экранного отражения на сознание, познавательные способности и психику в целом, на сегодняшний день всё ещё остается дискуссионным. Моделью перехода обсуждения из сферы «экран, влияющий на культуру» в сферу «экран, влияющий на сознание и психику» является, на наш взгляд, превращение дискуссии о «клиповой культуре» (Э. Тоффлер [24; 25]) в споры о «клиповом мышлении» (Ф. Гиренок [7]). Концепцией, соотносящей и связывающей экранную культуру и мышление человека экранного, является исследование М. Маклюэна [15]. Термин и понятие «клиповое мышление» были активно подхвачены аналитиками в педагогике и философии (расширенный поиск по названиям и ключевым словам статей на платформе «Научная электронная библиотека Elibraru.ru» показал 1449 публикаций), но продолжают критически, с недоверием, восприниматься в психологии. Главным аргументом оспаривания воздействия экрана на психику является, например, подобный тезис: «…мы пока до конца не можем оценить влияние цифровых медиа и гаджетов на познавательные процессы. Исследования показывают, что сами люди, как правило, неадекватно оценивают влияние медиа на собственное мышление. Даже если они считают, что есть проблемы, на самом деле реальные поведенческие тесты показывают, что никаких изменений нет. У них могут возникать проблемы с вниманием и его концентрацией, характерные для большого потока часто меняющейся информации. Но мышление тут совсем ни при чем. Чтобы изучить, как под влиянием цифровизации меняются психические процессы, необходимо поколение детей, которые родились условно «с планшетом в руках». Тогда будет сравнительная база, на основе которой можно будет делать выводы. На сегодняшний день реальных эмпирических свидетельств в пользу кардинальной перестройки познавательных процессов, которая следует за изменениями в культуре и медиа, нет» [14].
Предположим, мы не обладаем исследовательскими основаниями утверждать, что тип сознания сменился или трансформировался, превратившись в «клиповое», но при этом невозможно игнорировать уже сложившуюся культурфилософскую гипотезу о эффектах, наблюдаемых в учебном процессе, эстетической рецепции, повседневной и профессиональной коммуникации, в перечень которых включаются:
– нелинейность восприятия,
– фрагментарность восприятия, неспособность создать целостную картину наблюдаемого,
– образность, дотекстовость мышления, преобладание визуального восприятия,
– возврат к мифологической конкретности мышления,
– возврат к принципу прецедента,
– ускорение и поверхностность мышления,
– рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания,
– цифровая амнезия.
Результаты исследования. Процесс изменений в познавательных практиках и работе сознания интенсифицировался, с нашей точки зрения, когда экран стал индивидуальным и постоянно сопровождающим человека. Начало этому было положено в 1973 году, когда американская фирма «Моторола» представила общественности первый мобильный телефон. Еще через шесть лет корпорация «Nippon Telegraph and Telephone» запустила первую аналоговую сеть дистанционной телефонной связи. 2007 год был ознаменован появлением первого смартфона – устройства, сочетающего все удобства прежнего мобильного телефона с новыми возможностями выхода во всемирную информационную сеть Интернет из любой точки. Эмулируя все до того исторически сложившиеся формы общения человека – с природой, обществом, окружающими, с государством в целом – с недостижимыми до этого момента легкостью и удобством, это новое электронное устройство быстро вытеснило их все, и человек остался один на один с экраном смартфона, что, конечно, не могло не отразиться на его восприятии, мышлении, памяти, речи и на психике как таковой.
В частности, было замечено, что чем чаще и продолжительнее индивид прибегает к помощи своего электронного ассистента, тем сложнее ему становится обдумывать что-либо самому, особенно – обдумывать что-то сложное и требующее анализа и подключения логики. Постоянно предлагая пользователю готовые решения, смартфон тем самым приучает человека игнорировать необходимость напрягать свой собственный мыслительный аппарат. При этом также начала ухудшаться и память, как оперативная, так и долговременная, причем запоминание даже небольших объемов информации без повторного обращения к смартфону становилось все более затруднительным. То же самое было замечено и по отношению к речи – индивид стал все более охотно общаться со своими голосовыми помощниками и все менее охотно – с реальными людьми. С 2007 года прошло относительно немного времени, поэтому все еще сложно сказать, сохранил ли пользователь собственную независимость и самодостаточность в отношении экранных информационных устройств или современный полиэкранный комплекс быстро и мощно повлиял на человека, трансформировав его когнитивные способности и телесность. Это определяет насущную актуальность работы по исследованию данной проблемы.
Уже через восемь лет с момента появления первого смартфона в немецком языке возникло и закрепилось в коммуникации более чем активно используемое понятие «Smombie» – агглютинатив от «смартфон» и «зомби». С 2012 года выражение «Generation Kopf unten» (буквально «поколение с опущенной головой» (см.: [28])) стало очень популярным в Германии. В русском лексиконе для обозначения подобного феномена некоторое время назад мы ввели термин «человек экранный», по аналогии с «человеком разумным», но сегодня полагаем белее корректным и мягким будет определение «человек экрана» и по аналогии с немецким «Smombie», можно сегодня на наш взгляд оперировать неологизмом «чекран».
В немецком лингвистическом таблоиде «Слово года» за 2015 г. термин «Smombie» сходу взлетел на первое место, решительно оттеснив все прочие неологизмы [29].
В естественном языке, лексико-грамматическое поле которого является творением коллективного мышления, ничего беспричинно не происходит, и в коммуникации посредством естественного языка также ничего случайно не закрепляется. Данный концепт – «Smombie» – воплотил в немецкоязычной коммуникации по совокупности наиболее впечатляющие черты внешнего облика обладателя смартфона, уткнувшегося в экран, отрешенного от всего и словно загипнотизированного экраном.
Более того, для того чтобы номинатив какого-то явления закрепился в массовой коммуникации, оно должно фактически стать не просто частотно наблюдаемым, а очень массовым, практически повсеместным. Обладатели портативных экранных гаджетов стали натыкаться на стены, двери, столбы, других пешеходов, незаметно для себя забредать на проезжую часть улиц, натыкаться на транспортные средства, попадать под них и что самое ужасное, становиться виновниками аварий используя свои гаджеты находясь за рулем автомобиля. Для того чтобы хоть как-то выйти из этого положения, в Германии стали производить светофоры перед пешеходными переходами, сигнал которых загорался на уровне асфальта перед «зеброй» – то есть именно там, куда и глядел уткнувшийся в это время в экран своего смартфона «смомби» (чекран) [5]. Еще дальше продвинулись в соседней Голландии, где переключающийся сигнал находящегося вблизи светофора просто стал транслироваться на экраны смартфонов всех, кто рядом с этим светофором в момент переключения находился [1]. Перечисленные выше факты однозначно указывают на то, что общение посредством электронных устройств и непосредственно с самим гаджетом влияет на восприятие и сознание человека значительно и напрямую, переключая смомби (чекранов) на экран и поглощая их целиком [17, c. 59].
Формирующаяся зависимость человека от экрана смартфона стала все более закрепляться в рамках его индивидуального бытия, приобретая внутри него новые формы. Если страдающие от прежних традиционных форм аддиктивного поведения начинают свой день с глотка спиртного или первой утренней сигареты, то смомби (чекран), едва открыв глаза, берёт в руки смартфон, который постоянно находится во включенном состоянии. Таким образом, вместе с удобным и крайне функциональным экранным гаджетом, технологически продвинутое человечество приобрело также и новую аддикцию, что согласованно отмечается самыми различными авторами во многих исследованиях [17], [6], [27].
Укрепление связи пользователя с экраном смартфона обогатило лексикологию многих мировых языков и еще одним термином – «номофобия» – по существу означающим новый, особенный вид навязчивого страха потерять смартфон, утратить его, остаться без смартфона, пусть даже на некоторое время и на не очень удаленном расстоянии. Появление этого неологизма в большинстве современных языков напрямую указывает на явный и отчетливый характер феномена возникновения огромного собственного мира индивида внутри виртуального пространства принадлежащего ему электронного устройства, утрата связи с которым пусть даже на некоторое время воспринимается этим индивидом на эмоциональном и когнитивном уровне как катастрофа [3, c. 439]. В свою очередь, это означает, что сама по себе индивидуальная значимость возможности немедленного доступа к виртуальной реальности смартфона приобрела для его обладателя экзистенциальный характер, а сам этот гаджет стал неотъемлемой частью жизни современного человека – pars modi vivendi («часть образа жизни» – лат.).
Продолжает ли современный человек оставаться человеком после изъятия у него смартфона или уже нет, и только потому, что из-под его сознания и восприятия выдернули «ментальные костыли», которыми стал для чекрана экран портативного устройства? К сожалению, возможность однозначного ответа на этот вопрос уже упущена, поскольку, по данным тех же публикаций [3, c. 439], эмоционально отягощенной номофобией (вплоть до возникновения состояния нескомпенсированного аффекта при внезапно обнаруженной утрате гаджета) уже страдают каждые двое из пяти обладателей смартфонов, и с течением времени это процент обнаруживает тенденцию к увеличению. Иными словами – утрачивая смартфон, эти люди людьми в определенном смысле быть уже перестают, сами заявляя о себе, что «без своего смартфона я – не человек».
Всего за одно десятилетие количество пользователей смартфонов возросло на 566% [22], и колоссальная динамика этих темпов не есть заслуга изготовителей только аппаратной части этих устройств. Стремительные темпы роста численности потенциальных смомби (чекранов) обеспечиваются также усилиями самых многочисленных и разнообразных разработчиков соответствующего непрерывно совершенствующемуся техническому уровню носимых устройств прикладного программного обеспечения – сервисов, платформ доступа, виртуальных игр, социальных сетей, электронных маркетплейсов и т.п. Не выпуская из рук смартфон, один на один с экраном, современный человек может решать такое количество самых разнообразных задач и программировать такие сценарии реализации и самореализации своего собственного бытия, которые человек «до-смартфонной» эпохи мог видеть только в фантастических фильмах. Однако этот невиданный прогресс последнего десятилетия обрел и свою иную, негативную сторону: появилось и стало подрастать целое поколение, которое, с одной стороны, вне контакта со смартфоном не мыслит своего собственного существования в этой жизни вообще и, во-вторых, само по себе вне этого же контакта не умеет делать практически ничего. Из «расширения» современного человека экран смартфона незаметно, но стремительно превращается в его «протез» ментально-операционального плана [26, c. 62], за отсутствием которого его сознание и восприятие, а вслед за ними – также и преобразующая деятельность человека (продолжая ту же мысль) – инвалидизируются, утрачивая тем самым не только свою эффективность, но и широту спектра доступных им возможностей [10, c. 119].
К сожалению, столь массивное внедрение в общий план человеческой экзистенции не смогло обойти стороной и ее аксиологическую сторону – в частности, вопросы и проблемы интерсубъективности в сфере доверия. Отягощенный наличием бесстрастного и бескорыстного электронного помощника, современный человек во все меньшей степени доверяет окружающим его, и во все большей степени – экрану гаджета, что и провоцирует возникновение мошенничества и различных видов обмана в информационном пространстве. Однако факт остается фактом: среднестатистический смомби (чекран) более склонен доверять экрану смартфона, нежели реальному собеседнику [18, c. 29].
Такое изменение перечня возможных контрагентов общения современного человека при масштабировании неизбежно отражается и на характере социума, членом которого он является: общество становится все более «сетевым», поскольку смещение львиной доли социальных интеракций самого разнообразного плана в виртуальное пространство сомнений не вызывает. Традиционная почта и бумажные носители во все большей степени примеряют на себя роль исторически отходящего антуража, поскольку современный смомби (чекран) читает с экрана смартфона сообщения и пересылает через него же. Это, безусловно, очень удобно, и экономит время, но существенно обедняемое актами реального взаимодействия с другим живым человеком, индивидуальное восприятие начинает во все большей степени деформироваться относительно эволюционно «вшитых» в него эмоциональных констант – смомби (чекраны) прогрессирующе утрачивают способность к антипатии, симпатии, эмпатии, поскольку для них остается возможность демонстрировать все вышеперечисленное только по отношению к виртуальным никам и аватарам, заселяющим виртуальное пространство экрана. С точки зрения теории и практики психологии социального взаимодействия, все это имеет далеко идущие и крайне негативные последствия – привыкшее к клипам и тэгам восприятие смомби (чекрана) утрачивает способность чтения и понимания не только бумажной книги, но и, что несопоставимо более трагично, способность «читать» другого человека, словно книгу, поскольку на экране смартфона за виртуальным означающим разобрать реальное означаемое часто нет просто никакой возможности [27, c. 11].
Исходя из концепции «гиперпотребления» Ж. Бодрийяра [4], нельзя не согласиться с утверждением, что нет и не будет в окружении человека ничего такого, чем он не смог бы злоупотреблять, и смартфон в этом же отношении не имеет ни одной возможности стать исключением.
Согласно социологическим опросам [20], все больший процент населения приносят свои смартфоны в спальню, что дает основание утверждать, что гаджеты вторгаются не только в социальную сферу нашей жизни, но и в ее интимную составляющую часть. Подтверждение тому и исследования мобильных потребительских привычек [19], проведенные в 2013 году. В частности, стало известно, что 12% пользователей не расстаются со своими любимыми устройствами даже в душе. Еще более тревожным оказался другой показатель. согласно исследованиям британских OnePoll и SecurEnvoy [21], сегодня уже 41% опрошенных чувствует, о чем уже было упомянуто, тревожность и не контролирует себя, когда они далеко от своих смартфонов или планшетов. При этом 51% респондентов признались в том, что они испытывают состояние паники в случае, если их смарт-друг не находится поблизости. Подобное, вызывающее у людей страдание, состояние являет собой «синдром постоянного нахождения онлайн».
Влияние постоянного замыкания всей сферы восприятия внутрь экрана смартфона на формирующуюся детскую психику заслуживает, без сомнения, отдельного исследования. Что же касается взрослых, то время, когда вослед обществам анонимных наркоманов и алкоголиков должны естественным образом последовать общества анонимных гаджетоманов, по всей видимости, уже не за горами.
Однако все это только практическая сторона вопроса, которая при отсутствии направляющей практику теории будет долго блуждать в поисках решений. Обнаруживающая явно междисциплинарный, комплексно-антропологический характер, проблема возникновения и закрепления исключительной по силе зависимости человека от экрана мобильных электронных устройств должна стать объектом исследования и быть проанализирована со стороны философии сознания, физиологии высшей нервной деятельности и отдельных высших психических функций, психологии общения и коммуникации, социологии неформальных групп и субкультур, складывающихся в виртуальной среде, культурологии.
Выводы.
- Наряду с удобством использования смартфон смог очень быстро заменить, а затем и вытеснить исторически сложившиеся формы человеческого общения, оставив тем самым индивиду себя в качестве единственного собеседника, что не могло не отразиться негативно на психике человека.
- Уровень поглощенности и охваченности восприятия и мышления человека экраном смартфона представляет настолько явную угрозу его не только психическому, но и физическому здоровью, что это заставляет ряд стран организованно принять специальные меры по защите здоровья пользователей.
- Первоначально созданный для экономии времени и других ресурсов человека, в настоящее время смартфон фактически превратился в его «протез» ментально-операционального характера, тем самым лишив человека многих прежних самостоятельных навыков.
- Проблема влияния мобильных электронных устройств на восприятие и мышление в настоящее время трансформировалась в проблему зависимости от данных устройств, что стало представлять реальную угрозу процессу естественной трансляции необходимых форм значимого социокультурного опыта от поколения к поколению.
Об авторах
Сергей Леонидович Григорьев
Российский государственный аграрный университет – МСХА им К. А. Тимирязева
Автор, ответственный за переписку.
Email: grigoryevdiss@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-9143-0636
кандидат философских наук, доцент кафедры философии
Россия, МоскваСписок литературы
- Агеев, А. В Нидерландах создан светофор для пешеходов, «уткнувшихся» в смартфон [Электронный ресурс]. – URL: https://www.techcult.ru/mobile/4001-lightline (дата обращения: 25.08.2022).
- Березовская, И. П. Проблема методологического обоснования концепта "клиповое мышление" // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. — 2015. — № 2 (220). – С. 133 – 138.
- Бовэ, С. О., Горягин Р. А. О влиянии гаджетов на когнитивное развитие личности: генезис, история и последствия про-блемы // Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – № 12. – С. 439 – 441.
- Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть – Москва: Рипол Классик, 2021, – 512 с.
- В Германии появились специальные наземные светофоры для тех, кто не может оторваться от смартфона – Код досту-па URL: https://www.ixbt.com/news/2016/04/27/v-germanii-pojavilis-specialnye-nazemnye-svetofory-dlja-teh-kto-ne-mozhet-otorvatsja-ot-smartfona.html (Дата обращения: 25.08.2022).
- Водяха, С. А. Влияние гаджетов нa развитие интеллектуально-когнитивных способностей обучающихся – Код доступа URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1661499916&tld=ru&lang=ru&name=Vodjakha_Vlijanie_gadzhetov.pdf&text=3D1 (Да-та обращения: 26.08.2022).
- Гиренок, Ф. И. Клиповое сознание. — Москва: Академический проект, 2014. — 249 с.
- Григорьев, С. Л. Симуляции коммуникативного в экранной культуре // Коммуникология. – 2022. – Т. 10. – № 1. – С. 120-128.
- Жижек, С. Добро пожаловать в пустыню Реального. — Москва: Фонд «Прагматика культуры», 2002. — 160 с.
- Захаркина, Т. Н., Исакова, И. А. Гаджетизация: эффекты влияния на общественные процессы // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2019. – № 3 (55). – С. 115-121.
- Клиповое мышление: чем отличаются «люди экрана» от «людей книги»? [Электронный ресурс]. – URL: https://monocler.ru/klipovoe-myishlenie/
- Купчинская, М. А., Юдалевич, Н. В. Клиповое мышление как феномен современного общества // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2019. – №3 (14). – С. 66 – 71.
- Курашинова, А. Х., Гаджетомания и проблемы развития личности. Историческая и социально-образовательная мысль. – 2016. – Том. 8. № 5. Часть 1. – С.180-182.
- Логинов, Н. Клиповое мышление: психический процесс, которого не существует. [Электронный ресурс]. – URL: https://postnauka.ru/longreads/156614
- Маклюэн, Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. — Москва: Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. — 464 с.
- Маркс, К., Энгельс, Ф. Сочинения. Издание второе. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1962. Т. 25, ч. 2.
- Матвеева, М. В. Влияние гаджетов на развитие памяти у младших школьников // Вестник Северо-Восточного федераль-ного университета им. М. К. Аммосова. Серия: Педагогика. Психология. Философия. – 2021. – № 2(22). – С. 54 – 63.
- Морозова, Л. Л. Синдром постоянного нахождения онлайн или как гаджеты изменили нашу жизнь // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2016. – №1. – С. 25 – 30.
- Опрос 2013 Mobile Consumer Habits (link is external) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.zdnet.com/article/phone-sex-using-our-smartphones-from-the-shower-to-the-sack/ (дата обращения: 22.08.22)
- Опрос OnePoll и SecurEnvoy «Nomophobia continues to sweep the US» [Электронный ресурс] URL: https://www.securenvoy.com/blog/2012/02/16/66-of-the-population-suffer-fromnomophobia-the-fear-of-being-without-their-phone/ (дата обращения: 23.08.22)
- Опрос Versapak [Электронный ресурс] URL: http://www.thedrum.com/news/2013/07/11/over-half-brits-suffer-extreme-tech-anxiety-whenseparated-smartphones (дата обращения: 22.08.22)
- Отрывок из книги «Со всеми и ни с кем». Конец уединения: что отнимает у человека смартфон. – URL: https://special.theoryandpractice.ru/smartphone/ (дата обращения: 22.08.22)
- Саенко, Н. Р., Щеглов, И. В. Процедуры "вживления" экрана в бытие современного человека // Каспийский регион: по-литика, экономика, культура. – 2012. – № 4(33). – С. 275-282.
- Тоффлер, Э. Шок будущего = Future Shock, 1970. — М.: АСТ, 2008. — 560 с.
- Тоффлер, Э. Третья волна = The Third Wave, 1980. — М.: АСТ, 2010. — 784 с.
- Ямпольский, М. Экран как антропологический протез // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 2(114). – С. 61-74.
- Adrian, F. Ward, Kristen Duke, Ayelet Gneezy, Maarten W. Bos. Brain Drain: The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity. Journal of the Association for Consumer Research, – 2017; – 2 (2): 140.
- “Generation-Kopf-unten-Wie-einsam-macht-das-Smartphone”. – URL: https://www.welt.de/ newstick-er/dpa_nt/infoline_nt/boulevard_nt/article127898591/Generation-Kopf-unten-Wie-einsammacht-das-Smartphone.html (Ac-cessed 22.08.2022).
- Jugendwort_des_Jahres_(Deutschland). – URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendwort_des_Jahres_(Deutschland) (Accessed: 25.08.2022).
Дополнительные файлы