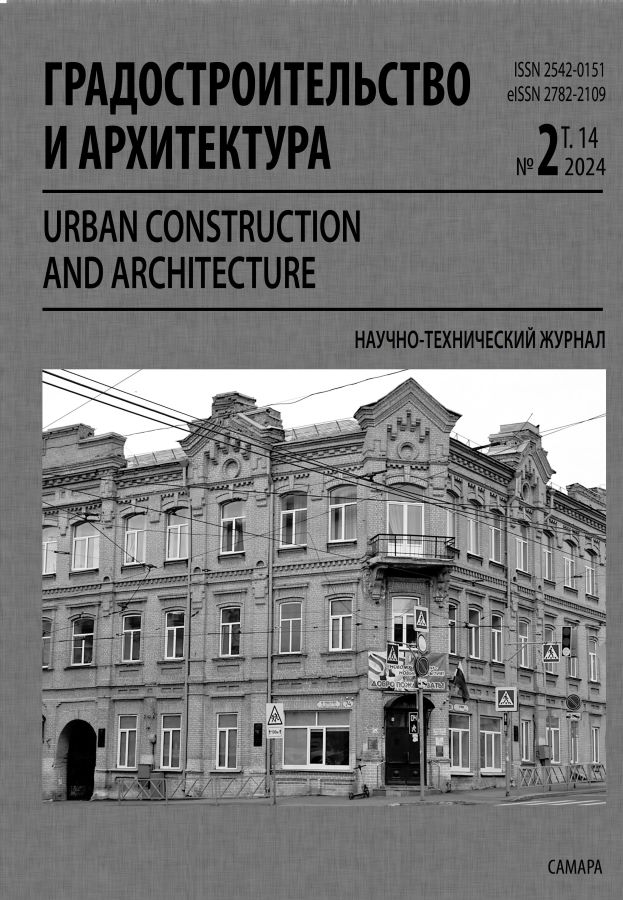The architectural and construction features as a criteria of identity of the Orthodox Churches
- Authors: Vavilonskaya T.V.1, Lyzina A.G.2
-
Affiliations:
- Samara State Technical University
- Penza State University of Architecture and Construction
- Issue: Vol 14, No 2 (2024)
- Pages: 84-93
- Section: THEORY AND HISTORY OF ARCHITECTURE, RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL AND ARCHITECTURAL HERITAGE
- URL: https://journals.eco-vector.com/2542-0151/article/view/633611
- DOI: https://doi.org/10.17673/Vestnik.2024.02.12
- ID: 633611
Cite item
Full Text
Abstract
The article discusses the architectural and constructional solutions of Orthodox churches in the region, including techniques for supporting the completion tier on the lower tier and types of vaults. It considers the origins of these solutions and evaluates the importance of their architectural and constructional aspects as criteria for identity, as well as their role in shaping the temple. At each stage of development, the article highlights typical, unique, and specific characteristics. Using examples, it analyzes the use of wall-mounted corner supports and their organization, as well as the connection between construction techniques and temple dimensions.
Full Text
Культовая архитектура – один из самых многочисленных видов историко-культурного наследия Пензенской области. Ни один вид архитектурных памятников не представлен в регионе в таком количестве объектов, и ни один из них не может сравниться по архитектурному разнообразию, охвату временных периодов, широте используемых стилей. В структуре всего наследия края православные храмы наиболее устойчивая и репрезентативная его часть, но в то же время наиболее хрупкая и невостребованная в небольших и умирающих селах [1].
Пензенская область, являясь территорией Поволжья, расположена во втором поясе областей вокруг Москвы. Территория освоена в конце XVII столетия, что обусловило включение ее в общероссийский культурный контекст с начала XVIII в. Это одна из причин того, что на территории края небольшое количество храмов XVIII в. и отсутствуют примеры предыдущих временных периодов. Базой исследования является вся храмовая архитектура на территории современной Пензенской области – как сохранившиеся памятники, так и утраченные, но широко представленные архивными данными. Ввиду исторических изменений территориального деления [2], в работе по отношению к памятникам, возникшим на территории современной Пензенской области до 1917 г., применяется определение Пензенский край.
В современных исследованиях согласно преобладающим стилевым тенденциям отмечаются три основных этапа развития культовой архитектуры на территории края: XVIII в. – как период преобладания барокко, первая половина XIX в. – развитие и упадок классицизма, вторая половина XIX – начало XX в. – период развития направлений историзма, в том числе неорусского и византийского стилей [3 – 5]. С помощью сравнительного анализа в рамках этих трех периодов в работе прослеживается динамика изменений архитектурных решений.
В понятии «идентичность» исследователями выделяется два ракурса рассмотрения: выявление идентичности как тождественности при сравнении двух объектов или выявление внутренней идентичности объекта самому себе, сумме своих определяющих характеристик [6]. В рамках последнего подхода идентичность культовой архитектуры Пензенской области понимается в данной работе как совокупность типичных, специфичных и уникальных характеристик каждого объекта, выявленных через сравнение со всем корпусом православного храмостроения региона [7]. Сумма и соотношение уникальных, типичных и специфичных характеристик иллюстрирует идентичность культовой архитектуры региона, определяет ее узнаваемость и уникальность.
На территории Пензенской области сохранились объекты православного храмостроения 1715 – 1914 гг., и, помимо аутентичности, непосредственной исторической ценности, критериями их идентичности являются такие архитектурные характеристики, как конструктивные особенности, объемно-пространственное и планировочное решение, стилевые и декоративные особенности, авторство архитектора [8]. Конструктивные особенности – один из основных факторов формирования идентичности архитектуры. От конструктивного решения объекта, его структурообразующих элементов зависит организация внешних визуально значимых качеств архитектуры – объемно-пространственных характеристик, формирующих ее облик. В исследовании рассматривается организация опирания яруса завершения на ярус основания, виды сводов центральной части храма.
На территории края в первые два периода, XVIII и первая половина XIХ в., выявлено пять конструктивных решений или приемов опирания яруса завершения на ярус основания, из них два традиционных: с помощью крестово-купольной системы и бесстолпное опирание, менее распространенный прием с помощью пристенных угловых опор и отдельно выделяется малочисленный в крае прием постановки цилиндрического свода на архитраве ряда колонн в базиликальном зальном пространстве и представленный в начале XX в. единственным храмом прием организации сводов центральной части храма на двух парах пересекающихся арок. Из них бесстолпное опирание яруса завершения получило наиболее широкое распространение и может быть охарактеризовано как типичное во все периоды развития культовой архитектуры края. Бесстолпное опирание восьмерика, ротонды или сводчатой конструкции на периметр стен четверика основания занимает 80 % от общего числа конструктивных решений храмов, построенных до второй половины XIX в. В этом варианте несущей конструкцией являются наружные стены храма.
Менее распространенная в крае – крестово-купольная схема. Если в XVIII в. сохранилась информация всего о двух крестово-купольных храмах (оба монастырские соборы), то в первой половине XIX в. ‒ о восемнадцати объектах: губернский и уездные соборы, первые крупные усадебные храмы (рис. 1). За исключением нескольких соборов, построенных в первой четверти века (утраченный Преображенский собор г. Спасска, 1810 г., Спасо-Преображенский собор мужского монастыря г. Пензы, 1821 г.), крестово-купольные храмы, построенные до 1850-х гг. отличает большая общность архитектурного решения: центричность центральной части, крупномасштабность, массивность пропорций, что обусловлено использованием в этот период образцовых проектов. Конструктивно все они используют традиционную схему четырехстолпного крестово-купольного храма с пятью или, чаще всего в усадебных храмах, одной главой.
Рис. 1. Примеры крестово-купольных храмов 1830‒1840-х гг.
Fig. 1. Examples of cross-domed churches from the 1830s to 1840
Использование крестово-купольной системы помимо репрезентативности внешнего облика позволило увеличить площадь и вместимость, что с увеличением сельского населения во второй половине XIX в. актуально и для обычного приходского храма. Крестово-купольная система, уникальная для края в XVIII – первой половине XIX в., со второй половины XIX в. также становится типичной для местных храмов, продолжает использоваться и будет максимально широко представлена в период роста площади сельских приходских храмов.
До середины XIX в. всего три храма с двумя продольными рядами колонн, несущими цилиндрический свод центрального нефа, относятся к группе храмов с цилиндрическим сводом центрального нефа на архитраве. Перекрытие центрального нефа как цельного зала и боковых нефов как череду отдельных независимых ячеек (или общего плоского перекрытия) представляет в единичных примерах местную провинциальную трактовку базиликальности в интерьере и является своеобразным и специфичным решением для храмов края. Отвечающие вкусам конкретных знатных заказчиков эти примеры не могли быть широко востребованы именно из-за их нестандартного образа, относящегося к западноевропейскому типу храма, транслируемому из Петербурга в провинцию. Это такие храмы, как Покровская церковь села Долгоруково (1766 г.), Введенская церковь села Хованщина (1818 г.), Знаменская церковь села Знаменское (1842 г.) (рис. 2). Все перечисленные примеры характеризует продольное построение трехнефного многостолпного пространства с доминирующим по высоте центральным нефом, перекрытым большим цилиндрическим сводом по архитравным балкам, кроме ранней церкви села Долгоруково, в которой центральный неф перекрыт крестовыми сводами, копируя главный образец того времени Петропавловский собор Петербурга.
Уникальным решением, отсутствующим в XVIII в. и появившимся впервые в крае в первом десятилетии XIX в., является организация опирания яруса завершения не только на наружные стены, но и на внутренние примыкающие к стенам угловые опоры. Угловые пристенные опоры, как переходный от бесстолпного к крестово-купольному конструктивный прием, заимствован в византийской архитектуре и встречается в русских храмах в средние века [9]. Этот прием позволял без создания отдельностоящих столпов увеличить внутреннюю площадь центральной части храма, имитировать небольшими средствами парадность крестово-купольного пространства, увеличить несущую способность наружных стен [10].
Появляясь в столичных образцовых альбомах как 1824 г., так и альбомах Константина Тона 1838, 1844 гг. [11, лист. 5‒6, 8, 11; 12, лист. 1, 3], прием пристенных угловых опор транслируется в провинцию и во второй половине XIX в. становится широко используемым. Угловые пристенные опоры помимо основного приема выступающих из плоскости стены угловых прямоугольных пилонов значительной толщины, несущих пристенные подпружные арки, встречаются в храмах на территории области в следующих вариациях:
- сформированные внутренними углами боковых притворов крестового в плане храма;
- диагональные угловые расширения стен, продолжающие на всю высоту стены модуль тромпа восьмерика завершения или переходящие в диагональные лотки сомкнутого свода.
Первые храмы рассматриваемого периода, ярус завершения которых опирается на угловые опоры, – это крестовые в плане с боковыми притворами усадебные храмы. В этом случае угловые опоры являются аналогами столпов крестово-купольного храма без угловых ячеек в плане. В конструктивном решении во всех случаях присутствуют подпружные арки, паруса, барабан ротонды и цилиндрический свод боковых притворов.
Рис. 2. Интерьер и план Знаменской церкви, с. Знаменское, 1842 г.
Fig. 2. Interior and plan of the Znamenskaya church of the Znamenskoye village, 1842
Основной вариант пристенных угловых опор храмов первой половины XIX в. и наиболее широко представленный позднее, в небольших по площади храмах второй половины века, – пристенные столпы на всю высоту стены четверика, сечение которого сформировано проекцией основания двух подпружных арок (пят арок). В пространстве привычного четверикового храма на пристенные угловые столпы опираются подпружные арки, толщина которых формирует «короткие рукава» крестово-купольной системы. В Покровском храме села Засечное (1846 г.) пристенные угловые опоры являются прямым продолжением двух пят расположенных перпендикулярно пристенных подпружных арок, образуя в плане многоугольник. В Никольском храме села Чернопоселье (1839 г.) пристенные угловые опоры представляют собой массивные столпы прямоугольного сечения, объединившего многоугольную проекцию двух пят подпружных арок (рис. 3, а).
Третий вариант построения пристенных опор – диагональное расширение стен в углах четверика. Плоскости диагоналей являются продолжениями плоскостей диагональных лотков сомкнутого свода перекрытия. В Никольском храме села Казарка (1833 г.), в двусветном четверике широкие угловые диагональные расширения стен переходят в лотки сомкнутого свода. Пристроенные позже боковые притворы не меняют конструктивное решение центральной части, только пространственно расширяя его (рис. 3, б).
Рис. 3. Примеры пристенных угловых опор в интерьерах центральной части храма: а – Покровский храм с. Засечное, 1846 г., Никольский храм с. Чернопоселье, 1839 г.; б – Никольский храм с. Казарка, 1833 г.
Fig. 3. Examples of wall-mounted corner supports in the interiors of the central part of the temple: a – Pokrovsky church of the Zasechnoye village, 1846, St. Nicholas Church of the Chernoposelye village, 1839; b – St. Nicholas Church of the Kazarka village, 1833
Помимо приема опирания яруса завершения на ярус основания, основной архитектурно-конструктивной характеристикой, формирующей образ храма, является тип свода центральной части храма. Своды бесстолпного храма и храма с пристенными опорами XVIII – первой половины XIX в. представлены четырьмя типами: сомкнутым, восьмилотковым, купольным и коробовым. Сомкнутый свод является доминирующим в этот период. Для иллюстрации общего соотношения к сравнению добавлены значения по крестово-купольным храмам и конструктивному переходу в виде тромпов и парусов (рис. 4). Большое число парусных тромпов в первой половине XIX в. отражает появление и широкое распространение в крае храмов с ротондой второго яруса.
Рис. 4. Соотношение конструктивных решений в храмах XVIII – первой половины XIX в.
Fig. 4. The proportion of constructive solutions of temples from the 18th – first half of the 19th century
Во второй половине XIX в., третьем рассматриваемом периоде, из-за роста объемов строительства в два раза увеличивается количество храмов [13]. Прием постановки цилиндрического свода на архитравную балку рядов колонн базиликального храма продолжает быть редким явлением, не востребованным на территории консервативного провинциального края – всего два объекта. Основным конструктивным решением остается бесстолпное, ввиду привычности и относительной простоты возведения. Как было отмечено выше, увеличивается использование крестово-купольной системы, что связано с распространением русско-византийского стиля, образцовых проектов соборного типа храма архитектора К. Тона и требованиями большей вместимости не только городских, но и сельских приходских храмов. Храмы с пристенными угловыми опорами наравне с бесстолпными в этот период востребованы в ситуациях, с одной стороны, небольших сел или небольшого финансирования, с другой – как более сложный, но выразительный прием в авторских проектах местных архитекторов, выбирается для строительства приходами и владельцами усадеб (или благотворителями), способными оценить его преимущества [14].
Угловые расширения стен в качестве дополнительной опоры для сводов или барабана завершения в различных вариациях встречаются как в небольших по размеру, так и крупных по площади, но бесстолпных храмах, нуждающихся в повышении несущей способности стен для перекрытия обширного центрального пространства, в этом случае используется основной прием организации пристенных опор с пристенными подпружными арками. Собор Вознесения Господня г. Кузнецка – один из первых примеров крупномасштабного храма с пристенными угловыми опорами, построенный в период распространения русско-византийского стиля. Начало строительства собора – 1842 г. с использованием (с исправлениями) проекта Константина Тона Богоявленской церкви в Саратове [15]. Пятнадцать метров ширины подкупольного центрального пространства перекрыто впервые примененным в крае сводом в виде конуса, на который установлен барабан центральной световой главы (табл. 1). Сужающийся на конус цилиндр перехода к барабану встречается ранее в проектах Тона, например в Екатерининской церкви в Петергофе. Поддерживают конус свода подпружные арки, переходящие в угловые пристенные опоры. Та же схема четверикового храма с пристенными угловыми опорами и подпружными арками используется в утраченных храмах середины XIX в.: Казанской церкви г. Сердобска, 1857 г., церкви Михаила Архангела с. Чернышево, 1859 г., Тихвинском храме г. Сердобска, 1861 г., Троицкой церкви г. Кузнецка, 1862 г. В качестве образца используется архитектура территориально близкого собора Вознесения уездного города Кузнецка. Все они характеризуются близкими соотношениями пропорций завершения и четверика основания, позволяющими предположить, как в образце, наличие внутренних пристенных опор.
В малых по площади храмах применяются диагональные угловые расширения стен. Сочетающий в себе традиционность двусветного четверика с сомкнутым сводом и одной световой главой этот тип храма использует в качестве пристенных опор диагональные угловые расширения стен, усложняющие интерьер и акцентирующие центричность подкупольного пространства. Примерами небольшого по площади центральной части компактного четверикового типа храма, основанного на образцовом проекте и востребованного на всем протяжении второй половины XIX в., являются Никольский храм села Русский Пимбур, 1874 г., Казанский храм села Николо-Райское, 1888 г., храм Дмитрия Солунского села Выборное, 1900 г. В Никольском и Казанском храме угловые расширения переходят в диагональные лотки сомкнутого свода, в храме Дмитрия Солунского – в парусные тромпы, поддерживающие купольный свод перекрытия.
В истории пензенских храмов использование пристенных опор не всегда было удачным. Компактный центричный Никольский храм села Верхний Шкафт строился с 1851 г. на участке с перепадом высот более полутора метров. При толщине 0, 86 м наружных стен и габаритных размерах центральной части 13, 5х11, 5 м во вспарушенном своде появились трещины. В 1866 г. была сооружена система из четырех столпов и арок, снявших часть нагрузки свода и завершения с наружных стен и пристенных угловых опор. Близким к нему по объемно-планировочному решению, но более удачным примером конструктивного решения является Владимирский собор Вьясского женского монастыря, 1856 г. В этом храме пристенные угловые опоры и подпружные арки также несут вспарушенный свод со световой главой, но увеличенная толщина всех стен в 1, 5 м при внутренних габаритных размерах 12х12 м позволила организовать свободное пространство центральной части и впечатляющее парящее перекрытие свода со световым барабаном в центре (см. табл. 1).
Особым примером храма, не укладывающимся в привычную схему пристенных опор, является Введенская церковь села Низовка, 1889 г. В этом храме пристенные опоры не являются угловыми, а расположены на расстоянии от углов четверика. Две пары пересекающихся арок, переходящие в пристенные опоры, являются основой конструкции перекрытия четверикового объема с восьмериком меньшего диаметра с шатром, что позволило увеличить площадь четверика – яруса основания. Этот единожды встречающийся специфичный для храмов края прием перекрещивающихся арок восходит к архитектуре армянских гавитов XIII столетия, в конце XIX в. успешно начал применяться в столичных храмах, но в железобетоне [16]. В рассматриваемой Введенской церкви попытка удалась не до конца, поставить кирпичное световое завершение не решились, распор оказался слишком велик, восьмерик был возведен в дереве [14]. Сельская церковь строилась четырьмя архитекторами края в течение двадцати лет и стала примером своеобразного конструктивного решения, оставшегося специфичным для местного храмостроения и не получившего продолжения.
В начале XX столетия в сельских приходах края снова востребован небольшой бесстолпный одноглавый храм, но в отличие от середины века в этот период и в небольших по площади центральной части бесстолпных храмах используются пристенные угловые опоры прямоугольного сечения с опирающимися на них пристенными подпружными арками. В кладбищенской церкви Архистратига Михаила села Нижний Ломов, 1901 г. в меньшем масштабе (габаритные размеры пространства центральной части всего 6, 5 м) подпружные арки и пристенные опоры формируют уже ставшую типичной конструктивную схему. С 1907 по 1913 гг. еще в четырех бесстолпных храмах края используются пристенные угловые опоры с пристенными подпружными арками (см. табл. 1).
Таблица 1. Примеры планов храмов на территории Пензенской области с пристенными угловыми опорами
Table 1. Examples of temple plans in the Penza region with corner piers
Схема пристенных угловых опор с пристенными подпружными арками к началу XX в. становится типичной и востребованной в храмах Пензенского края различного масштаба и габаритов – от небольших кладбищенских храмов-часовен до вместительных приходских храмов (рис. 5).
Рис. 5. Соотношение архитектурно-конструктивных решений храмов по временным периодам
Fig. 5. The proportion of constructive solutions in temples by period
Во второй половине XIX в. значительно увеличилось число используемых вариантов сводов в бесстолпных храмах и храмах с пристенными угловыми опорами. На сегодняшний день сохранилась информация о десяти типах сводов в двух разновидностях – прорезанный световым барабаном яруса завершения (световой) и в глухом исполнении (рис. 6). Интересно, что купольный свод как основание и переход к барабану световой главы наиболее широко используется в храмах края в начале XX столетия, можно сказать, что произошел отбор оптимального набора конструктивных элементов, формирующих прием пристенных угловых опор с пристенными подпружными арками – этот ставший привычным для храмовой архитектуры второй половины XIX в. синтез крестово-купольной и бесстолпной конструктивных систем.
Таким образом, основным типичным архитектурно-конструктивным решением на всем протяжении существования храмовой архитектуры на территории края является бесстолпный прием опирания яруса завершения на ярус основания, когда несущей конструкцией является периметр наружных стен. Крестово-купольная схема, представленная по имеющимся данным в XVIII в. всего двумя объектами, в первой половине XIX в. – восемнадцатью храмами, во второй половине XIX в. переходит в разряд освоенных и востребованных приемов, становится типичной характеристикой местного храмостроения, присутствующей не только в уездных соборах и в храмах сел крупных помещиков, но и в рядовых сельских храмах края. Конструктивное решение пристенных угловых опор, отсутствовавшее в XVIII в., появившееся впервые в первом десятилетии XIX в. и являвшееся уникальным для первой половины XIX в., с середины века транслируется из столицы и начинает применяться в храмах края в различных вариантах, переходя к концу XIX столетия в разряд типичных конструктивных решений. Специфическим приемом организации пространства и конструктивным решением его перекрытия, в единичных примерах присутствовавшим в храмах края, во все периоды является перекрытие цилиндрическим сводом на архитраве, опирающимся на два ряда столпов трехнефного базиликального зального пространства храма. Ориентированный на западные образцы этот прием, представленный усадебными храмами, остается разовым явлением. Представленный единственным храмом, экспериментальным по своей сути для местного храмостроения, прием перекрещивающихся арок – также является специфичной характеристикой местного храмостроения (табл. 2).
Рис. 6. Соотношение типов сводов второй половины XIX в.
Fig. 6. The ratio of vault types in the second half of the 19th century
Таблица 2. Классификация архитектурно-конструктивных решений православных храмов Пензенской области
Table 2. Classification of the constructive solutions of Orthodox churches in the Penza region
Критерий идентичности/ Период | Конструктивное решение | ||
уникальное | типичное | специфичное | |
XVIII в. | Крестово-купольное | Бесстолпное | Многостолпный (базиликальный) с цилиндрическим сводом на архитраве |
1-я пол. XIX в. | |||
С угловыми пристенными опорами | |||
2-я пол. XIX – начало XX в. | |||
Крестово-купольное | |||
С угловыми пристенными опорами | С перекрещивающимися арками | ||
Вывод.
Идентичность культовой архитектуры края в архитектурно-конструктивном решении заключается в преобладании на всех этапах развития бесстолпного приема опирания и своеобразности, специфичности для храмов Пензенского края архитравного приема в базиликальном пространстве. Уникальность крестово-купольной системы и приема пристенных угловых опор к концу XIX в. нивелируется, и оба этих конструктивных решения переходят в разряд типичных. Таким же специфичным, как прием опирания цилиндрического свода на общую для центрального нефа архитравную балку, является прием пересекающихся арок. Оба своеобразных приема представлены единичными объектами, не получают дальнейшего развития в архитектуре края и остаются специфичными характеристиками местного храмостроения.
Рассмотрение конструктивных приемов в контексте их развития позволяет сделать общий вывод, что архитектура православных храмов Пензенской области характеризуется приверженностью к опробованным и простым конструктивным решениям, которые в каждый период их развития являясь фоновыми для редких уникальных и специфических приемов, таким образом формируют идентичность культовой архитектуры края – явления глубоко традиционного и этим самобытного.
About the authors
Tatyana V. Vavilonskaya
Samara State Technical University
Author for correspondence.
Email: baranova1968@mail.ru
Doctor of Architecture, Associate Professor, Head of the Reconstruction and Restoration of Architectural Heritage Chair
Russian Federation, 443100, Samara, Molodogvardeyskaya str., 244Anna G. Lyzina
Penza State University of Architecture and Construction
Email: annlyzina@yandex.ru
Senior Lecturer of the Interior Design and Art Design Chair
Russian Federation, 440028, Penza, German Titova str., 28References
- Lyzina A.G. Kazakova D.V. The state of the Orthodox churches in the Penza region. Molodoi uchenyi [Young Scientist], 2015, no. 7 (87), pp. 1119‒1122. (in Russian)
- Khvoshchev A.L. Ocherki po istorii Penzenskogo kraia. [Essays on the History of the Penza Region]. Penza, State Publishing House. Penza branch, 1922. 150 p.
- Dvorzhanskii A.I. Church architecture monuments of the Penza region. Penzenskii vremennik lyubitelei stariny [Penza temporary residence of lovers of antiquity], 2004, iss. 14, pp. 18–30. (in Russian)
- Lapshina E.G., Rachkina N.G. Al’bom chertezhei pamiatnikov arkhitektury, istorii i kul’tury Penzenskogo regiona. CHast’ 2. Kul’tovoe zodchestvo [Album of drawings of monuments of architecture, history and culture of the Penza region. Part 2. Cult architecture]. Penza, PGUAS, 2014. 76 p.
- Oya Ya.V. Arkhitektura khramov Penzenskoi gubernii v XVIII ▪ pervoi polovine XIX vv. Cand, Diss. [Temples Architecture of the Penza province in the 18th and first half of the 19th centuries. Cand. Diss]. Moscow, 2000. 232 p.
- Ivin A.A. Filosofiia: Entsiklopedicheskii slovar’ [Philosophy: An Encyclopedic dictionary]. Moscow, Gardariki, 2004. 1072 p.
- Lyzina A.G. Complex analysis and the concept of revitalization of Orthodox temple architecture objects on the example of the Penza region. Aleksandr Nevskiy: Zapad i Vostok, istoricheskaya pamyat’ naroda: materialy Vos’mykh regional’nykh Rozhdestvenskikh obrazovatel’nykh chteniy [Alexander Nevsky: West and East, historical memory of the people: materials of the Eighth Regional Christmas Educational Readings]. Penza Theological Seminary of the Penza Diocese of the Russian Orthodox Church, 2021. pp. 59‒66. (In Russian).
- Lyzina A. G. Religious architecture of the Penza region as a visual code of local identity. Gradostroitel’stvo i arkhitektura [Urban construction and architecture], 2022. no. 2(47), pp. 77‒82. doi: 10.17673/10.17673/Vestnik.2022.02.11
- Altshuller B.L. Pamiatniki zodchestva Moskovskoi Rusi vtoroi poloviny XIV – nachala XV vekov (novye issledovaniia). Cand, Diss. [Architectural monuments of Moscow Rus of the second half of the XIV – early XV centuries (new research) Cand. Diss.]. Moscow, 1978.
- Trushnikova A.V. Old russian cross-domed churches with corner piers in the late 14th ‒ early 15th centuries. On the origins of the architectural type in the context of Byzantine and Balkan architecture. Aktual’nye problemy teorii i istorii iskusstva [Current problems of the theory and history of art], 2010, no. 1, pp. 124‒132. (in Russian)
- Sobranie planov, fasadov i profilei dlia stroeniia kamennykh tserkvei. [Collection of plans, facades and profiles for the construction of stone churches]. St. Petersburg, printing house of the Medical Department of the Ministry of Internal Affairs, 1824. 146 p.
- Ton K.A. Tserkvi, sochinennye arkhitektorom ego imperatorskogo velichestva, professorom arkhitektury Imperatorskoi Akademii khudozhestv i chlenom raznykh inostrannykh akademii Konstantinom Tonom. [Churches composed by His Imperial Majesty’s architect, Professor of architecture at the Imperial Academy of Arts and member of various foreign academies Konstantin Ton]. St. Petersburg, 1838. 17 p.
- Popov A.E. Cerkvi, prichty i prihody Penzenskoj eparhii [Church, the clergy and parishes of the Diocese of Penza]. Penza, Printing house of the provincial government, 1896. 272 p.
- Dvorzhansky A.I. Khramy Penzenskoi oblasti: illiustrirovannyi katalog. [Temples of the Penza region: an illustrated catalog]. Penza, Artmaster, 2020, vol. 2. 615 p.
- Proekt tserkvi Voskreseniia Khristova. Plan, fasady, razrez, 1842. [The project of the Church of the Resurrection of Christ. Plan, facades, section, 1842]. RGIA. F. 1488. Op.3. d.1067. list. 1‒2.
- Kirichenko E. I. Russkii stil’: Poiski vyrazheniia natsional’noi samobytnosti, narodnost’ i natsional’nost’, traditsii drevnerusskogo i narodnogo iskusstva v russkom iskusstve XVIII ‒ nachala XX veka. [Russian style: the search for expression of national identity and traditions of ancient Russia and folk art in the Russian art of the 18th ‒ early 20th century]. Moscow, BooksMArt, 2020. 579 p.
Supplementary files