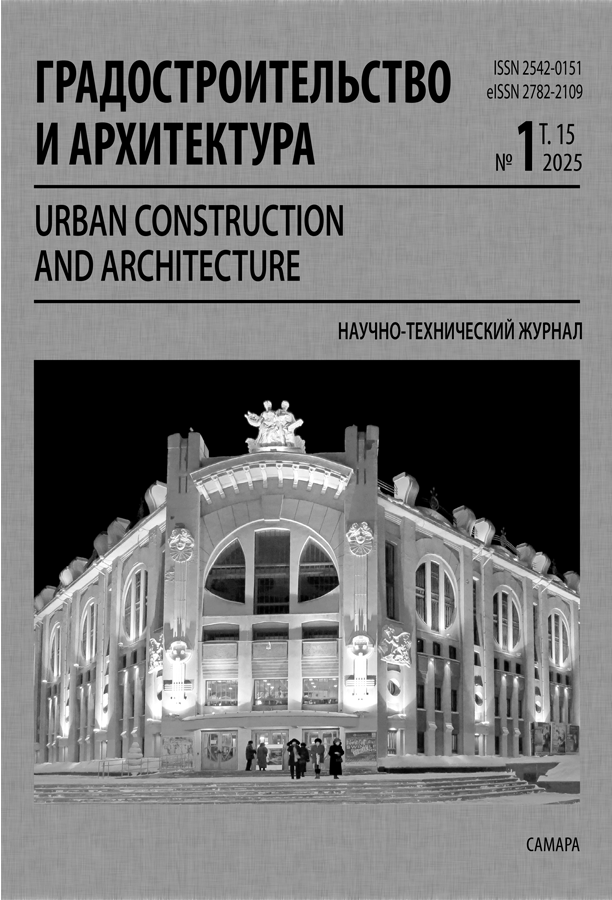Features of architectural images of historical industrial cities of Central Russia
- Authors: Snitko A.V.1
-
Affiliations:
- Ivanovo State Polytechnic University
- Issue: Vol 15, No 1 (2025)
- Pages: 107-115
- Section: THEORY AND HISTORY OF ARCHITECTURE, RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL AND ARCHITECTURAL HERITAGE
- URL: https://journals.eco-vector.com/2542-0151/article/view/678499
- DOI: https://doi.org/10.17673/Vestnik.2025.01.15
- ID: 678499
Cite item
Full Text
Abstract
The architectural images of the historical cities of central Russia are associated by the overwhelming majority of the population and the professional architectural community with the spaces of Suzdal, Ples, Rostov, with the centers of Vladimir, Yaroslavl, Kostroma. However, this region of our country is also a concentration of settlements, where textile and other industries developed intensively at the dawn of the industrial era in the second half of the 19th century. Typological and architectural solutions of industrial buildings that came from England soon acquired their own unique flavor on Russian soil, while preserving the specifics of the artistic image. The construction of both industrial and civil complexes (dormitories – workers’ barracks, hospitals) with schools and public houses included in it had a peculiar community of architectural, compositional and architectural and artistic techniques and radically differed from the traditional small-scale urban development of the late XVIII - first half of the XIX century. The newly emerged planning and spatial principles of their urban planning organization in the historical industrial settlements gave even more specificity to the spaces of these areas. The article shows the main differences and features of the architectural and urban planning organization of the traditional and industrial residential development of the settlements of the region and, accordingly, their historical architectural images.
Full Text
История развития городов в Центральной России насчитывает более 1000 лет. В первую «волну» создания системы городов по территории Северо-Восточной Руси они в основном закладывались и развивались как опорные административные и духовные центры, которым, впрочем, не чужда была функция военно-стратегических и опорных пунктов. По многу раз апробированной традиции эти небольшие города окружались оборонительными стенами, которые вместе с высотными доминантами храмовых построек главенствовали в панорамах восприятия этих городов извне. Внутри же при нерегулярной планировке, относительно высокой плотности застройки, рядовых одно-двухэтажных деревянных строениях формировались «камерные» пространства. В них не было прямых перспектив улиц, регулярных ансамблей; и лишь в некоторых случаях громады белоснежных храмов возвышались как своеобразные территориальные и духовные «маяки». Эту «маяковость» поддерживал и рельеф. Располагаясь, как правило, на приречных возвышенностях, силуэт этих городов усиливался за счёт природной высотной составляющий, а с городских пространств открывались взору далёкие перспективы окружающих город территорий ‒ они составляли неотъемлемую визуальную часть городских панорам.
Вторая «волна» образования городов в центральной части уже в Российской империи произошла во второй половине XVIII столетия (во времена Екатерины Второй), когда была проведена широкая административно-территориальная реформа устройства страны. Здесь, в Центральной России, естественным образом военно-оборонительная функция городов «сошла на нет», а главной стала административная. Эта реформа предначертала смену не только их функционального назначения, но и градостроительного устройства, планировочного каркаса, планировочной ткани. Новые центры губерний и уездов (а последние часто образовывались из сёл и слобод) наряду с древнейшими городами получали впервые за весь период их существования генеральные планы, основанные на совершенно нетрадиционных для русского градостроительства регулярных схемах. Так, полностью утратили свои древнерусские планировки Ярославль, Кострома, Шуя, Рыбинск, Лух. Конечно же, мастера градостроительного искусства того времени очень органично вплели в их новую планировочную структуру многие древние храмы и монастыри, фортификационные постройки (проездные башни и системы валов, со временем заменённые на бульвары). Но сегодня однозначно можно сказать, что планировочная структура многих традиционных исторических городов – это наследие не более чем 250-летней давности. Вслед за планировкой последовала и постепенная замена рядовой застройки. Стали издаваться альбомы типовых фасадов, укрепились требования постановки домов по красной линии, регламентировалась высота строений, композиция фасадов и даже цвет. В городах появились перспективы прямых улиц, а уличные пространства обрели регулярность, правильность линий и плоскостей, их образующих. Узкие линейные уличные пространства контрастировали с открытыми пространствами регулярных площадей, на которых размещались городские доминанты. Этот контраст усиливался большой разницей в высотной составляющей рядовой застройки и главных высотных объектов [1] (рис. 1).
Рис. 1. Застройка исторического центра Костромы
Fig. 1. Construction of the historical center of Kostroma
Именно города, получившие новую застройку своих центров в ту эпоху, по тем градостроительным регулятивным закономерностям (конец XVIII – начало XIX века), сегодня в глазах широких масс населения и сформировали «типичный» образ провинциальных исторических городов нашей страны. Он постепенно складывался как набор градостроительных и архитектурно-художественных качеств. Неширокие линейные пространства (улицы) здесь четко ограничены по красной линии мелкомасштабной застройкой (небольшими двух-трехэтажными жилыми и общественными зданиями с длиной по фасадам 8-30 метров, с высотой этажей 3-4 метра, в стиле классицизма или эклектики, преимущественно оштукатуренные и окрашенные в светлые тона), заборами [2]. Здесь есть четкое деление на общественные и частные пространства. Под стать такой планировочной регулярности и благоустройство – прямые тротуары и линейные посадки деревьев. Площади также имеют чётко ограниченный периметр – но при том не только планировочный, а и пространственный; они четко «обрамлены» зданиями, которые преимущественно расположены с минимумом разрывов, в основном «сплошной фасадою», высотные же доминанты (а это, как правило, культовые здания) на них занимают в основном островное расположение, что дополнительно акцентирует их главенствование в системе художественных и образных смыслов города. Сомасштабность с человеком пространств рядовой застройки, её классицистическое единство в мелком, фрагментарном разнообразии, логично сочетающиеся с единичными общественно значимыми доминантными пространствами, имеющими крупный масштаб, – суть архитектурной среды традиционных исторических городов региона [3‒5].
Для современного общества образ исторических городов как раз связан с городами обозначенного типа [6]. Однако, как показали натурные экспресс-обследования, практически половина городов региона как в своих центральных частях, так и в городских подцентрах имеют совершенно иную архитектурную среду. Это среда третьей «волны» развития городов региона, которые ужé можно назвать историческими промышленными городами.
Итак, третья «волна» образования городов была связана с развитием промышленности. Новые технологии, новая организация производства и труда и, как следствие, новое устройство общества вызвали к жизни новую архитектуру, новые типы архитектурных комплексов, новые способы организации пространств промышленных поселений, появление новых архитектурных образов.
Процесс административной институализации промышленных городов в регионе растянулся практически на 80 лет. Но процесс формирования их специфической архитектурной среды практически завершился к началу ХХ столетия. Текстильная фабрика с её огромными для того времени зданиями стала крупным пятном застройки не только в городах, но и в сёлах, деревнях. Она послужила не только градообразующим, но градоформирующим началом для совершенно новых поселений [7, 8].
Машинная текстильная фабрика широко стала распространяться по региону во второй половине XIX века. Вместе с ней начала постепенно возникать и целостная система социального обслуживания трудящихся (общежития – рабочие казармы, больницы, школы, клубы – народные дома, богадельни, парки, спортивные сооружения и т. п.). Долгое время промышленные населенные пункты не получали статус городов. Одним из первых городов, получившим свой статус именно в индустриальную эпоху, стал Павловский Посад (1861 г.), затем – Иваново-Вознесенск (1871 г.), и лишь в феврале 1917 г. – Орехово-Зуево. Остальные промышленные села и посёлки статус городов получили уже после социалистической революции 1917 г.
Исторические промышленные города региона можно четко распределить по характеру их возникновения:
- тип – это те губернские и уездные города, которые получили интенсивное развитие промышленности либо на окраинах (в новом типе их территорий – промышленных районах), как, например, в Шуе, Костроме или Ногинске, либо за городской чертой (в близрасположенных деревнях или новых промышленно-селитебных образованиях, вошедших позднее в их состав), как, например, в Кинешме, Ярославле, Коврове или том же Ногинске.
- тип – это бывшие сёла или деревни, на окраинах которых появлялось крупное промышленное предприятие, как, например, в Тейкове, Вичуге, Юже, Середе (ныне г. Фурманов), Раменском, Куровском и др.
- тип – это совершенно новые поселения, основанные «в чистом поле», как, например, Собинка, Камешково, Кольчугино.
Новые функционально целостные промышленно-селитебные образования ядром своей как функциональной, так и архитектурно-пространственной структуры имели промышленные предприятия.
Их застройка формировалась зданиями нового (на тот период времени) типа, отличающимися даже от крупных общественных зданий городов. Это были куда более крупные строения. Три, четыре, а иногда и пять этажей высотой, каждый из которых по 4,5‒5,5 метра, длиной до 100, а иногда и до 250 метров – такие габариты объёмной массы фабричных корпусов были сопоставимы только с крупностью доходных домов Санкт-Петербурга. В провинции даже общественные здания строились двухэтажными. Трёхэтажные постройки были редкостью. И, как правило, таких фабричных корпусов в комплексе было два-три, а на крупных предприятиях (как, например, на Никольской мануфактуре Морозовых в нынешнем Орехово-Зуеве) их число превышало 10 (рис. 2).
Рис. 2. Орехово-Зуево. Мануфактура Морозовых на берегу Клязьмы
Fig. 2. Orekhovo-Zuyevo. The Morozov manufactory on the banks of the Klyazma River
Особенно ярко такой контраст ощущался в сёлах и деревнях, где эти гиганты смотрелись по сравнению с одноэтажной деревянной крестьянской застройкой просто какими-то «сюрреалистическими монстрами» постоянно «извергающими из своего чрева» пар, дым и стук работающих станков (рис. 3).
Рис. 3. Село Родники Ивановской области (ныне город). Мануфактура Красильщиковых. Вид с фабричного озера
Fig. 3. The village of Rodniki in the Ivanovo region (now a city). The Dyer’s manufactory. View from the factory lake
Но как было сказано выше, фабричные комплексы быстро обрастали зданиями жилищной сферы [9]. И это были не только малоэтажные деревянные постройки, но и крупные, подобно фабричным, многоэтажные общежития – так называемые «рабочие казармы». Также трех-четырехэтажные, также протяженные – эти жилые здания явно отличались от рядовых жилых построек традиционных городов своей крупностью [10] (рис. 4).
Рис. 4. Кохма Ивановской области. Рабочие казармы с театром мануфактуры Ямановских
Fig. 4. Kohma of the Ivanovo region. Workers’ barracks with the Yamanovsky Manufactory theater
Но не только габариты зданий были непривычными для того времени. Модуль фасадов фабричных корпусов с большими окнами – шириной 2-3 метра, высотой 3-4 метра, становящееся всё чётче к рубежу XIX-ХХ веков преобладание ширины окна над простенком (и как следствие – площади стекла над площадью конструктивного материала) поддерживали впечатление крупности и мощи новых комплексов как отражений нового способа производства и нового устройства жизни.
Архитектурно-художественная составляющая тоже была относительно нова: здания фабрик строились по английской традиции из красного лицевого кирпича и не белились (как это часто практиковалось в дореформенной России). Громады многоэтажных зданий получали тёмный цвет, что также формировало специфический не только архитектурно-композиционный, но и цветовой облик промышленно-селитебной застройки [11] (рис. 5).
Рис. 5. Сравнение модулей фасадов зданий исторической промышленно-селитебной застройки и застройки традиционных исторических городов
Fig. 5. Comparison of building facade modules of historical industrial and residential buildings and buildings of traditional historical cities
Но не менее важной составной частью специфического образа стала и пространственно-планировочная организация рассматриваемых районов [12].
В отличие от четко регламентированных приёмов размещения зданий по отношению к красным линиям в традиционных исторических городах, в промышленных поселениях отсутствие таковых вызвало к жизни возникновение новых типов планировок как промышленных, так и жилых комплексов. И если на фабриках эволюция проходила под трендом уплотнения, соединения отдельных корпусов вместе путем переходов и вставок в своеобразную «ковровую» застройку и даже формирования дворов-колодцев (по аналогии с петербургскими дворами-колодцами многоэтажных жилых зданий), то в жилой застройке постепенно выкристаллизовывались те планировочные приёмы, которые опередили на более чем полвека теоретические разработки апологетов современной архитектуры.
Ещё в третьей четверти XIX столетия в архитектурных комплексах рабочих казарм были реализованы принципы свободной застройки жилых территорий по типу современных микрорайонов – строчная, групповая (рис. 6).
Рис. 6. Ярославль. Комплекс рабочих казарм – строчная застройка вдоль улицы, ведущей к Ярославской большой мануфактуре [13]
Fig. 6. Yaroslavl. The workers’ barracks complex is a low–rise building along the street leading to the Yaroslavl Large Manufactory [13]
Их типовые здания (линейные, Т-, Н-образные в плане) располагались среди озеленённых пространств, образуя общественные, свободные для доступа дворы без заборов. Такая планировочная структура обеспечивала и своеобразный образ универсального всепроникающего пространства, общего и равнозначного для всех проживающих на этой территории (рис. 7).
Рис. 7. Карабаново Владимирской области. Комплекс рабочих казарм фабрики Барановых (выделены красным цветом)
Fig. 7. Karabanovo, Vladimir region. The complex of workers’ barracks of the Baranov factory (highlighted in red)
Решённые в аналогичной фабричной художественной манере (из красного кирпича, с крупным модулем фасадов) они вместе с архитектурными комплексами предприятий представляли собой единое образное целое, которое принципиально отличалось от городской застройки губернских и уездных центров.
Вместе с тем, это был не единственный тип жилой застройки промышленных поселений. Другой – явно малоэтажный, в основном из деревянных материалов, выполненный по типовым проектам и предназначавшийся либо для рабочих семей (небольшие дома по типу деревенских изб), либо для высококвалифицированных сотрудников – инженеров, врачей, управляющих и т. п. (одно-двухэтажные коттеджи на одну или две семьи) [14]. Последние часто располагались с отступом от красной линии застройки, с обильным озеленением придомовой территории, в том числе стыковой зоны между домом и тротуаром. Каждый из таких домов имел свой приусадебный участок, а фронт красной линии улицы редко формировался фасадами домов (всё больше легкими ограждениями), что уже само по себе являлось предвестником теоретической модели организации жилых кварталов городов-садов (рис. 8).
Рис. 8. Ногинск Московской области. Коттеджи в квартале ИТР Богородско-Глуховской мануфактуры
Fig. 8. Noginsk, Moscow region. Cottages in the ITR quarter Bogorodsko-Glukhovskaya manufactory
Специфический образ исторического промышленного поселения ощущается и при его восприятии извне, с дальних перспектив. Его своеобразный силуэт формируется трубами, водонапорными башнями, другим технологическим оборудованием [15]. Привычные для исторического русского города доминанты в виде храмов и колоколен уже не являются солирующими над рядовой малоэтажной застройкой, а получают роль если не второго порядка, то по крайней мере находящегося наравне с промышленными объектами (рис. 9, 10).
Рис. 9. Село Глухово. Богородско-Глуховская мануфактура. Ныне г. Ногинск Московской области
Fig. 9. Glukhovo village. Bogorodsko-Glukhovskaya manufactory. Now the city of Noginsk, Moscow region
Рис. 10. Село Тезино, ныне г. Вичуга Ивановской области. Застройка вокруг фабрики Разорёновых и Кокоревых
Fig. 10. The village of Tezino, now Vichuga, Ivanovo region. Construction around the Razorenov and Kokorev factories
Выводы. Архитектурные образы исторических промышленных городов Центральной России специфичны, отличаются от образов «традиционных» исторических городов (Владимира, Суздаля, Ростова, Костромы и др.). Конечно же, они обусловлены совершенно иными принципами организации архитектурно-пространственной среды промышленно-селитебной застройки. Если для центральных частей традиционных исторических городов характерны уличные или площадные пространства, сформированные периметральной мелкомасштабной застройкой в классицистических традициях (классицизм, эклектика), с доминированием изящных силуэтов храмов и колоколен, с четко сформулированными регулярными ансамблями, то районы застройки промышленных предприятий и объектов их социальной инфраструктуры ядром своей среды имеют крупные по габаритам и по архитектурному масштабу здания, преимущественно с краснокирпичным решением фасадов, сформированные в целостные комплексы с утилитарно сложившейся планировкой, открытыми пространствами со свободной застройкой, с доминантами технологических объемов, «отрицающие» красные линии и регулярность, а окружением этих ядер служат целостные озеленённые массивы индивидуальных домов и коттеджей.
Нельзя не отметить того факта, что и крупные традиционные исторические города, получившие промышленное развитие на рубеже XIХ-ХХ веков, тоже имеют на своей территории районы исторической промышленно-селитебной застройки со своим специфическим обликом. Конечно же, расположение таких районов на городской периферии не смогло оказать влияния на трансформацию образа таких городов, их архитектурный образ по-прежнему формируется центральными историческими кварталами. Но архитектурный образ их исторических промышленных районов иной; эти города удачно получили богатое разнообразие исторической архитектурной среды, которое ещё предстоит осознать.
А для многих малых исторических промышленных городов, несмотря на присутствие в них кварталов и доминант традиционной доиндустриальной застройки, всё-таки превалируют художественные образы, сформированные пространствами и комплексами исторической промышленно-селитебной застройки.
Сейчас, с приходом осознания ценности и качества индустриального архитектурного наследия, в городах региона всё активнее начинает проявляться новая художественная тема, связанная с раскрытием художественного образа исторической промышленно-селитебной застройки. Она, несомненно, добавит красок в палитру архитектурной идентичности исторических городов Центральной России.
About the authors
Aleksandr V. Snitko
Ivanovo State Polytechnic University
Author for correspondence.
Email: snitko-av@mail.ru
Doctor of Architecture, Associate Рrofessor, Рrofessor of the Architecture and Urban Studies Chair
Russian Federation, 153000, Ivanovo, Sheremetevsky pr., 21References
- Kirichenko E.I., Nashchokina M.V. Russkoe gradostroitel’noe iskusstvo. Gradostroitel’stvo Rossii serediny XIX – nachala XX veka [Russian urban planning art. Urban planning of Russia in the middle of the XIX – early XX century]. Moscow, Progress-Tradition, 2001. 340 p.
- Yudina A.V. The architectural appearance of the cities of Central Russia in the aspect of geometric forms. Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 2015, no. 4, pp. 354‒360. (in Russian)
- Glazychev V. L., Gutnov A.E. Mir arhitektury: Lico goroda [The world of architecture: The face of the city]. Moscow, The Young Guard, 1990. 352 p.
- Lisitsyna A.V. Small and medium towns of Nizhegorodskoe Povolzhie Region: in search of the lost harmony. Part 1. Gradostroitel’stvo i arhitektura [Urban Construction and Architecture], 2023, vol. 13, no. 4, pp. 106–114. (in Russian) doi: 10.17673/Vestnik.2023.04.14
- Lisitsyna A.V. Small and medium towns of Nizhegorodskoe Povolzhie region: in search of the lost harmony. Part 2. Gradostroitel’stvo i arhitektura [Urban Construction and Architecture], 2024, vol. 14, no. 2, pp. 75–83. (in Russian) doi: 10.17673/Vestnik.2024.02.11
- Lisitsyna A.V. Compositional characteristics of the historical and architectural environment (on the example of the city of Kineshma). Velikie reki – 2013. Trudy kongressa 15-go Mezhdunarodnogo nauchno-promyshlennogo foruma. V 3-h tomah. [Great Rivers – 2013. Proceedings of the Congress of the 15th International Scientific and Industrial Forum. In 3 volumes]. Nizhniy Novgorod, NNGASU, 2014, pp. 100‒103. (In Russian).
- Kirichenko E.I. Russkoe gradostroitel’noe iskusstvo. Gradostroitel’stvo Rossii serediny XIX – nachala XX veka. Kniga vtoraya [Russian urban planning art. Urban planning of Russia in the middle of the XIX – early XX century. Book Two]. Moscow, Progress-Tradition, 2003. 560 p.
- Samogorov V.A. Architecture of the Workers’ Settlement of the Kuibyshev Metallurgical Plant in the 1950s. Gradostroitel’stvo i arhitektura [Urban Construction and Architecture], 2022, vol. 12, no. 4, pp. 172–181. (in Russian) doi: 10.17673/Vestnik.2022.04.21
- Baldin K. E. Socio-cultural infrastructure of industrial settlements of the Vladimir and Kostroma provinces. Gorodskie issledovaniya i praktiki [Urban research and practice], vol. 6, no. 1, pp. 23‒36. (in Russian) doi: 10.17323/usp61202123-36
- Cherkasov G.N. Industry – settlement: the evolution of urban planning concepts. Izvestiya vuzov. Stroitel’stvo [News of universities. Construction], 1995, no. 3, pp. 102‒111. (in Russian)
- Svod pamyatnikov arhitektury i monumental’nogo iskusstva Rossii. Ivanovskaya oblast’: v 3 ch. Ch. 1. [A set of monuments of architecture and monumental art of Russia. Ivanova region: at 3 a.m. p.m. 1]. Moscow, Nauka, 1998. 524 p.
- Kudryavtseva T. P. Spatial composition of Ivanovo-Voznesensk at the end of the XIX century. Arhitekturnoe nasledstvo [Architectural heritage], 1984, iss. 32, pp. 73‒79. (in Russian)
- Yaroslavskaya bol’shaya manufaktura: stranicy istorii kombinata «Kras-nyj Perekop». Fotoal’bom [Yaroslavl Big Manufactory: pages of the history of the Krasny Perekop Combine. A photo album]. Yaroslavl, Nuance, 2007. 221 p.
- Stepanov A.V. The villages of Yuzha and Bonyachki: a factory single-industry town in late Imperial Russia. Gorodskie issledovaniya i praktiki [Urban research and practice]. vol. 6, no. 1, pp. 37‒49. (in Russian) doi: 10.17323/usp61202137-49
- Golubev N.A. Factory pipe as the capital letter of the Ivanovo text. Interaction of landscapes. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Kostroma State University], 2013, no. 3, pp. 113‒115. (in Russian)
Supplementary files