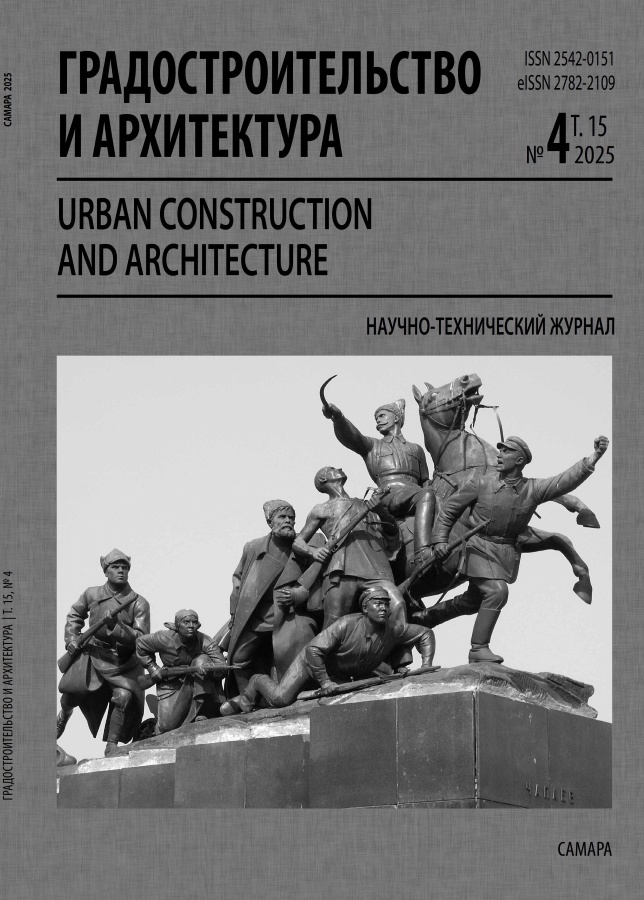Городская среда и безопасность в средовой криминологии. Обзор источников и современные тенденции
- Авторы: Полянцева Е.Р.1
-
Учреждения:
- Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова
- Выпуск: Том 15, № 4 (2025)
- Страницы: 127-135
- Раздел: АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ТВОРЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2542-0151/article/view/676816
- DOI: https://doi.org/10.17673/Vestnik.2025.04.17
- ID: 676816
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема криминогенности городской среды, связь криминальных происшествий с особенностями планировки местности и отдельными градостроительными и архитектурными факторами, такими как трассировка улиц, устройство транспортных и пешеходных путей, места расположения входов в здания. В качестве основания для исследования выступает средовая криминология, появившаяся как ветвь общей криминологии. Рассмотрено ее влияние на архитектуру и градостроительство, показаны наиболее важные принципы, использование их в последующих исследованиях и влияние на планировку современных городов. Изучены последние зарубежные примеры исследований в данной области. Описано современное состояние средовой криминологии и перспективные направления развития.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Безопасность является главной характеристикой среды обитания человека, а значит, и городской среды как продукта человеческой деятельности. Защита архитектурного окружения и людей от преступных посягательств является одним из важнейших требований, которые ставит перед нами современность. Назрела проблема защищенности человека в открытых пространствах города, в том числе в связи с возросшими террористическими опасностями, и становится очевидным, что вопросы противодействия криминалу необходимо ставить еще на этапе проектирования.
Основной вопрос заключается в том, может ли городская среда и отдельные ее элементы провоцировать преступников, увеличивая или сокращая количество преступлений?
Данное исследование касается городской среды и тех ее качеств, которые могут провоцировать или способствовать совершению преступлений, начиная от вандализма и заканчивая террористическими актами. Целью исследования является экскурс в историю средовой криминологии как науки, отыскивающей связи между преступностью и городским планированием и зонированием городских территорий. В первую очередь будет рассмотрено начало средовой криминологии, ее основные принципы и теоретические положения. В дальнейшем, развитие и эволюция этих принципов, их применение в градостроительстве настоящего времени при разработке новых районов и при реконструкции существующей городской среды. Будут изучены новейшие варианты использования технологий анализа городской среды и варианты их использования на практике.
Теоретические положения в средовой криминологии за рубежом
1. «Средовая криминология», П. и П. Брэнтингемы
Первый и основной труд канадских криминологов Патрисии и Пола Брэнтингемов «Средовая криминология», впервые вышедший в 1971 г., описывает город, а также то, как воспринимают его преступники и жертвы: и у тех, и у других есть излюбленные пути передвижения, точки пересечения которых порождают преступные акты. Исследователи указывают, что преступления происходят там, где большое количество потенциальных правонарушителей в ходе рутинной деятельности объединяются с большим количеством возможных жертв и притягивающих их мест [1].
Средовая криминология основывается на следующем:
- Окружающая городская среда влияет на совершение преступления.
- Распределение преступности во времени и пространстве не является случайным, и преступное поведение зависит от ситуативных факторов.
- Работа с этими факторами помогает снизить преступность.
Дальнейшие исследования П. и П. Брэнтингемов также касались криминогенности открытых общественных пространств и отдельных объектов. В работе «Генераторы преступности и места, привлекающие преступников» [2, с. 5–26] показано, как функциональное зонирование города и пешеходные и транспортные связи внутри него влияют на причины совершения преступлений. Здесь впервые указана важность сбора данных и организации баз данных, поскольку их аналитика помогает понять, как функциональное зонирование города и пешеходные и транспортные связи между разными зонами влияют на причины совершения преступлений.
В урбанизированной среде есть генераторы преступлений [2], т. е. объекты, привлекающие большое количество людей по причинам, для жертв не связанным с криминальной мотивацией или с каким-либо конкретным преступлением, которое они могут в конечном итоге совершить. Примерами могут служить центры городов, открытые площади, торговые центры, развлекательные районы, места скопления офисов или стадионы. Аттракторы, или места, привлекающие внимание преступников, в отличие от генераторов, – это определенные участки, которые создают хорошо известные обеим сторонам (преступнику и жертве) криминальные возможности. В качестве примеров можно привести районы баров; места, где занимаются проституцией; рынки; крупные торговые центры, особенно те, которые расположены вблизи основных остановок общественного транспорта; большие безнадзорные парковки в деловых или коммерческих районах. Ключевыми характеристиками упомянутых объектов и территорий являются признаки безнадзорности, неухоженности, в том числе заброшенные и руинированные участки и сооружения, где в темное время суток отсутствует освещение, районы с малой посещаемостью в определенные часы и невозможностью выделить опасных участников толпы при большой заполненности в другие часы. Вышеперечисленное делает эти пространства внутри городской среды своего рода генераторами страха для мирного населения.
В частности, исследователи указывают на важность работы с городской средой, изучая ее составляющие. Внутри нее выделяются узловые точки людских маршрутов, пути передвижения, границы и функции отдельных городских зон – все они нуждаются в изучении с точки зрения криминальной статистики, и зачастую решение проблем кроется в перепланировке криминогенных районов, на что указывают исследователи, говоря о важности «разработки эмпирического инструмента для оценки криминогенного воздействия решений по планированию». По их мнению, такой инструмент позволил бы полиции и градостроителям оценить число обращений в полицию (и, как следствие, потребность в увеличении персонала и ресурсов полиции и системы уголовного правосудия), что связано со всеми видами планировочных решений: изменения в компаниях, работающих по определенному адресу; перепланировка отдельных участков; крупные новые проекты, такие как строительство открытых рекреационных и других городских пространств; изменение маршрутов движения и пешеходных путей, ведущих к остановкам транспорта; перемещение учреждений, таких как больницы или школы, если они находятся в неблагоприятной с точки зрения контекста среде, и т. д.
Теоретические положения, выдвинутые авторами, были позднее воплощены в ряде руководств по проектированию зданий и открытых общественных пространств внутри городов, например в «Справочном руководстве по противодействию возможным террористическим атакам против зданий» и в «Указаниях по проектированию участков зданий и генеральных планов». В первом руководстве работа с объектом строится на основании оценки его расположения. Возможные риски террористических атак вытекают не только из уязвимости и привлекательности для террористов данного типа зданий, но и из его размещения относительно земельного участка, из криминогенности района в целом, из расположения пешеходных и транспортных путей и их трассировки, из условий наблюдения [3, табл. 1–5]. Во втором руководстве описываются основные проблемы, связанные с защитой генерального плана, и даются принципы обеспечения безопасности; оно посвящено процессу оценки рисков в отношении конкретного места, выбору соответствующих средств. Показано, что и отдельное здание, и городская среда в целом иерархичны, в них есть публичные и приватные зоны, и выбирать средства защиты необходимо исходя из окружающего контекста [4, с. 4–5].
2. «Городское планирование и экологическая криминология: к новой перспективе более безопасных городов», П. Козенс
В своей статье австралийский преподаватель и ученый, изучающий проблемы городской среды, П. Козенс подтверждает положения, выдвинутые более ранними исследователями, и попытки изменить и пересмотреть их, предпринятые позднее [5, с. 481–508]. Знания основ теории обеспечения безопасности само по себе недостаточно и нецелесообразно применять их без понимания пространственной и временной динамики непосредственных и локальных проблем, связанных с криминальными происшествиями; с этой целью начали создаваться карты, показывающие распределение уличных преступлений в том или ином населенном пункте.
П. Козенс сделал следующий вывод: окружающая среда влияет на маршруты, по которым люди добираются до мест, выбранных в качестве точек для повседневной деятельности (школа, работа, магазины), а значит, необходимо защищать их, исходя в каждом случае из индивидуальных черт участка. Такой подход был назван ситуативным предотвращением преступности и основывался на увеличении усилий по достижению преступниками цели (усиление защитных свойств среды), увеличении рисков (улучшение освещения и наблюдения), уменьшении вознаграждения (изменение цели преступника), сокращении провокаций со стороны окружающей среды (поддержка городской среды в ухоженном состоянии) и устранении оправданий для преступника (установка правил, повышение информированности, поддержка законного образа действий в той или иной среде). В практике проектирования, как указал П.Козенс, сейчас есть три ключевые проблемы: проницаемые конфигурации улиц, многофункциональная застройка и высокая плотность застройки.
3. Зарубежные исследования последних лет
Зарубежные исследования последних лет показывают, что проницаемость увеличивает возможности для потенциальных нарушителей, интенсивное пешеходное и автомобильное движение связано с более высоким уровнем виктимизации, а форма транспортных путей влияет на уровень преступности. Изолированные тупики наименее опасны с точки зрения совершения противоправных деяний, а перекрёстки в форме сетки – наоборот. Кроме того, было обнаружено, что угловые дома, которые чаще встречаются в районах с регулярной планировкой, значительно более уязвимы для взлома [6, с. 40–42]. Та же двойственность свойственна и остальным вопросам: высокая плотность застройки способствует, с одной стороны, более быстрому доступу к важным местам, которые благодаря ей находятся в нескольких минутах ходьбы, с другой – увеличивает число потенциальных конфликтов; смешанное землепользование увеличивает посещаемость и в целом улучшает жизнеспособность городской среды, но в то же время увеличивает число конфликтов между плохо сочетающимися друг с другом видами деятельности. Но хотя криминологические данные свидетельствуют о том, что проницаемость, смешанное землепользование и высокая плотность застройки могут повышать вероятность совершения преступлений, это не значит, что проектировщики должны отказаться от них [7].
Помимо застройки ‒ жилой, общественной или промышленной, внутри города существуют и зеленые пространства, в основном с общественной функцией – то есть возможные опасные точки притяжения людей. В работе Ш. Ходжен и К. Вушке изучена их специфика: часть более ранних исследований указывает на то, что зеленые зоны реже являются генераторами преступлений в силу меньшей посещаемости, другие исследования указывают, напротив, на их большую криминогенность [8, с. 648–652]. В заключение авторы подчеркивают, что частота совершения противоправных деяний на территориях городских парков, скверов и садов зависит и от количества прохожих, и от насыщенности различными функциями, т. е. от присутствия генераторов активности, а также от включенности зеленого пространства в городскую структуру: природные зоны в силу большей площади соответственно менее криминогенны, чем небольшие парки с высокой посещаемостью. На их территориях проявляется специализация нескольких категорий преступлений: так, показатели общественных происшествий и посягательств на личность и имущество значительно превышены.
Вопрос географического сопоставления, т. е. учета контекста в градостроительном проектировании, также тесно связан с проблемами защиты от криминала. Он был исследован в статье «Географическое соседство» ученых П. Козенса и Т. Лав [9]. Авторы рассматривают непосредственные, локальные, отдалённые и удалённые факторы окружающей среды, влияющие на преступность: это отдельные городские объекты, которые провоцируют нарушителей, т. е. являются генераторами:
- непосредственные факторы сами являются генераторами преступности (например покинутые и заброшенные здания);
- локальные факторы притягивают будущих преступников в данный квартал или участок (например круглосуточные бары, алкогольные магазины);
- отдаленные факторы влияют на вероятность криминальных событий на расстоянии, в рамках района или смежных районов (например ломбарды);
- удаленные факторы влияют на преступность вне зависимости от места расположения (потенциальные объекты преступлений, например банковские хранилища).
Отдельную область изучения, касающуюся средовой криминологии, представляет собой топология преступления. Она также сосредоточена на месте: становится важна привязка события к месту его совершения. Картографирование и топологическое отображение позволяют данным раскрываться более полно [6; 10]. При этом имеет значение планировка общественных городских пространств: непреодолимые барьеры (железные дороги, реки, трассы непрерывного движения) делят город на кластеры, при этом преступления притягиваются к путям передвижения внутри и вдоль границ этих кластеров, и на повторяемость отдельных типов преступлений влияет наличие физических барьеров – криминогенность места зависит от его доступности.
4. Отечественные исследования
Современные российские исследования криминогенности городской среды касаются таких направлений, как обоснованность принимаемых правовых мер, выявление опасных качеств городской застройки, взаимосвязь поведения человека и окружающей среды. Основная часть источников затрагивает вопрос учета принципов средовой криминологии в нормативных документах, и практически все российские исследователи приходят к выводу о важности использования архитектурных решений, способствующих снижению количества правонарушений, например мало- и среднеэтажной застройки и квартальной планировки дворов, что позволит лучше их контролировать и наблюдать за ними [11, с. 97; 12, с. 49]. В силу не такой большой изученности зарубежного опыта в интересующей нас области важны результаты его применения на практике, для того чтобы выделить наиболее успешные [13, с. 98–99]. Также среди отечественных исследований присутствуют попытки разобраться в теоретико-исторических предпосылках развития идей средовой безопасности в российском праве. Данному вопросу посвящены статьи И.Г. Пирожковой [14, с. 99‒101; 6, с. 336]. В них указывается, что необходима совместная работа архитекторов и специалистов в области права. Описывается использование современных способов исследования (например интерактивных карт), для того чтобы конкретизировать факторы снижения криминогенности, преобразующие среду человека в целом, и учесть их в будущей работе по созданию практико-ориентированных норм градостроительного законодательства.
Криминологические исследования К.В. Корсакова [15, с. 3] представляют собой попытку применить такие принципы обеспечения безопасности городской среды, как территориальность, контроль доступа, естественное наблюдение, визуальный облик и пространственное влияние к российской городской среде: она нуждается в криминологической экспертизе городского пространства, по крайней мере в новых и реконструируемых районах крупных городов [16, с. 92]. Помимо них, он указывает на важность зонирования, при этом полуприватные пространства (жилые дворы) окажутся более защищенными, а в общественных зонах, таких как улицы и площади, защитные меры будут усилены, что подтверждается законодательством, касающимся безопасности мест массового сбора людей [15, с. 56].
Современные инструменты исследований криминала в городской среде совершенствуются: если раньше проблема воспринимаемой безопасности и страха перед преступностью изучалась при помощи социологических исследований, то сейчас инструменты Google Street View и изучение определенных областей при помощи анализа уличными камерами приводят к более полному и достоверному результату [6]. Они позволяют получать изображения, которые относят тот или иной «фрагмент» или снимок к категории «опасных» или «безопасных» в зависимости от их особенностей – проницаемости, открытости, освещенности и возможностей для наблюдения и надзора (на примере иллюстрации из статьи [17, илл. 4] можно увидеть, каким образом аналитическая программа считывает объекты) (см. рисунок).
Демонстрация особенностей, обнаруженных с помощью API Google Cloud Vision на изображении уличного вида [17]
Demonstrate features discovered using the Google Cloud Vision API in the image of the street view [17]
Геоинформационные технологии и картографирование [18] позволяют понять пространственное и временное распределение преступлений; при этом карта города или отдельного района моделируется, в частности, для изучения и идентификации мест концентрации преступности, т. е. горячих точек. Другим явлением, выявленным в ходе анализа, стала повторная виктимизация. Было отмечено, что некоторые объекты или люди имеют особую уязвимость и превращаются в мишень для нападений несколько раз. Контроль над горячими точками является особенно эффективным способом профилактики преступности [19, с. 20–21]. Другой вариант анализа – географическое профилирование, при котором наносят на карту маршруты и места притяжения, описывая пространственное поведение отдельного преступника. Изучая его пространственное распределение правонарушений, можно отыскать особенно опасные области [3, с. 279–292].
Помимо развивающихся геоинформационных систем и их роли в изучении виктимизации городских территорий, важную роль играет прогнозирование криминальных происшествий при помощи нейросетей. Они используются для анализа различных типов данных, включая текст, изображения, аудио и социальные сети. Их алгоритмы способны обнаруживать закономерности и аномалии, которые могут указывать на преступную деятельность. Одной из их сильных сторон является способность обрабатывать большой объем сведений, например алгоритмы анализа изображений могут находить угрожающие объекты и предсказывать вероятность совершения преступления [17; 20].
Аналитические способности искусственного интеллекта, благодаря которым становится возможным собирать и сопоставлять значительное количество сведений, могут быть направлены на следующие проблемы:
- Проблема анализа при проектировании (реконструкции, реновации, рефункционализации) городских районов и генеральных планов отдельных зданий: изучение существующих негативных черт участка, сложившихся маршрутов передвижения, визуальной проницаемости пространства и расположения точек наблюдения и др. [21; 22].
- Проблема анализа данных о перемещении людей внутри города может предсказать выбор маршрутов преступниками; помимо этого, прогностические способности нейросетей и программного обеспечения позволяют выявить наиболее привлекательные для них объекты и места и заранее обезопасить их, контролируя доступ и улучшая наблюдение за ними.
- Проблема моделирования преступлений и, в частности, террористических актов, дает возможность правильного выбора форм и материалов: зная заранее, как поведет себя та или иная структура, будет ли та или иная конфигурация пространства аккумулировать или рассеивать взрывную волну, можно разместить экранирующие стены или барьеры, обезопасив критически важные точки.
Рассмотрение связанной со средовой криминологией литературы позволяет понять важность зонирования городской среды в зависимости от желаемого уровня доступа, закономерно подтверждая то, что районы с наибольшим количеством и плотностью населения, а также с наибольшей пропускной способностью являются местами большего числа преступлений, и архитекторами-градостроителями может проводиться работа по декриминализации данных районов.
Строгое деление районов на жилые, промышленные и общественно-деловые устаревает, и разнообразие мест отдыха и приложения труда помогает повысить посещаемость района. Но при этом необходимо располагать общедоступные места отдыха на публичных путях передвижения и проектировать более изолированную и ориентированную на большую приватность жилую среду. Проблема жилой застройки заключается зачастую не в плотности, а в конфликте между соприкосновением публичных и приватных зон, местами тихого отдыха и массового посещения. Еще одна проблема – недостаточная структурированность, когда внутри района сложно выделить пути передвижения и зоны разного уровня доступа; при этом защита и пространственное разделение необязательно должны быть строгими в физическом плане – непрямые методы ограничения (использование рельефа и озеленения) также влияют на восприятие.
Зонирование помогает направить человеческие потоки, защитив от них наиболее уязвимые места или сделав их менее проницаемыми. Но в городской структуре всегда будут сохраняться общедоступные публичные пространства – они важны, поскольку влияют на создание внешнего облика города; они же создают впечатление об открытости и притягательности среды. Их безопасность зависит от образцов циркуляции человеческих потоков, от вместимости и их «пропускной способности», а также способности разделять пешеходные и транспортные потоки – все эти особенности их структуры влияют на защиту, в том числе от терроризма [23; 24]. В настоящее время большая часть исследований безопасности городской среды использует такие инструменты, как карты преступности, инструменты наблюдения за городскими улицами, в том числе в режиме реального времени, специализированные программы, отслеживающие перемещения людей. Помимо фактических данных о состоянии защищенности города и отдельных объектов, вычисляемых данными средствами, имеет значение их восприятие, поскольку страх перед преступностью заставляет людей предпочитать те или иные маршруты, менять время передвижения и т. д. Для людей воспринимаемая безопасность места складывается из следующих особенностей:
- ясность (просматриваемость) маршрута;
- освещенность (видимость в темное время суток);
- количество путей передвижения или альтернативных маршрутов;
- отсутствие «темных пятен» (непросматриваемых мест);
- отсутствие индикаторов преступности (мусор, заброшенные здания).
Свойства окружающей среды, связанные с боязнью криминальных происшествий, можно поделить на три категории: видимость, признаки беспорядка физического характера и признаки беспорядка социального характера. В отношении городской планировки важны первые два. Видимость можно привязать как к освещенности в темное время суток, так и к проницаемости, когда человек может видеть и предугадывать цель своего маршрута, соответственно эти качества среды нужно повышать, признаки беспорядка – граффити, заброшенные объекты, лиминальные пространства, такие как длинные узкие переходы, по возможности устранять.
Заключение
Взаимодействие между криминологами и градостроителями важно, поскольку позволяет лучше понять проблемы преступности, привязанные к среде, и избежать их при проектировании и реконструкции новых городских районов. Архитекторам необходимо изучать новые формы правонарушений и выявлять те особенности урбанизированной среды, которые провоцируют их или, наоборот, помогают защите. По мере анализа спровоцированной городскими условиями преступности все сильнее выявляется важность планировки путей передвижения, а также способность современной городской среды предоставить возможности для наблюдения за перемещением преступников. Помимо возможностей удаленного наблюдения, играет роль дифференциация пространства с разделением пешеходных и транспортных потоков, условия городского ландшафта и пространственной организации открытых общественных объектов, для которых необходимо обеспечить легкость восприятия и ориентирования и интегрировать средства защиты среды в их структуру. Такими средствами могут быть укрытия, искусственные преграды и препятствия для ограничения скорости, проектируемые при помощи ландшафтного дизайна; малые архитектурные формы, защищающие пешеходные пространства от атаки транспортными средствами, и другие.
Об авторах
Екатерина Романовна Полянцева
Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова
Автор, ответственный за переписку.
Email: notneb@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6514-4748
SPIN-код: 8920-6447
кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектурного проектирования
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23Список литературы
- Brantingham P.J., Brantingham P.L. Environmental Criminology. Beverly Hills: SAGE Publications. 1981. 264 р.
- Brantingham P.J., Brantingham P.L. Criminality of place: Crime generators and crime attractors // European Journal on Criminal Policy and Research. 1995. N. 3(3). P. 5–26.
- FEMA 426. Reference Manual To Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings. U.S. Department of Homeland Security. 2003. 420 p.
- FEMA 430. Guidance Against Potential Terrorist Attacks. Site and Urban Design for Security. U.S. Department of Homeland Security. 2007. 272 p.
- Cozens P., Babb C., Stefani D. Exploring and developing crime prevention through environmental design (CPTED) audits: an iterative process // Crime Prevention and Community Safety. 2022. N. 25(1). P. 1–19.
- Пирожкова И.Г. Концепт средовой безопасности: категориальный аппарат и современное состояние // Государственно-правовые исследования. 2020. № 3. С. 333–337.
- Dikiya J. Urban Crime Mapping: A Review // Urban Studies and Public Administration. 2021. N. 4(3). P. 32–45.
- Ceccato V., Ioannidis I. Introduction to the special issue “environmental criminology in crime prevention: theories for practice” // Security Journal. 2024. N. 37(3). P. 425–431.
- Ходжен Ш., Вушке К. Трава всегда зеленее: анализ концентрации и видов преступности в городских зеленых пространствах // Russian Journal of Economics and Law. 2023. Т. 17, № 3. С. 645–666. doi: 10.21202/2782-2923.2023.3.645-666.
- Andersen M. Environmental Criminology: Evolution, Theory, and Practice. London, Routlege. 2023. 61 p.
- 9. Cozens P., Love T. Geographical Juxtaposition: A New Direction in CPTED // Social Sciences. 2019. N. 8(9):252. 22 p.
- Verma Arvind, Lodha S.K. A Typological Representation of the Criminal Event // Western Criminology Review. 2002. N. 3(2).
- Каширина О.Н. Проблемы восприятия архитектурного направления криминологии отечественной правовой доктриной // Инновационная экономика и право. 2017. № 1 (6). С. 94–98.
- Морозова И.В., Голосов Д.А., Чуриков Д.С. Высотная застройка и преступность: к вопросу о влиянии архитектурной среды на криминогенную обстановку // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 8, № 1(15). С. 42–52.
- Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. Зарубежный опыт предупреждения преступлений и правонарушений в мегаполисах // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2022. Т. 13, № 1(47). С. 94–103. doi: 10.37973/KUI.2022.55.46.013.
- Пирожкова И.Г. Архитектурная криминология и средовая безопасность города: отражение в градостроительном праве и политике российской империи // Право и образование. 2019. № 12. С. 94–102.
- Корсаков К.В. Городское пространство в ракурсе уголовно-правовой науки // Вестник Уральского государственного университета путей сообщения. 2016. № 1(29). С. 86–93. doi: 10.20291/2079-0392-2016-1-86-93.
- Корсаков К.В. Kриминологическое исследование архитектурно-строительной и инфраструктурной среды современных городов (ориентиры, цели, зарубежный опыт и результаты) // Русский закон. 2022. Т. 75, № 1(182). С. 48–59. doi: 10.17803/1729-5920.2022.182.1.048-059.
- Solymosi R. and other. Using computational systematic social observation to identify environmental correlates of fear of crime // Crime Science. 2024. N. 13(1). 25 p. doi: 10.1186/s40163-024-00242-6.
- Щербина Е.В., Кузнецов И.В. Анализ плотности застройки на территориях крупных и крупнейших городов Поволжья с применением геоинформационных систем // Градостроительство и архитектура. 2024. Т. 14, № 2. С. 143–148. doi: 10.17673/Vestnik.2024.02.18.
- Connealy N. The Influence, Saliency, and Consistency of Environmental Crime Predictors: a Probability Score Matching Approach to Test What Makes a Hot Spot Hot // Justice Quarterly. 2022. N. 40(1). P. 1–24.
- 19. Johnson S. Identifying and preventing future forms of crimes using situational crime prevention // Security Journal. 2024. N. 37(3). P. 515–534.
- Mandalapu V., Elluri L., Roy N., Shariati A. Crime Prediction Using Machine Learning and Deep Learning: a Systematic Review and Future Directions // IEEE Access. 21 p. doi: 10.1109/ACCESS.2023.3286344.
- Ахмедова Е.А., Вавилонская Т.В. Принципы поэтапной реорганизации архитектурно-пространственной структуры городской среды на основе инновационных технологий // Градостроительство и архитектура. 2019. Т. 9, № 2. С. 68–79. doi: 10.17673/Vestnik.2019.02.10.
- Вальшин Р.М., Данилова Э.В. Методология инновационного градостроительного проектирования в дипломных проектах архитектурного факультета // Градостроительство и архитектура. 2017. Т. 7, № 1. С. 119‒129. DOI: 1017673/Vestnik.2017.01.21.
- Юнис А., Бакаева Н.В. Градостроительная методика оценки разрушения жилых территорий, пострадавших в результате боевых действий // Градостроительство и архитектура. 2020. Т. 10, № 4. С. 165–173. doi: 10.17673/Vestnik.2020.04.20.
- Юнис А. Градостроительная безопасность городских объектов, пострадавших в результате террористических атак // Градостроительство и архитектура. 2021. Т. 11, № 4. С. 156–163. doi: 10.17673/Vestnik.2021.04.19.
Дополнительные файлы