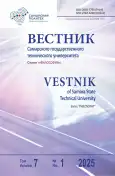Историки философии деборинской школы
- Авторы: Корсаков С.Н.1
-
Учреждения:
- Институт философии Российской академии наук
- Выпуск: Том 7, № 1 (2025)
- Страницы: 106-118
- Раздел: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692901
- ID: 692901
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлен панорамный обзор основных результатов, полученных в историко-философских исследованиях представителей школы академика А.М. Деборина (1881–1963). Основное в их историко-философских исследованиях – выявление диалектики в трудах классиков мировой философии. Акцент в ходе исследования делался не на системы, как было принято ранее, а на метод. Причем ставилась задача взять все ценное для разработки метода материалистической диалектики. Основное внимание историки философии деборинской школы уделяли философии Нового времени и немецкой классической философии. В настоящей статье рассматриваются положения наименее известных или совсем забытых представителях деборинской школы, занимавшихся историей философии. Среди тем их исследований – философские воззрения Декарта, Спинозы, Лейбница, Локка, Юма, французских материалистов, Канта, Фихте, Гегеля.
Ключевые слова
Полный текст
Деборинская школа – устойчивое понятие в историко-философской науке, используемое для характеристики группы философов, учеников и сотрудников академика Абрама Моисеевича Деборина (1881–1963), директора Института научной философии РАНИОН (1924–1929) и Института философии Коммунистической академии (1929–1931). Понятие деборинской школы возникло непосредственно в период ее активного функционирования, который хронологически можно обозначить как 1922–1930 гг. Причем оно употреблялось как приверженцами, так и противниками школы. Сами сторонники школы прямо называли себя деборинцами. Практически все они стали жертвами сталинских репрессий. Но поскольку они были марксистами, их научно-общественная реабилитация не была никому нужна и их исследования часто даже не упоминаются в нынешней литературе. Между тем можно без преувеличения сказать, что тематика, проблематика и текстологическая база историко-философских исследований, проводившихся на протяжении десятилетий, были сформированы философами деборинской школы. Утрачен был только специфический посыл, объединявший все эти исследования единой мыслью: историко-философское фундирование работ по материалистической диалектике. Это задача – наряду с изучением философских систем вычленить из философских учений диалектический метод и систематически изложить его развитие начиная с Античности, затем от Бэкона до Дидро, от Канта до Гегеля и Фейербаха.
В настоящей статье не ставится задача дать полную картину историко-философских исследований деборинской школы1. Мы не берем их работы по античной философии (этими сюжетами занимался Г.К. Баммель), не рассматривая всех ее представителей, работавших в области истории философии, а в отношении тех, кого рассматриваем, берем только их ведущую историко-философскую тему, хотя в ряде случаев мог быть и целый ряд дополнительных. В изучении истории философии деборинская школа получила много конкретных результатов, на которых нет возможности останавливаться. Скажем о том, как ею решалась задача реконструкции формирования диалектического метода в истории философии и переосмысления на этой основе изложения истории философии, и проиллюстрируем это на примере ряда забытых сегодня историков философии.
Начнем с лидера школы Деборина, а затем расположим наших героев приблизительно в хронологическом порядке предметов их изучения. Как профессиональный историк философии А.М. Деборин внес основной вклад в решение задачи вычленения диалектического метода из философских учений XVII–XIX веков. В частности, он исследовал проблему субстанции у Спинозы, подчеркнув в ней момент природы творящей. Многие его работы были посвящены проблеме развития во французском материализме и в философии Фейербаха. Особый интерес представляет работа Деборина по диалектике в немецкой классической философии. Она была выполнена в отношении Канта, Фихте и Гегеля2. Деборин рассматривал системы немецкой классики как логически связанные ступени, а марксизм как их итог и снятие классической философии вообще. «Метод Маркса созревает в недрах идеалистической философии и имеет свою историю», – считал Деборин [1, c. 14].
Кант обозначил проблему диалектики сначала в докритический, а потом в критический период, и развитие немецкой классики есть преодоление кантовского субъективизма и дуализма. Задачей Канта было создание научного метода в философии, при ее решении он опирался на идеалы классического естествознания. Исследуя различия между реальным и идеальным основанием, реальной и идеальной связью, Кант обнаружил, что возникновение одного следствия обусловливает возникновение отрицающего его следствия, а потому законы непротиворечия и тождества могут оказаться неприменимыми к реальным явлениям. Вместо привычной «материалистической» критики антиномизма и идеализма Деборин проводит истинный анализ, находя у Канта истоки диалектики и материализма: «Мы пройдем мимо тех метафизических выводов, какие Кант склонен сделать. Для нас важна основная мысль Канта, что принцип реальной противоположности имеет огромное значение в природе, между тем как в формальной логике ему не отводится никакого места» [1, c. 24]. Вот начало пути к диалектической логике. В отличие от Юма Кант не удовлетворился ассоциированием идей, но вследствие своего априоризма не решил проблему превращения связи представлений в объективную связь. Он перенес ее решение в постулированное им сознание вообще, трансцендентальную апперцепцию, сохранив тем самым принцип объективности познавательного суждения. Следующий шаг, сделанный в этом направлении Кантом: априорные синтетические суждения – понятие тождества, сохраняющего в себе различие. Кант рассматривает сознание как синтетический акт, самосознание как единство многообразия – себя и другого. Сознание синтезирует одновременно себя и многообразие в единство самого себя. Но противоположности у Канта сосуществуют, не переходя друг в друга.
Следующий шаг в развитии учения о диалектическом синтезе сделал Фихте, который осуществил переход от абстрактного единства противоположностей к конкретному их единству через деятельность самосознания. Преобразование трансцендентальной апперцепции в чистое Я позволяет Фихте повсеместно применять генетический метод. Бытие мыслится не только как становление, но и как результат устанавливающей активности Я. При этом Я, полагая не Я в самом себе, само выступает как единство противоположностей. Деборин в деталях исследует переходы противоположностей в фихтевском Я, деятельность которого становится осознанием целого как раздвоенного единого. Деборин подчеркивает самотрансцендирование фихтевского Я. Я стремится к объекту, предстающему перед ним как препятствие: «Мышление только тогда приходит к сознанию, когда ему противопоставляется объект как нечто ему противоположное. Чистого, абсолютного мышления не существует. Сознание всегда мыслит о каких-либо объектах» [2, c. 44].
В деятельности ограниченное препятствиями Я все время снимает свои границы, осваивает объекты, внешние и внутренние, выходит за свои пределы. Оно бесконечно в этой своей конечности. Сознание Я – не состояние, а стремление. «Наше “я” является, согласно Фихте, одновременно субъектом сознания и принципом действия. Совершенно правильна и плодотворна мысль Фихте о том, что наше сознание начинается вместе с нашей деятельностью и что нет никакого самосознания без сознания деятельности», – резюмирует Деборин [2, c. 48]. По существу, в философии Фихте Деборин выявил теоретическую модель самодвижной самовозрастающей сингулярности, каждый раз восстанавливающей свое тождество на новом уровне, заново овладевая собой и своим расширяющимся содержанием. Модель эта применима ко всякой предметной деятельности и к человеку как ее субъекту.
В фихтевском Я в виде бессознательной основы сознания присутствует и изгнанная было из Я объективность. Сознание Я по своей рефлексирующей природе не может стать всеобъемлющим, так как акт рефлексии фиксирует, останавливает деятельность, восстанавливая раскол на представление и вещь. «Но поскольку деятельность полагает объект, – пишет Деборин, – она становится объективной деятельностью» [2, c. 38]. Фихтевское сверхиндивидуальное Я открывает путь к объективному идеализму Шеллинга3 и Гегеля. В философии Гегеля совершается необходимый переход к объективности внутреннего самодвижения понятий.
Гегелевскому диалектическому методу, его влиянию на «Капитал» Маркса, проблеме диалектической методологии Деборин посвятил целый ряд работ. Во вступительной статье к первому тому «Сочинений» Гегеля он писал: «Достаточно проанализировать “Капитал” Маркса, чтобы убедиться в том, что мы здесь имеем все основные законы диалектики в применении к политической экономии» [3, c. 304]. Суть гегелевской диалектики Деборин определил как воссоздание конкретного единства через слияние противоположностей на новой основе. Понятие конкретно, как и предмет, и их конкретность обусловлена тем, что предмет, как и понятие о нем, есть единство противоположностей или конкретное тождество. Абстрактное тождество формальной логики не определяет сущности предмета. Противоположность самому себе составляет противоречие. Противоречие деятельно обнаруживает противоположность. Понятие должно выражать закон развития предмета. Всякое познание и знание предметно. Мышление формируется в овладении предметами и составляет единство сознания и самосознания. Противоположность между предметом и сознанием снимается и возобновляется на новой основе4.
Метод всякого научного исследования идет от непосредственного через опосредствованное к конкретному понятию. Сознавая явления, мы обнаруживаем и сущность, ибо она не находится по ту сторону явлений. Деборин делал вывод: «Если отвлечься от основных недостатков гегелевской логики, то мы должны признать, что в общем гегелевское построение надо считать правильным и с материалистической точки зрения» [3, c. 303]. Поэтому «если Маркс и Энгельс, заимствуя у Гегеля основы его метода, отбросили его систему, то в этом они оказались лучшими и более последовательными гегельянцами, чем сам Гегель» [3, c. 245]. Материалистический подход дает бесконечный простор диалектике. «В материалистической “системе” логики центральным понятием должна являться материя как субстанция. Она будет служить исходным пунктом и завершением всей логики, представляя собою на высшей ступени конкретное единство всех своих определений, всех связей и опосредствований» [3, c. 335]. В самой же работе по созданию теории материалистической диалектики «исходным пунктом должна служить гегелевская логика. С другой стороны, “расшифровка” марксова “Капитала” с точки зрения его логического состава даст надежный компас в деле материалистической переработки гегелевской логики» [3, c. 347].
В деборинской школе развитием диалектической логики в истории философии занималась О.М. Танхилевич5, гениальная женщина – философ советского периода6. Она исследовала проблему адекватного выражения диалектически развивающейся действительности и генезис конкретного понятия в философии Декарта, Канта и Гегеля. В понятии интуиции у Декарта Танхилевич видела начало пути к конкретному понятию. Интуитивное понятие обладает очевидностью наглядного представления, но не связано с чувственным восприятием. Декарт отделил объективность понятия от непосредственного восприятия предмета. Кант отрицал возможность конкретного понятия, поскольку рассудок не обладает способностью созерцания без помощи чувств. Но Кант предпринял поиск чистых понятий неэмпирического происхождения, которые сам рассудок производит в своей собственной деятельности. Тем самым он открыл сферу категориального мышления, в которой происходит трансцендентальная дедукция категорий. Но кантовские категории «применимы только к объектам возможного опыта, а не к вещам, каковы они сами по себе» [8, c. 76].
Важной заслугой Канта Танхилевич считает открытие синтетических суждений, которые позволяют рассматривать понятие в его становлении. Согласно Танхилевич Гегель осознал проблему конкретного понятия и предложил путь ее решения. Он понял, что «поиски конкретного понятия лежат не на пути непосредственного созерцания единичного», и потому необходимо новое понимание конкретного [6, c. 11]. Конкретное понятие, адекватно отражающее предмет, должно представлять собой диалектический процесс становления различного, соотношение закона и его проявления, составляющее целостную индивидуальность. В свете гегелевского наследства Танхилевич попыталась подойти к проблеме исторического и логического. Она высказала мысль: «Дело диалектической логики – на основе реальной классификации наук дать “исправленное отражение” действительности, т. е. раскрыть в логически последовательном виде закономерность самого исторического процесса» [7, c. 40].
Вопросы истории философии находились в центре внимания И.К. Луппола7. Луппол занимался историей философии во всех ее аспектах. Мы выделим только то, что касалось истории диалектики в философии. В своих лекциях Луппол показал принципиальное отличие натурфилософии Возрождения и Нового времени. Ренессансная всеохватность не подкреплялась методологически, проблема объективности познания не существовала для ренессансных авторов. Развитие капитализма в Новое время выдвинуло задачу выработки объективного и достоверного метода познания для практического освоения природы и создания технических средств воздействия на неё. В результате на первый план вышли вопросы гносеологии и методологии. Декарт понял объективную задачу философии своего времени – выработку метода достоверного познания – и пытался разрешить её. Исторически обусловленная ограниченность попытки Декарта состояла в том, что разработка метода, претенду-ющего на универсальность, произошла ценой отождествления науки вообще с группой аксиоматических наук. В учении Спинозы Луппол интерпретировал диалектику природы производящей и природы произведённой как соотношение сущности и существования вещей в единой субстанции. Если субстанция вневременна, то совокупность преходящих модусов вечна в смысле бесконечной длительности. Ограниченность материализма Спинозы он видел в том, что тот относил движение только к миру модусов. В результате субстанция оторвана от мира модусов. Решение проблемы перехода от субстанции к модусам принадлежало уже Толанду и французским материалистам XVIII века. Луппол высказал мысль, что гегелевский абсолютный дух есть субстанция Спинозы, понимаемая как субъект Фихте. Деборин и Луппол положили начало изучению философских идей Ленина, показали значение Ленина как философа. В своих работах о Ленине Луппол сделал акцент на ленинских идеях единства гносеологии, теории диалектики и методологии знания, восхождения от абстрактного к конкретному через «клеточку» познания, роли метода раздвоения единого и анализа диалектических противоречий.
К философии Спинозы обращались многие философы деборинской школы8, среди них Р.М. Выдра9. Он предложил свое решение вопроса о причинах монистического характера учения Спинозы. Конечно, философия Спинозы разрешала противоречия дуализма Декарта, но существовало и плюралистическое их решение Лейбницем. Отталкиваясь от «Этики» как развитой формы, т. е. «ключа» к ранним произведениям, Выдра усмотрел «корень монизма» системы Спинозы в положении «Бог или природа», введение которого потребовало принципиально нового понимания бога. Обратившись к современному Спинозе интеллектуальному контексту, Выдра отметил огромную работу, проделанную Спинозой, по исключению из субстанциональности бога всех атрибутов, за исключением протяженности и мышления. Согласно Выдре монизм Спинозы имел наряду с многообразными историко-философскими источниками и социальный источник: всеобщность и единство товарно-денежных отношений и политическое равенство буржуазной демократии в самой передовой стране тогдашнего мира – Голландии. Гениальность Спинозы, писал Выдра, выразилась в том, что он объединил основные тенденции философии, науки, этики и политики своего времени.
Философию Спинозы и, в частности, влияние Спинозы на немецкую классику исследовал А.И. Рубин10, ныне более известный как замечательный переводчик философской литературы. Спинозовское понимание абсолютного (бесконечного), отмечал Рубин, оказало влияние на абсолютный идеализм Шеллинга. Гегель считал, что система Спинозы и есть шеллингова система абсолютного тождества, в которую следует внести принцип самоопосредствования, диалектического самодвижения. Гегель, писал Рубин, взял субстанцию Спинозы и поднял ее до понятия субъекта методами фихтеанской диалектики, превратив субстанцию в «Я». Основным в этом превращении стало развитие Гегелем глубокой мысли Спинозы о случайности и разрушимости всех конечных вещей, существование коих суть объективная случайность. Случайное относится к необходимому так же, как конечное к бесконечному, т. е. к абсолюту11.
Л.Ф. Спокойный12, автор книги о Лейбнице, в своих исследованиях классической и современной философии стремился делать акцент на методологических проблемах. Он отмечал, что положения эмпиризма и рационализма, направленные друг против друга, будучи последовательно развитыми, переходят в свою противоположность. Мыслитель подчеркивал актуальность проблем философии Лейбница для современной математической логики: «Проблема самосодержащего множества ничем не отличается от проблемы бога у Лейбница» [5, c. 174]. Но это означает, указывал он, что современная математическая логика сталкивается с теми же противоречиями, что и система Лейбница, и потому представляет благодатную почву для антиномий, неразрешимых, если не начать понимать закон как развитие. Абсолютное существует как диалектическое единство относительных, выражающееся в переходе их друг в друга. Отдельно Спокойный останавливался на роли абстракции в философии, призывая не психологизировать философские категории (как, например, Юм – категорию причинности), поскольку это приводит к смешению философского и частнонаучного уровней исследования.
К.В. Гребенев13 написал книгу о Локке, вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей», отличающуюся ясностью изложения и глубиной понимания философских проблем. Он утверждал, что принципы философии диалектического материализма не выработаны исключительно классиками марксизма, а представляют собой синтез рациональных элементов всего предшествующего философского развития. Философию Локка он считал одним из крупнейших звеньев этой истории. Место Локка в истории философии определяется тем, что он обозначил самостоятельность гносеологической проблематики, а тем самым обеспечил центральный статус проблемы связи субъекта и объекта. Но, разделив качества на первичные и вторичные, Локк по существу объявил последние мнимыми. Резко противопоставив друг другу внешний мир и субъективную реальность, Локк не сумел вполне определить характер связи между ними, тем самым создав возможность дальнейшего субъективирования реального мира в ходе последующего развития английского эмпиризма в лице Беркли и Юма вплоть до субъективации и первичных качеств.
П.С. Виноградская14 писала о философах XVIII века (Дидро, Кант), но ее заслуга состоит в детальном изучении философа эпохи Великой французской революции Анахарсиса Клоотса. Этой темой она занялась по совету Деборина, которому и выразила глубокую благодарность в своей публикации о Клоотсе. В философии Клоотс был последовательным материалистом и атеистом, он отстаивал тезис, согласно которому душа есть лишь результат телесной организации, совокупность пяти чувств и памяти. В социологии Клоотс придерживался детерминизма в объяснении поведения людей, считая человеческие сообщества принципиально не отличающимися от сообществ пчел или муравьев. Клоотс интересен как политический мыслитель, впервые выдвинувший идеи мировой революции, суверенитета человечества и всемирной республики с департаментским делением без национальных границ, таможенных барьеров, армий и многих других элементов государства. Для Виноградской, жены одного из лидеров троцкистов Е.А. Преображенского, была близка мысль Клоотса о невозможности строительства демократической республики в одной стране и необходимости развертывания революционных войн. Как буржуазный революционер Клоотс считал правомерной конфискацию феодальной собственности, но наличие буржуазной собственности относил к основным правам человека. Коммунистические принципы, по мнению Клоотса, нарушают права человека и свойственны аристократическому режиму.
Видным историком философии – деборинцем был В.А. Юринец15. Следуя за Дебориным в выделении двух линий в истории Новой философии – объективистской и феноменалистской, Юринец замечает, что не только Юм, но уже Беркли превращает сенсуализм в чистый феноменализм и гносеологический импрессионизм. Он подчеркивает конструктивистскую природу феноменалистской философии: предмет конструируется из ощущений. Со времен Беркли начинается (если воспользоваться более поздним термином) позитивистская традиция «научной философии», представляющая собой синтез формально-логической научности и чистого субъективизма. Феноменалистический идеализм субъективирует объективное содержание мира, превращает онтологические категории в психологические, а затем в логические. Непоследовательность феноменализма Беркли сказалась в допущении в его систему теологии. Юм более последователен и «превращает мир абсолютного импрессионизма в самодовлеющее целое, не нуждающееся уже ни в каком трансцендентальном обосновании» [9, c. 208]. По замечанию Юринца, учение Юма вызвано пониманием того, что причинность нельзя вывести из формальной логики и закона тождества, но апелляция к опыту в свою очередь не может обеспечить закону причинности всеобщность и необходимость [10, c. 36]. Возможно, юмизм как философия хаоса, долженствующего порождать некую высшую гармонию противоречивых интересов, – наиболее адекватная философия для социальной утопии, создаваемой буржуазным сознанием со времен Адама Смита (которого называет Юринец) до современной борьбы с коммунизмом в духе Фридриха фон Хайека.
Обратившись (опять же вслед за Дебориным) к «неоюмизму», Юринец указал на Гуссерля как на важнейший объект марксистской критики наряду с махизмом. По мнению Юринца, Гуссерль – эклектик, но юмизм – один из источников его философии, хоть Гуссерль и подчеркивал отличие своей феноменологии от юмовского феноменалистского «самонаблюдения». Юринец подробнейшим образом проанализировал учение Гуссерля и его учеников. Платонизирующий антипсихологизм Гуссерля и его попытки постулировать эйдетические науки он трактует как отказ от всякого сообразования с фактами. Психологизм не устраивает Гуссерля именно потому, что несет в себе отображение реальной действительности. В притязании устранить естественную установку сознания Юринец усматривает конструктивистскую претензию. Феноменологическая редукция, устраняющая объективный мир и науки о нем как догматичные, именно и создает основу для безудержного конструктивизма. Чистое или трансцендентальное сознание выступает не как следствие действия внешних предметов, а как их творец, освобожденный от какого-либо отношения к предметам сознания. Интенциональный предмет, «кентавр» акта воображения, равноправен внешнему предмету и даже более предпочтителен. «Вот исходная точка феноменологии, общая с берклианством», – заключает Юринец [11, c. 65]. Вместе с берклианской интенцией Гуссерль приходит к солипсизму и впускает с черного хода психологизм, который был изгнан из парадного. «Выключение из области феноменологического анализа “Я” стоит в связи с современным махизмом (который, несмотря на все, является метафизикой) и теорией комплексов ощущений» [11, c. 72]. Основное противоречие гуссерлианской феноменологии, по Юринцу, между декларируемой пассивностью сознания в отношении предметов как чистых данностей и действительной конструктивистской активностью сознания, результатом деятельности которого становятся сущностные феноменологические предметы. «Сам Гуссерль в моменты откровенности признается, что благодаря редукции мы не теряем ничего. Конечно, – замечает Юринец, – мир остается, – но мир как берклианский мир нашего представления… Гуссерль принадлежит к тому направлению философии, которое старается действительно сложную проблему отношения сознания к предмету решить путем устранения всей проблемы. На такой путь стали раньше Авенариус и Мах. В этом центральном пункте сошлись самые крайние идеалистические “эмпирики” и убежденные платоники» [11, c. 82, 85]. Важнейший вывод Юринца в отношении феноменологии Гуссерля, с нашей точки зрения, в том, что ей «чуждо понятие закона» [11, c. 85]. В этом сущностная черта всякой конструктивистской установки сознания.
М.А. Нырчук16 исследовал диалектику в немецкой классической философии. В его взглядах проявилось типичное для диалектиков увлечение гегелевской философией, подход к логике Гегеля как к основе диалектической логики. Нырчук полагал, что абсолютный идеализм Гегеля вплотную примыкает к материализму. Гегель ничего не оставляет по ту сторону сущего, но все считает познаваемым и подвергает исследованию. Он стремился к полному самоопределению и выявлению разума, устраняя все препоны, мешающие его адекватному логическому обнаружению. Гегель выступал против теории непосредственного знания, видя в нем игнорирование философии. Он не желал отдавать самое ценное в жизни человеческого духа на произвол невежественной непосредственности внутреннего чувства. Субстанция у Гегеля вместе с тем есть субъект и дух, а логические категории выражают ее различные определения. Гегелевская философия соединяет предметность с активностью и предоставляет все права познающему разуму для построения системы знания о мировом развитии, для создания последовательной и стройной науки логики. Абстракции гегелевской логики конкретны. Внутренняя тенденция учения егеля, обусловленная его диалектическим методом, привела к тому, что от религии в его философии осталась лишь одна оболочка. Логика Гегеля, по словам Нырчука, «выела» содержание божественной сущности и в силу своей реалистичности стала одним из источников марксизма [4, c. 146]. Изучение философии Гегеля с материалистической точки зрения Нырчук называл важнейшим условием разработки теории материалистической диалектики.
А.А. Бервицкий17, исследовав достаточно традиционную тему гегелевской критики рационализма, эмпиризма и критицизма, пришел к интересным выводам относительно самого Гегеля. Бервицкий обратил внимание на то, что, выбрав для критики своих предшественников гносеологические, а не онтологические вопросы, Гегель тем самым ведет критику по линии метода, а не системы. Идеалистический характер гегелевской системы, считает Бервицкий, не позволяет окончательно избавиться от дуализма. Острие гегелевской критики направлено на эмпиризм, и Канта он критикует прежде всего за эмпиризм. Бервицкий заключает, что гегелевский панлогизм фактически реставрирует рационалистическую метафизику XVII века. Но рационализм не может избавиться от односторонности в охвате предмета и пролагает путь мистицизму. Гегель в отличие от рационалистов XVII века строит систему не на суждении, а на силлогизме, но в итоге все превращает в силлогизм, а силлогизм в Абсолют. В помощь своему силлогизму Гегель посылает спекулятивный метод, а его базирует на аналогии. В то время как Кант ставил вопрос о пределах познания и тем самым отвращал внимание от предметов знания, замыкаясь на исследовании свойств и элементов мышления, Гегель ставил вопрос о том, чтобы способность познания можно было исследовать только в процессе самого познания. Кант оставляет противоречия в сфере сознания, Гегель переводит их в сферу объективности и через это осуществляет их синтез. Но идея единства субъекта и объекта, по сути своей глубоко правильная, приобретает у него метафизический характер. Оригинальность гегелевской метафизики в том, что она соединена с революционной диалектикой. Создавая абсолютно логичную систему, он получил гениальную нелогичность: замкнутую метафизическую систему, в которой бьется диалектика.
Я.С. Блудов18 посвятил подробное исследование категории явления у Гегеля. Он рассматривал эту работу как выполнение ленинской установки на «материализацию» гегелевской философии. До Гегеля, писал Блудов, категория сущности имела объективное значение, а категория явления была субъективной категорией. У Гегеля же явление превратилось в объективную категорию, а обе они вместе – в моменты самой действительности. Блудов сделал вывод, что категорию явления диалектический материализм может «материализовать» целиком, отбросив некоторые идеалистические моменты, коих у нее немного, значительно меньше, чем у других категорий. Диалектический материализм, как и Гегель, признает категорию явления объективной категорией, которую нельзя отрывать от категории сущности и категории вещи. Диалектический материализм не сводит качество к свойствам, диалектический материализм может принять гегелевское учение о сущности и ее свойствах и подписаться под гегелевской критикой Канта за отрыв сущности от явления, вещи от ее свойств. Надо заметить, что тезис о том, что гегелевская диалектика может с минимальными поправками быть инкорпорирована в диалектический материализм, стал одним из основных обвинений в адрес деборинцев.
Видная роль среди историков философии деборинского направления принадлежала П.И. Демчуку19, занимавшемуся современной немецкой философией 1920-х гг. Он констатировал осознание кризиса философии, цитируя немецкого автора: «Старые системы мертвы, а новых нет». После господства неокантианства и короткого периода активности интуитивной философии (Дильтей, Зиммель, Бергсон) наступила идейная распутица. Наиболее популярные тренды – мистицизм, антиинтеллектуализм, спиритуализм. Растет интерес к позднему Шеллингу. Вера в науку утрачивается. Сама утрата кредита доверия неокантианству и экспансия теологии в философию и естествознание симптоматична для «духовного кризиса современности». Демчук иллюстрирует свои оценки, приводя в пример книгу Ганса Лейзеганга «Немецкая философия в XX столетии», проникнутую ненавистью к логицизму и рационализму марбургской школы и симпатиями к фашизму. Казалось бы, иные настроения можно обнаружить в работах представителей основанного Эрнстом Геккелем «Союза монистов». Но вместо материализма Демчук находит у них дуалистический натурализм, кое-где смыкающийся с мистицизмом. Демчук уделяет внимание неокантианской версии марксизма Макса Адлера, который считал необходимым дополнить экономическое учение Маркса теорией познания Канта. Подобный подход – следствие трактовки марксизма как «научного позитивизма», а материализма как «метафизики». Диалектика в кантовском духе может быть признаваема Адлером в сфере мышления, но диалектика бытия также считается «метафизикой», поэтому развитие понимается в духе вундтоспенсеровского эволюционизма. В качестве яркого примера кризиса современной философии Демчук исследовал учение Германа Кайзерлинга и его школы, абсолютизирующих аристократический активизм, волюнтаризм и вождизм и идеализирующих фашизм как новую высшую форму общности, обновляющую белую расу. Демчук расценивает философию Кайзерлинга (равно и философию Шпенглера, и философию Файхингера) как бунт против «гнета» интеллекта и логоса, как отрицание культуры. Кумира Кайзерлинга – Ницше, по замечанию Демчука, можно было уважать за оригинальные проявления сильного философского духа, у Кайзерлинга же ницшеанство приобретает характер фарса.
Завершая рассказ об историко-философском измерении деборинской школы, нужно обязательно упомянуть Я.С. Розанова20. Это крупнейший специалист по философской библиографии, выезжавший специально в зарубежные командировки для пополнения информации о новейшей философской литературе. Ему мы обязаны уникальным библиографическим справочником о советской философской литературе первого послереволюционного десятилетия.
1 В частности, мы не затрагиваем реконструкцию диалектики в философии Нового времени и немецкой классической философии, предпринятую В.Ф. Асмусом в его деборинский период, и его полемику по вопросам методологии историко-философского исследования с механистом А.И. Варьяшем (См.: Каменский З.А. История философии как наука в России XIX–XX вв. М., 2001. С. 135–144).
2 Рукопись о Шеллинге была оборвана на полуслове в момент разгрома деборинцев, сохранена в семье Дебориных и опубликована мной спустя восемьдесят лет после ее написания.
3 Философии Шеллинга хотел посвятить диссертацию деборинец М.Л. Ширвиндт, расстрелянный в 1936 г. Он же был автором статьи о Шеллинге в первом издании «Большой советской энциклопедии» (См.: Корсаков С.Н. Судьба философа: Максим Лазаревич Ширвиндт (1893–1936). Часть I // Философские науки. 2015. № 10. С. 127–139).
4 Последовательному проведению этого принципа препятствует идеализм Гегеля.
5 Ольга Марковна Танхилевич в 1928 г. была арестована и выслана в Ойротскую автономную область на 3 года. В 1932 г. повторно арестована. В апреле 1933 г. решением Коллегии ОГПУ приговорена к 3 годам ссылки в Павлодар. В 1935 г. приговорена к 3 годам тюремного заключения. Содержалась в Воркутинском ИТЛ. По причине беременности избежала расстрела. Прятала в своих вещах «Феноменологию духа» Гегеля. В лагере нашла в себе силы размышлять над вопросами математической логики. В 1941 г. была освобождена. В 1949 г. арестована и выслана в Кустанайскую область. Реабилитирована в 1956 г. Опубликовала статью о Лейбнице как предшественнике кибернетики.
6 Сейчас о Танхилевич пишет О. Новикова-Монтерде (Испания).
7 Иван Капитонович Луппол был арестован в 1941 г. Приговорён к расстрелу. Содержался в камере смертников Саратовской тюрьмы. В 1942 г. расстрел был заменен тюремным заключением сроком на 20 лет. Переведён в общую камеру, а затем отправлен в мордовские лагеря. Умер в 1943 г. от голода.
8 Сюжет о спорах вокруг Спинозы в 1920-е гг. был рассмотрен О.О. Яхотом (См.: Яхот О.О. Подавление философии в СССР // Вопросы философии. 1991. № 11. С. 72–115).
9 Рувим Маркович Выдра был в 1938 г. арестован и расстрелян.
10 Арон Ильич Рубин в 1931 г. после ареста брата экономиста И.И. Рубина и разгрома деборинцев был отовсюду уволен и вынужден зарабатывать переводами. Умер в 1961 г.
11 Большую роль в переводе и изучении произведений Спинозы сыграл также репрессированный деборинец Г.С. Тымянский.
12 Леонтий Феликсович Спокойный был в 1936 г. арестован и расстрелян.
13 Константин Всеволодович Гребенев был в 1935 г. арестован, в июле 1936 г. оправдан, но в октябре 1936 г. вновь арестован. В 1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. В 1938 г. по постановлению Тройки при УНКВД Западно-Сибирского края расстрелян.
14 Полина Селимовна Виноградская в 1937 г. после ареста мужа, Е.А. Преображенского, пыталась покончить с собой в здании райкома ВКП(б), была доставлена в больницу, где ее арестовали и препроводили в Бутырскую тюрьму. Содержалась в тюремной больнице, подвергалась побоям и издевательствам. После длительной голодовки была направлена из тюрьмы в подмосковную колонию, признана нуждающейся в принудительном лечении. Освобождена в 1940 г. Умерла в 1979 г.
15 Владимир Александрович Юринец в 1937 г. был арестован и расстрелян.
16 Михаил Антонович Нырчук был арестован в 1935 г. и в 1936 г. расстрелян.
17 Александр Арсеньевич Бервицкий (Варфоломеев) был в 1934 г. арестован и приговорен к 3 годам ИТЛ. В 1937 г. осужден и расстрелян.
18 Яков Семенович Блудов в 1935 г. был арестован, приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Воркутлаг. В лагере получил ещё пять лет. Освобождён в 1939 г. В 1955 г. был реабилитирован в судебном порядке, в 1956 г. в партийном отношении. После этого вернулся к научной работе. Умер в 1984 г.
19 Петр Иванович Демчук в 1933 г. был арестован и приговорен к 5 годам ИТЛ. Отбывал наказание на Соловках. В 1937 г. был приговорен к расстрелу и расстрелян в Сандармохе.
20 Яков Самойлович Розанов был арестован в 1935 г. и в 1936 г. расстрелян.
Об авторах
Сергей Николаевич Корсаков
Институт философии Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: snkorsakov@yandex.ru
SPIN-код: 6533-6436
доктор философских наук, ведущий научный сотрудник сектора истории русской философии
Россия, МоскваСписок литературы
- Деборин, А.М. Очерки по истории диалектики. Диалектика у Канта / А.М. Деборин // Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. – Т. 1. – Москва, 1924. – С. 13–75.
- Деборин, А.М. Очерки по истории диалектики. Диалектика у Фихте / А.М. Деборин // Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. – Т. 3. – Москва, 1927. – С. 7–51.
- Деборин, А.М. Философия и марксизм / А.М. Деборин. – Москва– Ленинград, 1930. – 372 с.
- Нырчук, М.А. Выступление / М.А. Нырчук // Современные проблемы философии марксизма. – Москва, 1929. – С. 141–147.
- Спокойный, Л.Ф. Система Лейбница и её значение в истории философии / Л.Ф. Спокойный // Проблемы марксизма. – 1930. – № 1. – С. 144–174.
- Танхилевич, О.М. К вопросу о генезисе абстрактно-конкретного понятия / О.М. Танхилевич // Проблемы марксизма. – Сб. 1. – Ленинград, 1928. – С. 7–27.
- Танхилевич, О.М. Об историческом и логическом (К вопросу о гегелевском наследстве) / О.М. Танхилевич // Под знаменем марксизма. – 1931. – № 6. – С. 29–43.
- Танхилевич, О.М. Учение Канта о категориях / О.М. Танхилевич // Труды Института красной профессуры. – 1923. – Т. I. – С. 59–84.
- Юринец, В.А. Рецензия на книгу: Деборин А.М. Введение в философию диалектического материализма. 2-е изд. – М., 1922. – 376 с. // Печать и революция. – 1923. – № 3. – С. 205–209.
- Юринец, В.А. Философия Канта / В.А. Юринец // Бюллетень Заочно-консультационного отделения Института красной профессуры. – 1930. – № 10. – С. 32–43.
- Юринец, В.А. Эдмунд Гуссерль / В.А. Юринец // Под знаменем марксизма. – 1923. – № 4–5. – С. 61–85.
Дополнительные файлы