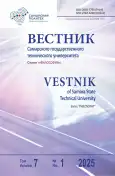Парменид в тени философии
- Авторы: Костецкий В.В.1
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный академический Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств
- Выпуск: Том 7, № 1 (2025)
- Страницы: 119-133
- Раздел: ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692902
- ID: 692902
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Из обзора мнений о философии Парменида следует, что философы избегают Парменида, а историки философии в своих пересказах теряют нить изложения при апологии абсурдных тезисов. В статье предпринимается попытка реконструкции философии Парменида исходя из другого контекста «бытия». Понятия «бытие» и «небытие» в философии возникают не в результате абстрагирования и обобщения, а в конкретных контекстах. У Гегеля таким контекстом является понятие «начало», разлагаемое на бытие и небытие, а затем синтезируемое в «становление»; у Парменида контекст задан понятием «мгновение», точно так же логически разлагаемым на бытие и небытие. Иррациональность понятия «мгновение» (математически очевидная) позволила Зенону выстроить ряд последовательных апорий.
Полный текст
«…понятие “бытия” самое тёмное…»
М. Хайдеггер
Интересно, что современники называли Гераклита тёмным – за его трудно воспринимаемый стиль изложения. Между тем самым «тёмным» мыслителем античности был его ровесник Парменид, который характеризуется сложным стилем мышления. У Парменида мысли, изложенные даже в виде поэмы, обращены к логическому мышлению, а не к чувствам. Его ученика (Зенона Элейского) Аристотель назвал «изобретателем диалектики», утаивая, что первым изобретателем логики можно было бы назвать Парменида. Очевидно, Аристотель пожелал за собой сохранить этот титул, что тоже справедливо.
Понять позицию Парменида, полагаясь на «чтение», не просто трудно, а невозможно. Сохранившихся фрагментов текста мало, пояснений от автора нет, высказывания абсурдные. Почему «ничто не возникает и ничто не исчезает»? Каждый собственными глазами регулярно наблюдает обратное. Почему движения нет? Как известно, Диоген стал специально прохаживаться перед тем, кто повторил эту мысль. Парменид, будучи мыслителем серьёзным, без эпатажа, демонстративно отрицает очевидное. А кто ограничивается очевидным, получает от Парменида именование «пустоголовое племя».
Чтобы проникнуть сквозь темноту истории, полезно принять во внимание один факт. Античная философия для жителей Эллады не состояла из «фрагментов досократиков», а была органической частью «коллективного сознания» жителей полисов. Мысли одного философа просвечивали сквозь тезисы другого. Например, Парменид в своей философии утверждает, что «небытия нет»; другой философ, Эпикур, убеждает логически, что «смерти нет». Связаны ли эти тезисы между собой? Исторически и биографически, ясно, не связаны. Разница во времени больше века, направления философии разные. Однако философская интуиция подсказывает, что какая-то связь имеется. Следовательно, требуется анализ.
При философском анализе становится понятно, что тезис Эпикура, хотя касается смерти, сформулирован не относительно смерти, а относительно времени (период от рождения до смерти). В отношении личного времени тезис Эпикура («смерти нет») верен: мы есть – смерти нет; смерть пришла – нас нет. По отношению к Пармениду в той же логике возникает вопрос: нет ли такого особого времени, с позиции которого можно отрицать всякое возникновение и уничтожение? Парменид сам дает ответ: да, есть, это «настоящее время», но без прошлого, которого уже нет, и без будущего, которого ещё нет. Все наши чувства таким условиям не удовлетворяют априори. В чувствах всегда восприятие осуществляется в таких периодах времени, когда настоящее соседствует с тем, что только что было, и с тем, что вот-вот будет. Настоящее время без соседства с недавним прошлым и ближайшим будущим будет называться «мгновение». Мгновение в традициях высшей математики определяется просто: такой период времени, который может быть меньше любого наперёд заданного числа (минуты, секунды, наносекунды). То «особое время» Парменида, при котором тезис «нет ни возникновения, ни уничтожения» оказывается верным, есть мгновение настоящего времени. Мир в пределах мгновения всегда представляет собой стабильную картину, кадр. Только понятие «мгновение» не так однозначно: мгновение уже не «время».
Идея синематографа в своё время базировалась на том, что фильм представляет собой совокупность фотографий, на которых зафиксированы фазы движения, отдельных кадров. Анимационное кино создает иллюзию движения. «Движущаяся картинка» возникает как феномен чувственного восприятия при удержании внимания на трёх последовательных кадрах: настоящем, предыдущем, последующем. В чувственном восприятии движения фигур на экране меняются непрерывно, но технически это не так. Один кадр проецируется на экран, удерживается в пределах экспозиции в стационарном положении, затем закрывается шторкой, а когда шторка убирается – там уже другой кадр (со смещением относительно первого). От величины смещений зависит скорость «движущихся фигур», резкость или плавность движений. Так устроено «кино».
Парменид вполне мог исходить из того, что картина мира зависит от временного интервала, который трактуется как условное «мгновение». Слушатель Парменида по имени Зенон «мгновению» посвятил специальную апорию («Стрела»). Если на свою жизнь смотреть в интервале секунды, не меняется ничего; если смотреть в интервале двух сотен лет, тоже не меняется ничего. Другое дело, что существует привычка смотреть на свою жизнь в интервале часов, дней, лет; в каждом периоде времени кадр жизни будет представлять разные картины. Произвольность, относительность, случайность взгляда на мир в зависимости от экспозиции Парменид отнесет к «неистине», к «мнению». «Бытием» будет у Парменида называться мир, представленный в какое-то мгновение.
В разные «мгновения» мир будет разным не в силу того, что он вдруг изменился, а в силу выбора «кадра». Из того факта, что на фотографии, например, Московский Кремль выглядит зимой и летом по-разному, не следует, что Кремль меняется сам по себе. Кремль остаётся неизменным при всех погодных условиях и временах года. В терминологии баумгартеновской эстетики можно было бы сказать, что кремль-в-себе есть «бытие». При проведении аналогии с кинолентой можно сказать, что «бытие» – это отдельно взятый кадр, «монада» (Лейбниц). У Г. Лейбница «монад» много, как «атомов» у Демокрита. Можно привести и такой пример: сколько колоду карт не тасуй, в ней не появятся новые карты и не исчезнут стандартные. Или такой случай. Однажды маленькая девочка задала вопрос: «Это рисуют все дети; что это?». Взрослые перебрали много вариантов: мама, домики, солнце, куклы… Девочка внесла ясность: «Все дети рисуют картинки». Ответ абсолютно парменидовский. Картина – «бытие» живописи, а что изображено на картинах – мнения авторов.
Из всех философов, возможно, только М. Хайдеггер увидел связь «бытия» с временем. В ХХ веке казалось естественным соотносить время с движением или пространством, а хайдеггеровское соотношение бытия и времени воспринималось по большей части как личное пристрастие к архаике. В действительности М. Хайдеггер оказался к истокам классики ближе, чем кто-либо другой. У Хайдеггера есть даже мысль о том, что у времени не три измерения, как все привыкли считать, а четыре [1, с. 400]. Действительно, кроме настоящего, прошедшего и будущего есть еще четвёртое измерение – логическое, оно не зависит от предыдущих трех. Логическое измерение времени представлено словечком «следует»: если А больше Б, а Б больше В, то из этого что-то «следует». Особое, «четвертое измерение» времени, собственно, открыл Парменид, назвав его «бытием», «тем, что есть». Это искусственный термин, не из разговорного языка.
Одну из особенностей «четвертого измерения» времени можно пояснить следующим образом. Есть известная логическая головоломка под названием «кубик Рубика». Состояния кубика (повороты) всегда дискретны. Новый поворот – новое мгновение. Мгновений много, в зависимости от истории всех поворотов, но есть одно мгновение – начальное, когда «кубик Рубика» собран. Именно мгновение целостности, собранности, единения и единственности будет соответствовать понятию «бытия» у Парменида. Все остальные положения «кубика Рубика» будут «неистинными», «мнениями».
С точки зрения гносеологии, Парменид решал ту же самую задачу, которая обернулась у Канта «априорными формами чувственности и рассудка», только вместо пары «время и пространство» Парменид брал, с одной стороны, мгновение (для «бытия» и «истины»), а с другой – все другие интервалы времени (для «мнений»). У Гераклита мир в каждый момент времени, что больше мгновения, уже другой; у Парменида мир в каждый момент времени, что меньше мгновения, один и тот же. Противоречия нет, есть разные философские позиции и интересы. Как вопрос в старом анекдоте: стакан с водой, доходящей примерно до середины его высоты, правильно называть наполовину полным или наполовину пустым?
Гераклитовский тезис «всё течет, всё меняется» понятен, в том числе благодаря образу реки: на входящего в реку текут всё новые воды. Этот образ использовался И. Ньютоном в его «Математических началах натуральной философии»: время – это поток, равномерный и одномерный. По отношению к потоку времени уместен совет мудрецов: «спеши медленно». Совет практический, полезный.
Возникает вопрос относительно позиции Парменида: чем она интересна в теории и практически? Что даёт восприятие мира вне времени? Прежде всего, важен выход за пределы антропоморфизма. Бог уже у Ксенофана не смотрит на мир через призму человеческого измерения времени: секунды, часы, года, столетия. Парменид пытается посмотреть на мир тоже со стороны. В философской поэме «О природе» то, что говорится о «бытии», излагается Парменидом не от своего имени, а от имени Бога (богини Дике):
«Был я богинею принят охотно…
Здравствуй!..тебе надлежит всё изведать…
Обсуди многоспорный разумом довод
В сказанных мною словах…» [2, с. 82].
Дело не в художественном приёме, а в сути, которая остаётся вне понимания «пустоголового племени». Суть в том, что с точки зрения (!) «богов» все три времени в форме «настоящее, прошедшее и будущее» видны одновременно, как «пространственный ряд», «панорама». Видно всё и сразу. Это означает, что «времени нет»; вместо времени «бытие». Суть философии Парменида в смене точки зрения. Понять Парменида, не меняя кардинально «точку зрения», невозможно.
В дидактическом плане можно говорить о том, что мир раздваивается на мир-сам-по-себе и мир-для-нас. В мире самом по себе, в «бытии» все, например, счастливые семьи одинаковы и все несчастные – тоже. В этом смысле «Анна Каренина» – путь мнений. Нет такого несчастья, которое возникло бы «в первый раз»: несчастья выпадают людям из одного «ящика Пандоры». Люди разные, несчастья во всем их множестве одни и те же. Отсюда и слова Экклезиаста: «Ничто не ново под Луной». Познание природы для Парменида оборачивается знанием типичного, универсального, общего, что и легло в основу как философии сократовского периода, так и последующей науки.
Однако философия «бытия» Парменида интересна не только своим влиянием на потомков, но и собственной онтологией, даже «физикой» из первой части поэмы. В метафизике Парменида, завязанной на понятии «мгновение», мир дискретен, не существует физического перехода от одного мгновения к другому: нет такого процесса. За этим странным, на первый взгляд, утверждением скрывается физика, можно сказать, нашего времени. Показателен в этом отношении факт открытия «уровней» в модели атома. Переход электрона в атоме «с орбиты на орбиту» состоит в том, что электрон на одной орбите исчезает, а появляется на другой: процесса перехода нет, изменение происходит скачкообразно.
Для пояснения гуманитариям можно вспомнить остроумную сказку А. Пушкина про работника Балду, который море мутил и чертям покоя не давал. В сказке работник Балда предложил чертёнку разрешить спор о том, можно ли позволить ему, Балде, море мутить, в виде пари: кто быстрее обежит вокруг моря, тот и прав. Вместо себя на дистанцию Балда выставил своего «младшего брата» – зайца. Бесёнок и заяц пустились бежать. Только у Балды было два одинаковых зайца. Один убежал в лес, второй уже ждал бесёнка на финише. В квантовой механике ситуация схожая: электрон с одной «орбиты» исчезает, но появляется точно такой же электрон на другой «орбите» – не факт, что тот же самый.
Сказочно-гипотетические рассуждения во времена Парменида были инициированы не сказками и не квантовой механикой, а пифагорейским открытием иррациональности в геометрии и арифметике. Проблема иррациональности порождает «проблему существования». Например, всем понятно, что существуют квадраты, площади которых выражаются целыми числами 1, 4, 9. Но как существуют квадраты, площади которых тоже выражаются целыми числами 2, 3, 5, 6? Квадратного корня из этих чисел не существует ни в целых числах, ни в дробных (других в то время не знали). Соответственно физически не существует такого отрезка, на котором можно построить квадрат площадью в две или три единицы. Вместе с тем чем принципиально отличаются друг от друга два квадрата, когда площадь одного 4 единицы, а другого – 3 или 5? Ничем; тогда почему одни существуют, другие нет? Аналогичные проблемы «несоизмеримости» обнаружат между радиусом круга, с одной стороны, и длиной окружности, объёмом шара, площадью круга, с другой стороны. Есть ещё более простой случай – деление единицы на три части: делению нет конца. Открытие иррациональностей, приписываемое Пифагору и пифагорейцам, свершилось незадолго до появления философии Парменида, причем события происходили в относительно близко расположенных областях (города Кротон и Элея в южной части Апеннинского полуострова).
Образ мыслей Парменида, угадываемый в философской поэме, подтверждается творчеством его последователя по имени Зенон (Элейский). Будучи слушателем Парменида, молодой человек совместил открытие пифагорейцами иррациональностей с «философией бытия» Парменида, то есть видением мира через «мгновение». Первым объектом критики традиционного мировосприятия стало «движение»: то есть «переход» из состояния А в состояние Б. Зенон исходит из того, что нечто из А может оказаться в Б, но «перехода» из А в Б может и не быть. Зенон в логико-художественной форме продемонстрировал открытие «несоизмеримости» в геометрии, – так историю античной философии украсили «апории Зенона». Кстати, одна из апорий Зенона – «Стрела» –по логике рассуждений идентична эпикурейскому тезису «смерти нет». У Эпикура два времени: своё время в своей жизни, своя жизнь в чужом времени. У Зенона тоже два времени: относительно внешнего наблюдателя стрела летит; относительно внутреннего наблюдателя стрела покоится, «движения нет».
Подробный анализ апорий приводится в монографии В.Я. Комаровой «Учение Зенона Элейского» [3]. Много лет назад я имел возможность обсуждать с автором эту тему. Полушутя сказал тогда Вере Яковлевне, что если у неё апорий не хватит для того, чтобы свести концы с концами, я придумаю новые. У Зенона апории образуют замкнутый цикл. Если утверждается невозможность деления до бесконечности, возникает один ряд рассуждений. Если утверждается наличие предела делению (подобно атомам в учении Левкиппа и Демокрита), то возникает другой ряд рассуждений, прямо противоположный первому. В результате апории не разрешаются ни за счет предположения о пределах делению, ни за счет отрицания пределов деления. В основе апорий не «диалектика Зенона», а иррациональность отношений, выявленная пифагорейцами в математике. «Диалектика» лишь иллюстрирует «то, что есть».
В истории античной философии Парменид и Зенон первыми обратились к рассуждениям логического характера в явном виде. Между тем рассуждения элеатов были по методу логическими, а по предмету физическими. Только в физике их интересовали не проблемы «первовещества» подобно малоазийским философам (ионийцам), а «проблема существования» в условиях иррациональности числовых отношений.
Проблема существования присутствует в физике до сих пор, только современные физики о ней часто не знают и даже не догадываются. Приведу характерный пример. Издревле существует аттракцион под названием «танцы на углях босиком». Все объяснения физиков сводятся к тому, что если быстро пробежать по углям, то ожогов не будет, особенно если кожа толстая и мокрая. По отношению к таким «объяснениям» Парменид вводил термин «пустоголовое племя», с чем можно согласиться. У меня была возможность ознакомиться с техникой «хождения по углям» до практического применения, так что могу утверждать, что «быстро бегать по углям» совсем не обязательно; можно долго стоять босыми ногами на горящих углях.
Физический парадокс аттракциона на углях в том, что босым ногам на раскаленных углях холодно, как на сырой земле. Все теплотехнические рассуждения физиков по отношению к этому факту бесполезны, если не смехотворны. Факт сам по себе иррационален. «Подсказкой» может служить другой факт: стоять босыми ногами на раскаленных углях можно только в «измененном состоянии сознания», – хотя этот факт современным физикам ни о чем не говорит.
Кстати, вполне возможно, что аттракцион под названием «хождение по углям» был известен Пармениду: на севере Балканского полуострова древние традиции живы до сих пор, этот номер включают в свои программы туроператоры (в августе 1996 года на отдыхе в Болгарии я ходил, стоял и «плясал» на углях). С логической точки зрения совершенно ясно, что стоять босыми ногами на углях без малейшего термического воздействия невозможно; так невозможного и не бывает. Значит, в опыте скрыт какой-то эффект. Пояснить можно, причем с физической точки зрения, проводя аналогию с кино. Кино фантомно. В кино все видят на экране движения; движения персонажей «непрерывны», но с технической точки зрения непрерывности нет: есть набор стационарных кадров. Подобным образом появляется эффект «бегущей строки» в электронной рекламе: лампочки то загораются, то гаснут в определенном порядке, а получается, будто строка из светящихся букв непрерывно бежит. Фантом существования имеет место и при хождении по углям.
В аттракционе с хождением по углям фантомный эффект основывается на двух разных явлениях – особенностях восприятия и способе существования. Например, если человека вчера видели в городе, и позавчера видели в городе, и каждый день видят в городе, то складывается мнение, что человек не покидал город. Мнение вероятное, но не факт. Вполне возможно, что человек все ночи проводит далеко за городом. Аналогичным образом, когда человека видят танцующим на углях – это всего лишь видимость присутствия на углях, которая складывается из моментов присутствия. Человека видят на углях, но он не всё время на углях. Физически человек на углях непрерывно не присутствует: появится на мгновение – исчезнет на время, появится на мгновение – исчезнет на время. При определенной частоте (в кино это 24 кадра в секунду) моменты присутствия объединяются в восприятии: возникает эффект непрерывного присутствия, мультипликация.
Человек, ходящий по углям или стоящий на углях, существует в режиме присутствий-отсутствий с какой-то частотой. При фотосъёмке моменты присутствия объединяются в изображение, моменты отсутствия не фиксируются. Хотя теоретически можно допустить, что появится кадр, когда на углях никого нет. В таком случае человека могут видеть в другом месте, где его ногам холодно. Более того, на основе эффекта мультипликации человека можно в один период времени видеть в разных местах. И действительно, сохранились предания о том, что Пифагора в одно и то же время видели в разных городах. В физике Парменида из первой части поэмы, в отличие от классической физики с любыми приставками «пост», это возможно.
В истории науки существует известный факт, связанный со Сведенборгом: будучи в чужом городе на конференции, Сведенборг вдруг замер со словами «Пожар!», – возгорание действительно случилось в его родном городе в то самое время. Он увидел пожар как очевидец. Существуют аналогичные случаи, которые отмечались после открытия в медицине анестезии с использованием психотропных средств. Именно тогда американские хирурги заговорили об «измененных состояниях сознания» [4]. Пациенты при общей анестезии во время полостных операций видели ход операции и свои внутренности, находясь как бы над операционным столом, о чём позднее подробно рассказывали. Они видели своими глазами – в то время как физически были прикрыты и под наркозом. Примечательно, что Эмпедокл – слушатель Парменида, прославившийся как врач, не отрицал того, что имеет отношение к «магии», – вероятнее всего, тоже на основе «измененных состояний сознания». Напрасно у антиковедов существует навязчивое желание свести всё «магическое» на уровень легенд.
К философии Парменида философы и историки философии относятся по-разному. Философы понимают, что в древней философии Парменида ничего не понимают. Не сводить же абсурдные тезисы Парменида к тому, что «чувства обманывают», подобно тому, как дальние предметы кажутся малыми. Философ Г. Гегель «бытие» свёл, во-первых, к моменту становления и, во-вторых, к Абсолютному Духу. Философ М. Хайдеггер перевел «бытие» (το ον) как «присутствие» (Dasain), в чем интуитивно был прав, после чего обнаружил, что «понятие «бытия, напротив, самое тёмное» [5, с. 520]. Философы, в отличие от историков философии, имеют возможность о философии Парменида не вспоминать вообще, не испытывая в том необходимости; скорее вспоминают диалог Платона «Парменид» по разным случаям.
Историки философии, антиковеды, будучи, как правило, филологами или переводчиками, вынуждены заниматься пересказом, а пересказ сам по себе очень проблемный жанр. Сравнительно легко пересказать прозаический текст, который хорошо понимаешь. Но как пересказать текст, который изначально непонятен, а, возможно, и не может быть понятным в данных условиях? Самый простой способ – устроить экскурсию по цитатам. Цитаты нетрудно связать между собой какими-либо «мостиками перехода»: в этике говорилось так-то, в гносеологии так-то; привлечь биографию, отзывы современников или потомков. Получается связная экскурсия, в том числе экскурсия «по Пармениду».
Рассмотрим наиболее характерные случаи «пересказа Парменида» историками философии. Несколько предварительных замечаний. Как известно, Э. Целлер выделял в ранней философии Эллады период «досократиков». А.О. Маковельский период досократиков разделил на доэлеатский и элеатский периоды, придавая Пармениду ключевое значение. Действительно, после Парменида характер античной философии меняется: исчезает вопрос о «первовеществе» и слепое доверие к чувственной очевидности. Если фигура Парменида столь значительна в историко-философском процессе, то его философию следовало бы понимать хотя бы в целях пересказа. Что же получается при разных пересказах? Если отвечать коротко, то не получается ничего.
В пересказе В.Ф. Асмуса «бытие» в философии Парменида надо понимать, как утверждает автор, «физически и космологически» – в виде шара (вещественного) с разными «огнями», внутри и вне которого нет пустоты. Шар бытия настолько плотный, что между вещами нет пустоты, а потому мир един и движения нет. «Откуда могла возникнуть эта во всем противоположная Гераклиту и враждебная диалектике мысль? – задается вопросом автор. – …Вопрос этот правомерен» [6, с. 47]. Действительно, правомерен. Ответ профессора сводится к следующему: Элея, родной город Парменида, – провинция; основное внимание в провинциях уделяется земледелию, а не развитию промышленности и торговли (как в Милете), – а потому элейцы отстали от передовой науки Фалеса, Анаксимандра и Гераклита. Собственный пересказ всё же смущает автора, но, дескать, таковы античные философы, оригиналы. Как говорится, «за что купил, за то и продал».
А.О. Маковельский к теме Парменида проявил более ответственное отношение. Например, элейский период он начинает с Ксенофана, а не с Парменида. Асмус ссылку на Ксенофана, конечно, сделал, но с указанием на то, что Парменид больше ориентировался на Пифагора, чем на Ксенофана. Довод сомнительный. Ксенофан писал стихами, – отчего-то и Парменид стал излагать философию стихами. Ксенофан прославился критикой богов в контексте многобожия, призывая к пониманию единого бога. Аналогичным образом Парменид и Зенон резко критиковали идею «многого», защищая идею «единого». Влияние Ксенофана сказалось не только на Пармениде, но и на его учениках. Даже Эмпедокл, проживавший в тех же краях, стал излагать философию стихами.
Можно ли у Маковельского найти вменяемое изложение философии Парменида? Попробовать можно. Маковельский не проходит мимо того, что «бытие» Парменида связано с настоящим временем, вне отношения с прошлым и будущим. Только видит в этом неспособность Парменида трактовать «бытие» вне образной и наглядной связи с видимым миром в настоящем времени. По Маковельскому, процесс абстрагирования бытия из видимого мира у Парменида ещё не завершён. «Однако если, с одной стороны, нельзя отказать великому элейцу в неустрашимой смелости мысли, – пишет он, – не останавливающейся перед самыми парадоксальными следствиями, то, с другой стороны, следует отметить исторически обусловленное несовершенство её силы абстракции» [7, с. 399–400]. Упрёк «великому элейцу» состоит в том, что не надо было останавливаться на полпути: надо было бы освободить бытие от прошлого, будущего и настоящего, – представить «бытие» только бытием – в духе то ли Гегеля, то ли Ветхого Завета. Дескать, Пармениду стоило вывести «бытие» за рамки времени, но не хватило силы абстракции. Кому не хватило силы абстракции – ещё вопрос. Ведь Парменид не просто соотнес бытие и время, но само настоящее время свёл к мгновению, которое уже собственно временем не является. Говоря математическим языком, мгновение, устремляясь к нулю как своему пределу, и есть «бытие» в терминологии Парменида. У него с «силой абстракции» всё в порядке. В частности, важно отдавать отчет в том, что по достижению предела всё качественно меняется: многоугольник по мере увеличения числа сторон в пределе становится кругом; возникновение или уничтожение каких-то сторон вписываемого многоугольника теряет смысл. Мир-в-пределе мгновения, собственно, станет тем, что стало называться «гиперуранией» Платона. У Платона «идея» сохраняет значение «предела» (максимума реальности), в том числе предела совершенства.
Эдуард Целлер историю элейского периода в истории досократиков мудро начинает с Ксенофана, практически ровесника и земляка Пифагора (оба родом из Ионии и оба оказались в западных колониях). Пифагор философствовал в Кротоне, Ксенофан под конец жизни в Элее. В изложении Целлера Ксенофан предстает не только критиком антропоморфизма богов, но и мыслителем, доказывающим необходимость единого бога. «Лучшее, говорит он, может быть только единым, никто из богов не может находиться под властью другого. Столь же мало мыслимо, чтобы боги возникли или чтобы они переходили из одного места в другое. Итак, существует лишь единый Бог, “не сравнимый со смертными ни по образу, ни по мыслям”, “весь он есть око, весь – ухо, весь – мышление” и “без усилия властвует над всем своей мыслью”. Но с этим божеством для нашего философа совпадает мир» [8, с. 54]. После такого изложения философии Ксенофана взгляды Парменида уже не кажутся «взятыми с потолка». Э. Целлер на них, собственно, в своем кратком «Очерке» почти не останавливается – направление задано Ксенофаном.
Теодор Гомперц, начиная излагать философию элеатов, продолжает развивать подход Э. Целлера, уделяя большое внимание Ксенофану. Для Гомперца Ксенофан представляет собой мыслителя, опережающего своё время и в философии, и в науке, и в богословии. Ксенофан не отрицает религию, как об этом принято думать, а лишь критикует многобожие за антропоморфизм. Выступая за верховенство единого божества, он не отрицает многобожия по примеру иудеев. Верховенство единого божества осуществляется в качестве логоса (термин еще не используется): науке это виднее. Гомперц ратует за представление Ксенофана своего рода ученым «геологом»: Ксенофан утверждал, что суша и море время от времени меняются местами, и следы морских существ в окаменелостях гор тому доказательство. Довольно любопытно мнение Гомперца о том, что Ксенофан путешествовал по провинциям не случайно, а ради новизны мнений, которой в Ионии уже не было. С его точки зрения, отличающейся от суждений В.Ф. Асмуса, провинции были просвещеннее и оригинальнее Милета в тот период времени (после экспансии персов).
Переходя в своём изложении от Ксенофана к Пармениду, Гомперц явно начинает испытывать затруднения. Мир вне времени, как единое нерасчленённое целое, явно скучен. «Пустынным однообразием веет на нас из бескрасочных пределов этого строя мысли, – пишет автор «Греческих мыслителей». – Можно предположить, что сам создатель его должен был почувствовать на себе его дыхание» [9, с. 189]. Очевидно, Гомперц пропустил в философии Парменида главный момент: Парменида интересует не мир с точки зрения людей, а взгляд «сверху». При взгляде «сверху» прошлое, настоящее и будущее (в людском измерении) представляют одну «картину». Разве хорошая картина может быть скучной? Фрески – не кино, полотна живописи – не театр, но вряд ли на этом основании следует признавать их «скучными». Можно сказать, Гомперц в собственном пересказе попал в нелепую ситуацию, когда приходится чуть ли не извиняться за Парменида.
Для «оправдания Парменида» Гомперц привлекает две стратегии. Первая состоит в том, что Парменид опасается за возможность существования научного знания: если «всё течёт», по Гераклиту, то наука невозможна. Поэтому философия Парменида, по логике Гомперца, есть компенсация взглядов Гераклита; другими словами, она возникла с испуга. Вторая стратегия сводится к тому, что Парменид во второй части своей поэмы решил исправить сам себя и перешел обратно на позиции Фалеса с Анаксимандром (соответственно покинув философию Пифагора и Ксенофана). При обеих «стратегиях», выдвинутых Гомперцом, вопрос о мудрости Парменида, восхищавшей Платона, как-то тускнеет сам собою.
В учебном пособии А.Н. Чанышева при рассмотрении философии Парменида обсуждаются два тезиса: «небытия нет» и «мышление и бытие одно и то же». Автор, в отличие от многих, отдаёт себе отчет в том, что в этих тезисах представлено не мнение Парменида, а поучения со стороны божества (Дике) [10]. В свою очередь Пармениду поручается доказать данные свыше тезисы своим современникам. Сохранившиеся доказательства сводятся якобы к тому, что «немыслимое не есть, а мыслимое есть». Как известно, именно так рассуждали богословы-схоластики времен первых в Европе университетов. Если бы в самом деле Парменид рассуждал подобным образом, то с поручением Дике явно не справился бы.
Однако доказательства Парменидом тезисов, спущенных ему «сверху», скорее всего, строились иначе. В поэме богиня Дике открывает юному философу некий факт, не замечаемый людьми: в мышлении нельзя фиксировать то, что открывается в мгновении. Человечеству мир не открыт, а приоткрыт: в этом состоит суть мгновения. Мир открывается человеку и тут же закрывается уходом в прошлое; то же самое в следующее мгновение. В мгновение нельзя всмотреться в мир, ибо при всматривании мгновение замещается интервалом времени. Разница возникает принципиальная: в мгновении нет «движений», в «интервале времени» движение не только есть, но оно всеобще. Так возникает представление о «двух путях» и появляются две части поэмы.
В философии Парменида центральное понятие – «мгновение»; оно не выражено явно. Но, говоря гегелевским языком, мгновение есть синтез бытия и небытия, – о них и ведёт речь Парменид. Мгновение для людей есть такое настоящее, которое появляется, исчезая, и исчезая, появляется вновь. Поэтому объявлять Парменида «метафизиком» (догматиком), учитывая, что его последователь Зенон оказывается «изобретателем диалектики», довольно несообразно.
Парменида не стоит поверять Гегелем: Гегель в изобретении своего центрального понятия «становление», что называется, хитрил ради красивого изложения «системы». Хитрость состоит в следующем. Как известно, «Наука логики» начинается с абстрактного понятия «бытие», которое Гегель якобы заимствовал в начальной истории философии у Парменида. На самом деле это не совсем так. В начале «Науки логики» Гегель подверг логическому анализу само понятие «начало». «Начало» – как понятие – означает то, что уже есть, но и то, чего ещё нет. При логическом анализе противоречивости «начала» автоматически появляются два новых понятия: «бытие» и «небытие». То есть Гегель эти понятия открыл заново. Но, поскольку авторство терминов было закреплено за Парменидом, Гегель свое открытие не стал афишировать, а обыграл в виде выстроенной антитезы под именами Парменида и Гераклита. Впоследствии Гераклит на фоне радикального Кратила не сильно пострадал. Пармениду повезло меньше: он стал выглядеть в свете гегелевской трактовки абстрактно мыслящим догматиком.
Дух парменидовской философии адекватнее представлен в таких работах М. Хайдеггера, как «Бытие и время», «Время и бытие». Дело в том, что Хайдеггер, как ранее Гегель, заново открывает понятие «бытие» (не слово, не термин). Эта история известна. В зимний семестр 1921–1922 гг. Хайдеггер читал лекции «Феноменологические интерпретации Аристотеля». При изучении «Категорий» Аристотеля Хайдеггер и открыл для себя «бытие». «Довольно смутно задело меня рассуждение, – писал он, – если сущее сказывается в различных значениях, то какое сущее в таком случае имеет значение путеводное и основное? Что есть бытие?» [11, с. 6]. По иронии судьбы Хайдеггер пришёл к толкованию «бытия» через Аристотеля, но Аристотель недвусмысленно избегал этого термина, заменяя на «сущность», «сущее». Хайдеггер скрестил парменидовское «бытие» с аристотелевским «сущим», так получилось знаменитое «бытие как присутствие» (Dasain). На первоначальном этапе хайдеггеровского философствования всё шло успешно, однако чем более Хайдеггер погружался в свою «артистичную герменевтику» (Т.В. Васильева), тем темнее становилось «бытие»: химера взяла своё.
Очевидно, что в настоящем времени «бытие» есть «присутствие». Можно ли то же самое сказать о прошлом и будущем? Прошлое, которого уже нет, и будущее, которого еще нет, – они являют ли собой «присутствие»? В человеческом опыте – нет; «прошлое» и «будущее» сами по себе суть «небытие». Хайдеггеру в этом «общем мнении» совершенно справедливо видится подвох. Тут и уместно вспомнить парменидовское «небытия нет». В таком случае придётся признать, «прошлое» и «будущее» тоже есть («присутствуют»). Их «присутствие» Хайдеггер определяет как «четвертое измерение» времени – робко, эскизно. «Четвёртое измерение времени» в человеческом опыте проявилось в качестве «канона» = «логики». Логика не в формах человеческого мышления, а в онтологии времени.
Логика существует как такое время, которое за пределами прошлого, настоящего и будущего. Можно сказать, логика не в процессе, а в картине (мгновения, вечности). Откровение, ниспосланное богиней Пармениду, состояло в том, что мир открывается богам как картина, в которой прошлое, настоящее и будущее выстроены в один ряд и созерцаемы одновременно. Получается, что на одной картине богами созерцаются такие «исторические события», как, например, человек родился, женился, обзавелся потомками, что-то свершил, помер. И так все поколения всех людей.
У людей от возможности подобных знаний («с древа познания») возникают вопросы по поводу фатального предопределения: если есть знание будущего, можно ли его изменить? Ответ состоит в том, что для богов мир природы всегда в прошлом; для богов мир есть картина, не процесс. Наше человеческое «будущее» для богов уже «прошлое»: в прошлом ничего изменить нельзя. При взгляде «сверху» процесс (исторический) сам по себе неинтересен; неинтересен уже потому, что результат не содержит никакой интриги. Парменид в своей философии ищет ту точку зрения (близкую богам), с которой интересна именно картина бытия, не процесс. Например, для того чтобы созерцать интересную картину, необязательно последовательно наблюдать за её писанием.
Значение Парменида в философии не сводится к тому, что он изобрел странный термин «бытие» (буквально «то, что есть»), дав повод Гегелю удачно начать «Науку логики». И не в том, что последователь Парменида по имени Зенон стал «изобретателем диалектики». Значение Парменида прежде всего в том, что он выступил против антропоморфизма в философии, подобно тому, как Ксенофан выступал против антропоморфизма в религии. Надо признать, что именно с Парменида и благодаря Пармениду в западной философии возникло убеждение, что философия – это не «учения», а «точки зрения». Богиня правосудия Дике не излагает Пармениду какого-либо учения; она раскрывает только «точку зрения» богов, не людей. Парменид призывает современников признать реализм этой точки зрения, само право иной точки зрения на существование. Реальная «точка зрения» за пределами общего мнения – вот «зерно истины» западной философии, начиная с Парменида.
Из биографии Парменида известно немного. В частности, известно, что Парменид, в отличие от Ксенофана, не отличался тягой к путешествиям. Родился, жил и умер в родном городе Элея, в юго-западной части Апеннинского полуострова. Городок расположен на холмистой местности, вблизи побережья Террентского моря. Каких-либо полезных ископаемых рядом нет, особо привлекательных бухт тоже. Единственной привлекательной чертой города являются благополучие и красота местности. Городок возник как типичный полис ради самостоятельной жизни населения. В России такие городки называются «уездными»: они не центры мировой торговли, промышленности, культуры. Просто «городок». По-видимому, городок Элея был настолько привлекательным, что профессиональный путешественник Ксенофан решил именно здесь провести остаток своих лет, – еще и других уговаривал последовать его примеру. Диоген Лаэртский об Элее отозвался как о «неприметной общине, умеющей только вскармливать достойных людей» (Диаген Лаэртский, 1979, с. 368). Парменид родился в благополучной семье «коренных жителей», что давало ощущение уверенности и основательности. Естественно, он принимал участие в гражданской жизни общества, включая вопросы правосудия. Сохранились свидетельства о «надменности» Парменида, что было характерным едва ли не для всех «досократиков». Склонность к поэзии тоже не способствует излишней скромности. Парменид был типичным представителем «общества знати». Широкий кругозор, обеспеченный досуг, интерес к таинствам всегда отличали отдельных представителей «общества знати». Тяга к философии и стихосложению лишь дополняют типичный портрет хорошо воспитанного человека «общества знати», каким и был Парменид. Красивый город, разумные учителя в лице Пифагора и Ксенофана, талантливые ученики Зенон и Эмпедокл, – судьба благоприятствовала Пармениду в том, чтобы оставить свой яркий след в философии.
Славе Парменида во многом способствовало творчество его слушателя Зенона. Зенон, как и Парменид, принадлежал к «обществу знати» в своём родном городе. В области собственно философии Зенон не сделал ничего; он не выдвигал свою точку зрения по поводу миропонимания. Но он мастерски использовал открытие пифагорейцами иррациональности в математике для обоснования философии Парменида. Вероятно, по своим природным дарованиям Зенон был математиком, лишь волею судьбы вовлеченным в философско-поэтическое творчество Парменида. Аристотель назвал Зенона «изобретателем диалектики» – молодого человека, а не прославленного Платона. Между тем слушателем Зенона был Горгий, «изобретатель софистики». Это тоже неслучайно. Своим апориям Зенон придал художественную форму в расчете на «шоу». Например, в «Дихотомии» деление пополам совершенно необязательно, а если настаивать на логике, то и невозможно: нет такой точки под названием «начало» или «середина». По определению Евклида, «точка есть то, часть чего ничто»; понятно, что переход от «части» к «ничто» бесконечен. Кроме того, необязательно определять «дихотомию» как «деление пополам», можно как деление на любые части; например: «прежде чем пройти треть пути, надо пройти треть трети пути и т. д.». Речь о «делении пополам» – не более чем декорация в рассуждении, нет никакого отношения к дихотомии в логике.
Зенон из личного общения с Парменидом правильно понял, что речь идёт об откровении, которое требуется не только донести до людей, но и заставить принять даже при сопротивлении со стороны «пустоголового племени». Ход выполнения задания вполне аналогичен, например, шахматной партии, когда в результате последовательных ходов ставят противника в «безвыходное положение» («мат»). Слово «апория», собственно, и означает «безвыходное положение» (буквально «отсутствие переправы»). Одна из задач для Зенона состояла в том, чтобы «поставить мат» понятию «движение». Такую же задачу позднее по-своему решил Жан Буридан (сказ про «буриданова осла»). Проблема возможности или невозможности движения решалась также атомистами. Чтобы обосновать возможность движения, Демокриту пришлось постулировать наличие «пустоты», а Эпикуру еще предоставить атомам право самопроизвольно «отклоняться» (с поправкой от Эпикура буриданов осёл вышел бы из «точки бифуркации»). Аристотель по поводу рассуждений атомистов предпочитал острить: движение в пустоте невозможно, поскольку невозможно одно пустое место сменить на другое – они неразличимы.
Апории Зенона задумывались их автором как логическое шоу умного человека, привыкшего рассчитывать партию на много ходов вперед. В основе всех апорий открытие иррациональностей в арифметике и геометрии. Заслуга Зенона в том, что апории перевели проблему иррациональностей с математики на физику. Случайно возникший термин «метафизика» как нельзя лучше подходит именно к апориям Зенона.
В истории элейской философии можно видеть связную цепь вроде бы случайных событий, в результате которых западная философии круто развернулась в сторону своей будущей классики в лице Платона и Аристотеля. Случайно ли Пифагор и Ксенофан, оба из Ионии, оказались в конце жизни на другом конце Эллады, в пешей доступности друг от друга? Случайно ли Ксенофан для постоянного места жительства выбирает малоизвестный городок, в котором суждено было родиться сначала Пармениду, а спустя несколько десятилетий Зенону? Случайно ли Парменид знакомится с философией Пифагора, а под влиянием Ксенофана начинает философию излагать стихами? Случайно ли в порыве поэтических вдохновений к законодателю Пармениду приходит Откровение от богини правосудия Дике, которое в итоге оборачивается парадоксальной «философией элеатов»? Случайно ли, что для признания Откровения и, соответственно, разворота философской мысли во всей Элладе, в Элее рождается человек с удивительными «математическими способностями» – Зенон? Зенон успевает выполнить миссию своей жизни в виде тех самых «апорий» еще в молодости, затем успевает передать свой опыт Горгию, после чего трагически погибает со славой героя. Горгий в своем скептическом творчестве подрывает авторитет всех «фисиологов» с их кустарной физикой, после чего против софистики Горгия выступает молодой и дерзкий Сократ со своим «демоном». Совершенно очевидно, что без элейской философии западная наука рано или поздно состоялась бы, но западная философия – никогда. Слишком длинная цепь «случайных» факторов обернулась «греческим чудом», частью которого была философия.
Об авторах
Виктор Валентинович Костецкий
Санкт-Петербургский государственный академический Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств
Автор, ответственный за переписку.
Email: kostavictor@yandex.ru
SPIN-код: 5878-8598
доктор философских наук, профессор
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Хайдеггер, М. Время и бытие / М. Хайдеггер. – Москва: Республика, 1993. – 447 c.
- Эмпирик, С. Сочинения: в 2 т. / С. Эмпирик. – Москва: Мысль, 1976.
- Комарова, В.Я. Учение Зенона Элейского / В.Я. Комарова. – Ленинград: ЛГУ, 1988. – 264 с.
- Костецкий, В.В. О терминологии измененных состояний сознания / В.В. Костецкий // Измененные состояния сознания. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2006.
- Хайдеггер, М. Исток художественного творения / М. Хайдеггер. – Москва: Академический Проект, 2008. – 526 с.
- Асмус, В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – Москва: Высшая школа, 1976. – 544 с.
- Маковельский, А.О. Досократики. Доэлеатский и элеатский периоды / А.О. Маковельский. – Минск: Харвест, 1999. – 784 с.
- Целлер, Э. Очерки истории греческой философии / Э. Целлер. – Москва: Канон, 1996. – 296 с.
- Гомперц, Т. Греческие мыслители / Т. Гомперц. – Минск: Харвест, 1999. – 752 с.
- Чанышев, А.Н. Курс лекций по древней философии / А.Н. Чанышев. – Москва: Высшая школа, 1981. – 374 с.
- Артёменко, Н.А. Хайдеггеровская «потерянная рукопись»: на пути к «бытию и времени» / Н.А. Артёменко. – Санкт-Петербург: Гуманитарная академия, 2012. – 128 с.
Дополнительные файлы