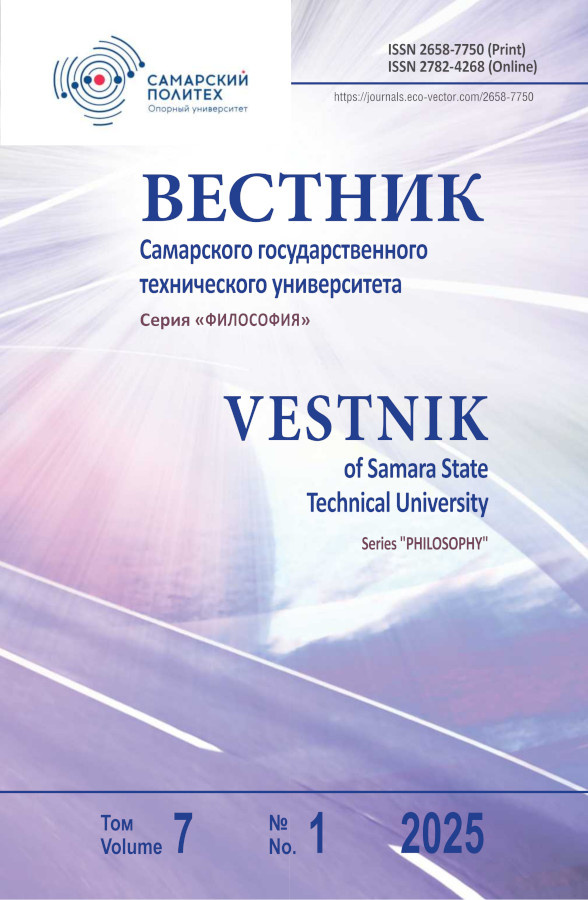The Review of the monograph by V.V. Kostetsky "The Hidden Pages of the History of Western Philosophy"
- Authors: Faritov V.T.1
-
Affiliations:
- Samara State Technical University
- Issue: Vol 7, No 1 (2025)
- Pages: 140-144
- Section: SCIENTIFIC LIFE. REVIEWS
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692904
- ID: 692904
Cite item
Full Text
Abstract
The review is dedicated to the recently published monograph by Doctor of Philosophy, Professor Viktor Valentinovich Kostetsky "Hidden Pages of Western Philosophy."
Keywords
Full Text
ХХ столетие в истории западной философии отмечено всевозможными «поворотами»: лингвистический поворот, исторический поворот, коммуникативный поворот, пространственный поворот… ХХ век – эпоха глобальных поворотов. Но ХХ век – это еще и эпоха всевозможных смертей. На излете XIX столетия Ницше провозгласил смерть Бога. За этим событием последовали смерть автора, смерть субъекта. И наконец – смерть философии, дополнившая коллекцию постмодернистских некрофильских трендов: «Умерла ли философия вчера, после Гегеля, Маркса, Ницше или Хайдеггера – так что ей еще только предстоит направиться к смыслу своей смерти, – или же она всегда только тем и жила, что чувствовала свое приближение к смерти…» [1, с. 124]. Уже в начале прошлого века Освальд Шпенглер дает, пожалуй, одну из наиболее пессимистических оценок состояния современной философии: «Очевидно утрачено понимание конечного смысла философской деятельности. Ее смешивают с проповедью, агитацией, фельетоном или специальной наукой. Перспективу птичьего полета заменили перспективой лягушки. Речь идет о деле величайшей серьезности: возможно ли вообще сегодня или завтра существование настоящей философии? В противном случае было бы благоразумнее стать плантатором или инженером, чем-нибудь настоящим и подлинным, вместо того чтобы пережевывать затасканные темы под предлогом «новейшего подъема философского мышления», и лучше построить мотор для летательного аппарата, чем новую и столь же излишнюю теорию апперцепции. Действительно, жалкое содержание жизни, посвященной тому, чтобы еще лишний раз и немножко по-иному, чем это делала сотня предшественников, формулировать понятие воли и психофизического параллелизма. Допускаю, что это может быть «профессией», но это отнюдь не философия. О том, что не охватывает и не изменяет всей жизни эпохи вплоть до ее сокровенных глубин, лучше было бы не говорить. И то, что вчера было возможно, сегодня является по меньшей мере ненужным» [2, с. 65–66]. Причину столь безнадежного состояния философской мысли в современную эпоху Шпенглер усматривает в неотвратимых закономерностях истории культуры: «Век чисто экспансивной деятельности, лишенный высшей художественной и метафизической продуктивности, – скажем короче – век иррелигиозности, что вполне покрывается понятием об укладе жизни мирового города, – есть эпоха упадка. Несомненно. Но не мы выбрали это время. Мы не властны изменить того положения, что родились людьми начинающейся зимы полной цивилизации, а не на солнечных высотах зрелой культуры времени Фидия или Моцарта. Все сводится к тому, чтобы уяснить себе это положение, эту судьбу, и понять, что, как бы мы ни обманывали себя относительно действительного состояния вещей, мы не можем перешагнуть через него. Кто не сознает этого, не имеет места среди своего поколения. Он останется глупцом, шарлатаном или педантом» [2, с. 67].
Фридрих Ницше предвидел грядущее вырождение всех форм европейской культуры, Шпенглер уже констатирует факт: «Целый мир уже отделяет время Ницше, когда еще витало последнее дыхание романтики, от современности, окончательно порвавшей со всякой романтикой» [2, с. 67]. Западная философская мысль вступила в ту самую пору упадка и разложения, которой некогда завершалась философия античности: «Систематическая философия получила свое завершение в исходе XVIII столетия. Кант заключил ее крайние возможности в величественные и – для западноевропейского духа – во многих случаях окончательные формы. Вслед за ней следовала, подобно тому, как это было после Платона и Аристотеля, специфически городская, не спекулятивная, а практическая, иррелигиозная, этико-общественная философия» [2, с. 68].
Со времени пессимистических констатаций и прогнозов Шпенглера прошло уже сто с лишним лет. За этот период философия из стадии агонии, сопровождающейся предсмертными судорогами, перешла в стадию клинической смерти. Пульс не прощупывается, последние следы мозговой активности угасают… Однако философия в состоянии клинической смерти – весьма интересный и поучительный объект для научных наблюдений. Зафиксируем основные признаки этого современного состояния философской мысли. Нужно успеть сделать это именно сейчас – ибо совсем скоро начнется разложение мертвого организма…
Впрочем, в ХХ столетии было немало и тех, кто отнесся к книге немецкого философа скептически. В лагере скептиков, как известно, был и вождь нацистской Германии, заявивший, что не верит в закат Европы. Шпенглер, узнав об этом, сказал, что фюрер прочитал его книгу в объеме титульного листа. То обстоятельство, что и в настоящее время еще встречаются противники учения о закате Европы, очевидно, знакомые с двухтомным трактатом Шпенглера в объеме заглавия, нас в данном случае не интересует.
В сложившейся ситуации остается еще один путь, который может на некоторое время продлить жизнь западной философии, – это путь прочтений, направленных на придание старым текстам новых и нестандартных смыслов. По сути, это путь деструкции-«деконструкции», на который ступила уже сама западная философия в кризисный период своего существования.
В этой связи обращает на себя внимание вышедшая в 2024 году в петербургском издательстве «Алетейя» монография профессора В.В. Костецкого «Потаенные страницы западной философии». Как уже следует из заглавия, данная книга не является очередной историей западной философии. Внимание автора сфокусировано не на истории, но на проблеме чтения и пересказа классических текстов западной философской мысли: «Монография профессора В.В. Костецкого посвящена проблеме пересказа классических философских текстов, которые поддаются переводу, но не поддаются рациональному пересказу. Как правило, вместо пересказа для лекций или справочных изданий предлагается экскурсия по цитатам с произвольным комментарием в виде биографий и классификаций. Автор, опираясь на собственную методологию философских и историко-философских исследований, ставит себе задачей решение ряда проблем по пересказу наиболее «тёмных концепций западной философии, главным образом связанных с «философией языка»» [3, с. 4].
Таким образом, техника и методология чтения вновь становится доминантой в философском мышлении: «Конечно, потаенные страницы философии могут раскрыть свои смыслы, только в каждом отдельном случае требуется индивидуальный способ чтения. Чаще всего требуется иное прочтение ключевого термина в отдельном фрагменте текста, который есть, но неизвестно какой. Возможны и иные случаи, когда, например, фрагменты текста сохранились в виде цитат, но в цитатах ключевые термины отсутствуют. Возможно, когда в тексте ключевой термин определяется только по контекстам, причем каждый раз по-разному. Например, понятие «дух» в философии Гегеля предполагается понятным при определенном способе образованности читателей. Кому изначально непонятен «дух», тому Гегель не желает его объяснять. Аналогичным образом Аристотель не счел нужным пояснить, что он понимает под «категориями»» [3, с. 15].
Не переживаем ли мы сейчас, в XXI первом столетии, реставрацию схоластического метода мышления, в котором философствование велось преимущественно посредством чтения и комментирования текстов уже давно погибшей античной цивилизации? Современная ситуация очень сильно напоминает середину XIII века, когда Фома Аквинский пишет свои комментарии к трудам Аристотеля. Доминиканец ставил своей задачей раскрыть смыслы потаенных страниц античной философии, руководствуясь особым, индивидуальным способом чтения. К тому времени страницы произведений античных философов стали уже в достаточной степени потаенными, поскольку породившая их культура больше не существовала. Остались только тексты, лишенные живой и непосредственной связи с культурно-историческим и цивилизационным контекстом, вырванные из той почвы, на которой они произрастали. Читать тексты ушедшей в прошлое цивилизации в контексте совсем иной, только еще пробуждающейся культуры – задача, ставящая особые требования перед техникой чтения. И вот в настоящем столетии мы снова стоим перед аналогичной проблемой. Как читать тексты, относящиеся к наследию западной философии, когда самой западной цивилизации уже давно поставлен смертельный диагноз?
В книге профессора В.В. Костецкого мы читаем: «При подготовке монографии автора побуждало к историко-философским исследованиям личное убеждение в том, что «реконструкция» странной точки зрения, как правило, не имеет никакого отношения к «интерпретации». Чужая точка зрения, тем более чуждая известным «нарративам», не познаваема, но узнаваема. Как узнаваема речь при всех пороках дикции, как узнаваемы персонажи при всех карикатурных трансформациях. Яркую точку зрения не могут испортить не только плохие переводы с языка на язык, провалы в тексте, но даже полное отсутствие текстов. Единственное условие – не надо заниматься «интерпретацией»» [3, с. 17–18]. И далее: «Каждый, обученный грамоте, может читать. Образованные люди могут даже знать значения всех слов в прочитанном тексте. Но если специализация текста и читателя сильно разнится, то возникает комичная ситуация: прочитать текст можно, а пересказать нельзя – не получается. Возникает только цитирование и слепой пересказ «близко к тексту». Ситуация становится далеко не комичной, когда преподаватель философии не может пересказать классический философский текст, заменяя пересказ собственным «анализом» или становясь экскурсоводом по цитатам» [3, с. 33]. Но разве не в такой же далеко не комичной ситуации оказался несколькими столетиями ранее Томас Аквинат, который ведь тоже не мог пересказать классический философский текст Аристотеля и, находясь в крайней степени отчаяния от собственного бессилия, заменял пересказ собственным анализом, «становясь экскурсоводом по цитатам»…
Новая монография В.В. Костецкого, таким образом, значима в первую очередь в том аспекте, что сама постановка проблемы и путь ее решения позволяют осознать, где, собственно, мы сейчас находимся. Для русской философской мысли кризис западной метафизики становится исходным пунктом развития. Импульс, идущий от Гегеля и Ницше, в пространстве русской философии отражается совсем иначе, нежели в сфере западной мысли. Там, где европейская метафизика срывается к собственной гибели, русский Логос начинает свое восхождение. Подобно тому, как европейская метафизика некогда начала свой путь от Платона и Аристотеля, русская философия движется, используя формулу Николая Бердяева, «от Канта через Гегеля к Ницше». А именно: с того места, на котором остановилась западная философия в учениях Гегеля и Ницше, начинается русский путь.
Конечно, книга профессора Костецкого интересна и сама по себе. Оригинальные прочтения текстов Аристотеля, Гегеля, Хайдеггера и других классиков философской мысли вызовут интерес у многих из тех, кто следит за состоянием современной философии. Особо интересен завершающий параграф под названием «Анти-Маркузе: оборотная сторона цивилизации». Книга рекомендуется к прочтению.
About the authors
Vyacheslav T. Faritov
Samara State Technical University
Author for correspondence.
Email: vfar@mail.ru
SPIN-code: 2668-5946
Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Philosophy and Social and Humanitarian Sciences
Russian Federation, SamaraReferences
- Derrida J. Letter and Distinction. Moscow: Academic project, 2000. 495 p. (In Russ.)
- Spengler O. Decline of Europe. Minsk: Harvest, Moscow: AST, 2000. 1376 p. (In Russ.)
- Kostetsky VV. Hidden pages of the history of Western philosophy. St. Petersburg: Aleteya, 2024. 424 p. (In Russ.)
Supplementary files