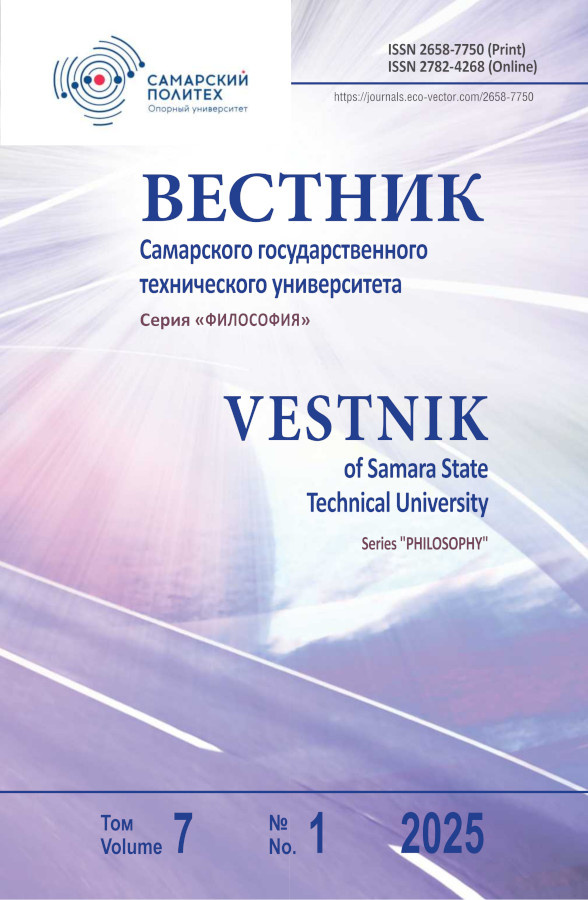Follow noble enlighteners. The review of Michael Mitias' book "Human Dialogue"
- Authors: Tajsina E.A.1
-
Affiliations:
- Kazan State Power Engineering University
- Issue: Vol 7, No 1 (2025)
- Pages: 145-151
- Section: SCIENTIFIC LIFE. REVIEWS
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692905
- ID: 692905
Cite item
Full Text
Abstract
The book “Human Dialogue” written by contemporary American philosopher Michael H. Mitias which has inspired this Essay-review, is published as part of a broader project “Towards a Universal Civilization” (Vol. 5) edited by Polish philosopher Małgorzata Czarnocka, “Peter Lang GmbH.” Publishing house, Germany. Analyzing exquisitely and redbloodedly the eternal problems of human life, such as understanding and cooperation, cognition and conversation, reason and affection, truth and values, [human] nature and essence, in general – the prospects of mankind, M. Mitias defends a thesis that humanity common to all our kin not as an abstract concept but as genus is essentially rational and unputdownably dialogical. And conversation is our allencompassing and allpervasive environment.
Full Text
Современный американский философ Майкл Митиас, анализируя вечные проблемы человеческой жизни, такие как понимание и сотрудничество, познание и беседа, разум и привязанность, истина и ценности, [человеческая] природа и сущность, а в целом – перспективы человечества, живо и заинтересованно отстаивает тезис о том, что человечность, общая для всех нас не как отвлеченное понятие, а как родовое качество, по сути своей рациональна и непреложно коммуникативна.
Можно охарактеризовать этот философский трактат в целом как удивительно искренний, образный литературный текст, передающий личное отношение к аудитории, привлекающий реальными фактами из жизни автора и воображаемыми диалогами с природными объектами и возможными оппонентами среди других захватывающих сцен. Книга написана в своеобразном стиле устной речи мастера, обращенной в основном к ученикам (или к пастве единоверцев), а также к его коллегам-ученым – университетским преподавателям, изучающим философию, искусство и науки на протяжении всей жизни.
Обращение к молодому поколению наиболее ценно – нет нужды объяснять здесь, почему, – особенно когда авторское вступление столь искреннее и действительно трогательное: «Разве учение не будет наиболее эффективным, когда идеи, аргументы, объяснения или теории передаются на крыльях человеческого света и любви?» [1, с. 35]. Поучительный эффект этого произведения подобен значению некоего трактата о воспитании, напоминающего «Эмиля» Жан-Жака Руссо, имеющего то же кредо: люди могут быть злыми, но человек добр. Такое кредо могло бы помочь в формировании поколения, которое будет лучше нашего или, по крайней мере, счастливее.
Все это делает книгу настолько привлекательной и дружелюбной, что становится жаль, когда она быстро заканчивается (в ней всего 200 страниц).
Оптимистичная вера автора в добрую волю и творческие способности человечества, помноженная на его обширную эрудицию, помогает рисовать перспективы радостного будущего человечества, более гуманного мирового порядка – счастливого при одном условии: реализации навыка межкультурного диалога, одновременно и программы «для гармоничного проживания с другими, для сотрудничества в проектах, способствующих духовному и материальному прогрессу всех народов мира» [1, с. 177]. Следующее предложение можно рассматривать как манифест автора, отражающий его взгляды: «…Первое и, возможно, самое важное направление межкультурного диалога должно происходить в сфере образования на университетском и доуниверситетском уровнях по всему миру... [выделено мной. – Э.Т.] Образовательный опыт студента должен быть глобально ориентированным. Это может повлечь за собой переписывание многих наших книг по истории, обществознанию и искусству. Почему бы и нет?» [1, с. 192]. Одним словом, эта книга – отрадное явление в современной философской литературе.
Концептуальный каркас книги
Корпус текста основан на нескольких предпосылках, которые формируют каркас всего дискурса. Главные категории, ставшие предметом исследования, это природа – реальность – сущность – разум – рациональность – диалог/разговор/связанность. Основополагающие постулаты, на которых базируется весь дискурс, можно назвать классическими: «Человечество имеет внутреннюю ценность» [1, с. 13]; «Человеческое тело – это онтический локус человечества» [1, с. 116]; «Человеческий разговор – это целенаправленная встреча с другим человеком» [1, с. 47]; «Истина – это не только освобождающая сила; это также творческая, конструктивная сила» [1, с. 194].
Еще одна максима – прочное единство разума и морали в человеческой сущности.
В сочетании с другими максимами, такими как «сущность человека не есть метафизическая или физическая сущность, это динамическая реальность» [1, с. 14]; «человеческие мотивы всегда направлены на взаимное благополучие» [1, с. 131]; «отдельное человеческое существо растет и развивается в среде рационального разговора; последний является наиболее эффективным методом преобразования агломерации в человеческое сообщество» [1, с. 188], они образуют теоретическую основу трактата.
Некоторые максимы можно считать само собой разумеющимися, поскольку они представляют собой знаменитые «первые принципы» или аксиомы, как, например, «Человеческая природа по сути своей рациональна…» [1, с. 12]; «Несмотря на свое разнообразие, человеческие культуры являются различными выражениями человеческой природы» [1, с. 16]; «Человечество не продается, оно бесценно» [1, с. 132]. Некоторые другие требуют обсуждения и нуждаются в обосновании: например, «…человеческая и природная реальность по сути своей рациональны» [1, с. 64]; как, конечно, и идеи о роли и условиях диалога: «…Необходимое условие возможности адекватной концепции человеческого диалога должно исходить из адекватного понимания диалога как человеческого события» [1, с. 11]; «…Человеческая сущность есть рациональный разговор» [1, с. 67]; «В этом типе опыта нет линий, стен, границ или пропастей… в подлинной человеческой встрече два человеческих луча света охватывают друг друга» [1, с. 31–32].
Обсуждение этих тем последует за предварительным изложением основ и открытий, сделанных в трактате «Человеческий диалог».
Огромная заслуга Майкла Митиаса в том, что он убедительно самостоятелен во всех выводах, доказательствах и опровержениях, нарушает неписаное строгое правило постмодернистских, то есть современных нам, философов, а именно: использование перекрестных цитат, бесконечных комментариев, вольных толкований, иронии, подпитка чужими текстами, воспроизведение отрывков из культур прошлых эпох и т. д. Автор серьезен, он находится в состоянии вдохновения и уверен в себе, занимая более высокую позицию в своем дискурсе, не сплетая его как макраме цитат, а представляя панораму собственного мировоззрения, т. е. картину всего мира, сердцем которого является отважный человек.
Было бы очень неправильно считать автора наивным. М. Митиас с первых страниц заявляет о своем трезвом знакомстве с человеческими недостатками и пороками: «Я сознаю, что царство человечности есть и останется далекой страной» [1, с. 13]. Он указывает на эгоизм, гегемонию, манипуляцию и глупость, процветающие в человеческом мире, полном тех, кто «стремится использовать других людей как товар». Напротив, тех, кто желает истинной человеческой коммуникации, «в высшем значении человеческого присутствия», немного. «Но хотя этот тип человеческого разговора не является обычным, как не является обычной и настоящая дружба, тем не менее, мы всегда должны желать его и искать его» [1, с. 31].
В книге много страниц, содержащих дискуссии и даже полемику с вероятным критиком. Например, оппонент сомневается в том, что человеческая природа столь рациональна, как утверждает в своем тексте М. Митиас. Очевидно, что иррациональность преобладает и правит на индивидуальном и коллективном уровнях.
Предвосхищая воображаемую критику Зоила, автор подробно, живо и остроумно, с прекрасным чувством юмора излагает свою позицию.
Так, анализируя в «Государстве» Платона диалоги Сократа с Фрасимахом, в которых последний выдвигает идеи морали, права и особенно справедливости как противоестественные для людей, М. Митиас реагирует с тонкой усмешкой: «Мы должны согласиться с Фрасимахом и натуралистами в целом, что справедливость или добро не существуют как физическая часть естественной конституции человека... Но позвольте мне задаться вопросом, в каком именно качестве Фрасимах беседовал с Сократом – как естественное или как разумное существо? Какой импульс, какое иное побуждение лежали в основе их разговора, как не недвусмысленнное желание [логически] установить истинность своих убеждений?» [1, с. 115]. Хотя «Фрасимах» по-гречески означает «агрессивный воин» и вел он себя соответственно, – ему пришлось уступить сначала Сократу, почувствовав себя смущенным и почти растерянным в конце спора, – а сегодня и M. Митиасу.
Основные идеи
В «Человеческом диалоге» много захватывающих идей. Перечислим и назовем лишь несколько из них: в своей собственной формулировке М. Митиас характеризует человека как прежде всего интеллектуальное существо: «…бытие в качестве логоса есть определяющая черта человечества» [1, с. 17]. Предполагаю, что автор имеет здесь в виду не понятие «человечность», которое должно быть формально определено, а именно само человечество как род; таким образом, эта фраза является поэтической интерпретацией латинского определения: homo [есть] sapiens.
Наиболее верны следующие суждения о природе и способах ее познания: «Предметы опыта суть глубины бытия. Их сущность скрыта в их глубине. Она раскрывается в процессе познания или объяснения природы мира как упорядоченного целого» [1, с. 57]. Описание процесса познания также, несомненно, правильно: «…Наше знание о природном объекте представляет собой неисчерпаемую возможность для дальнейшего усиления. Чем больше мы исследуем эти возможности, тем больше мы продвигаемся в нашем знании о природном объекте» [1, с. 58–59]. Именно объективно существующий систематический порядок самой природы обеспечивает и делает возможным систематический порядок знания, побуждая тем самым некоторых философов – и среди них Митиаса – принимать мировой порядок за его рациональность: «Объект есть разумная реальность в силу своей существенной формы или структуры». [1, с. 58]. «...Вслед за Гегелем я подчеркивал посылку о том, что человеческая и природная реальность по сути своей рациональны» [1, с. 64]. Последний пункт, конечно, спорный, и спору этому уже примерно 2500 лет…
Первые три главы книги – «Человек есть разговор», «Диалог как основа человеческой жизни» и «О возможности человеческого диалога», а также введение посвящены изучению человеческой природы и сущности, показывают ядро этой сущности и устанавливают ключевые условия диалога, главным образом на личностном уровне. «В человеческом разговоре два человеческих мира не только предстают друг перед другом, но и соединяются друг с другом» [1, с. 31]. И в самом деле, общающиеся умы не слишком заботятся о цвете глаз или волос другого, росте, поле, возрасте, особенностях этнической культуры, воспитания или даже о Dasein: «Дух не обладает осознанием или местом для этих или любых других видов частностей; напротив…» [1, с. 31–32]. Другими словами, в истинной связанности разумов одна человеческая сущность разговаривает с другой человеческой сущностью, «сапиенс» с «сапиенсом» – и оба обретают свою идентичность друг через друга. «Быть в коммуникации – значит находиться в состоянии связанности с другой человеческой реальностью. …Я есть то, что я есть, в силу диалогических отношений, которые я устанавливаю с другими людьми» [1, с. 67]. Следующая идея звучит поистине захватывающе: «В искреннем разговоре я не только понимаю, что говорит другой человек, но я также понимаю его самого… Разве в разговоре мы не различаем, серьезен ли другой человек, фальшивит он или просто торгует идеями?» [1, с. 32].
Действительно, многие из нас недооценивают разговоры, не содержащие важной для бизнеса, политики или науки информации. Тогда нам следует серьезно пересмотреть свои оценки, скажем, текстов Хемингуэя; отличаются ли его простые короткие диалоги от заурядных, повседневных телефонных разговоров? Нет. Дело в том, что мы воспринимаем не только лексику, но и всевозможные иллокутивные и перлокутивные «речевые акты», обрамляющие языковую формулировку. Мы не можем игнорировать общий смысл поля коммуникации, внепространственную территорию, где «живет» разговор. Конечно, он не может быть передан без слов, потому что фоновые знания не могут существовать без фокусных знаний. Однако диалог передает не только концептуальное содержание, выражаемое в логических формах познания («локутивный акт»), но и многое другое. В замечаниях, которыми обмениваются коммуникаторы, важна не только когнитивная сторона, то есть собственно концептуальная информация, но и пестрый веер модальностей. Коммуникация не лежит в области словарных определений.
Вот как определяет М. Митиас это различие двух основных способов ведения беседы: «Первый направлен на понимание, а второй направлен на человеческое общение. Первый – словесный и понятийный, а второй – молчаливый и понимающий. Первый – инструментальный, а второй – внутренний, имманентный» [1, с. 33].
Это хорошо сочетается с взглядами американской писательницы Деборы Таннен. В своей книге «Это не то, что я имела в виду! Как разговорный стиль создает или разрушает отношения» она объясняет: что, как мы говорим – насколько громко и быстро, с какой интонацией и ударением – это метасообщение, и оно несет в себе социальный смысл. Мы испытываем, дразним, флиртуем, объясняем, преследуем, просим; ведем себя дружелюбно, враждебно или таинственно; выражаем свое желание приблизиться или отстраниться. Метасообщение – это область невербальной коммуникации, содержание которой – базовое социальное противоречие, всегда существующее в личной форме; это двойное стремление: желание быть независимым и столь же сильное желание быть включенным в группу. Как говорит М. Митиас, «человеческая связанность, которая является сутью человеческого присутствия, является... по сути разговорной. ...Независимо от ее вида или способа существования ее локусом всегда является живая связанность между двумя людьми» [1, с. 32].
На самом деле не только между двумя людьми. Это может быть бесконечный разговор с самим собой: «...Жизнь человека есть непрерывный процесс самодиалога» [1, с. 89–90]. Это очень важно: «...Самодиалог, направленный на самопознание, есть необходимое условие человеческого роста и развития... необходимое условие для жизни, достойной того, чтобы ее прожить». [1, с. 101]. Такой «диалог», хотя он в основном помогает размышлять о социальном или природном мире, служит в то же время развитию индивидуальности и способности взаимодействовать с любыми жизненными ситуациями.
Это также может быть «полилог». В последней четверти текста имеется следующее определение: «В широком смысле диалог – это рациональная беседа между двумя или более лицами» (курсив мой. – Э.Т.) [1, с. 180]. В последних трех главах – «Межинституциональный диалог», «Возможность дружбы между религиями» и «Межкультурный диалог» – автор анализирует не личный, а коллективный диалог и его условия.
Устанавливая необходимое условие диалога – нацеленность на понимание, М. Митиас развивает это соображение: «...Суть межкультурного диалога не... только в понимании другого, но и в использовании этого понимания для создания условий для признания и уважения другого...» (курсив мой. – Э.Т.) [1, с. 177]. Эта точка зрения указывает философам Просвещения и тем, кто в современную эпоху принимает их благородное учение, верное направление, как Полярная звезда.
Говоря о коммуникаторах и обсуждая их роль как агентов, акторов, «актантов», одним словом, как субъектов диалога, М. Митиас справедливо замечает: «…Онтологически рассуждая, хотя коллективный субъект не может действовать как индивидуальный субъект, он тем не менее может действовать как коллективный субъект» (курсив мой. – Э.Т.) [1, с. 160]. Это подтверждает, что общие правила ведения диалога между людьми могут и должны быть экстраполированы на отношения государств, наций, церквей, культур, всех институтов, составляющих структуру обществ. М. Митиас занимает твердую демократическую позицию: «Таким образом, разговор о диалоге между культурами, например, должен включать метод или механизм общения между народами таким образом, чтобы по крайней мере большинство людей были вовлечены в это общение, в противном случае диалог будет ограничен несколькими представителями народа» [1, с. 178].
Таким образом, чтобы убедить массы, следует сконструировать «метод или механизм» вовлечения в общение. В последнем разделе – «Места межкультурного диалога» – представлены четыре способа достижения этой цели или, по крайней мере, продвижения к ней. Главный метод, как уже было сказано, – это надлежащее образование [1, с. 192]. Для этого преподаватели также должны развиваться, принимая участие, в частности, в образовательном обмене, «особенно между более и менее развитыми странами». В некотором смысле это уже происходит: «Академический мир становится более универсалистским и менее провинциальным в своей ориентации» [1, с. 194]. Образовательное сотрудничество между высшими учебными заведениями должно быть дополнено обменом новыми художественными программами: «живопись, танец, музыка, театр, кино и популярное искусство между как можно большим количеством стран». Все эти прогрессивные шаги должны быть подкреплены «переориентацией мировых СМИ»: телевидения, кино, Интернета и радио. Они должны быть направлены на «свободу, толерантность, сотрудничество, бережное отношение к окружающей среде, справедливость, достоинство человека и человеческого сообщества, не говоря уже о других важных ценностях» [1, с. 193]. Мы имеем полное право назвать эту социальную программу «Продвижение и реализация [незавершенного] проекта Просвещения».
Заключение
Философ живет не в каком-то одном определенном географическом месте, скажем, в Гринвиче, штат Коннектикут, США; его дом – обширная сфера, где Платон (Сократ) и Аристотель, Декарт и Спиноза, Кант и Гегель, Брентано и Уайтхед, а также некоторые новейшие мыслители, сведущие как в диалоге, так и «умном экстазе», пребывают, объединенные универсальным пространством и временем, образуя compos mentis, символизирующий человеческую мудрость.
М. Митиас завершает свой трактат такими афоризмами: «Высшие ценности, лежащие в основе нашего проекта, – это индивидуальность и общность. Единственная философия, которая провозгласила эти ценности в качестве принципов, каковые должны направлять политику на национальном и международном уровнях, – это Универсализм как метафилософия» (курсив мой. – Э.Т.) [1, с. 192].
Характеризуя философские взгляды М. Митиаса на природу, роль и функцию человеческого диалога (поскольку таково название всей книги), можно привести следующую цитату: «...Диалог есть... рациональная беседа двух коллективных субъектов в атмосфере свободы, уважения, равенства, доверия и приверженности истине» [1, c. 80].
Обобщая, хотелось бы сказать следующее. Книга написана в подкупающе доверительном стиле исповедального повествования. В ней как будто даже слышится голос автора – профессора, а часто – взволнованного проповедника.
Текст изобилует стилистическими приемами: обилие анафор, метафор, переговоров и полемики с воображаемым «Зоилом», сотни риторических вопросов, даже эпифор и личных историй. В нем много привлекательных изображений человека, в основном обозначающих свет. Есть художественные образы: «капитан корабля, плывущего по волнам шторма»; «разум слеп, как слепа богиня правосудия». Мировоззрение М. Митиаса можно реконструировать из следующих суждений: «Я верю, что ни технология, ни экономическая жадность, ни политическая слепота не могут заглушить голос или затмить свет человеческой сущности»; «только те, кто стремится к добру и реализует его в своей жизни, имеют право на венец счастья».
Философско-литературная тенденция, которой следует и которую развивает М. Митиас, можно именовать романтическим реализмом.
About the authors
Emilia A. Tajsina
Kazan State Power Engineering University
Author for correspondence.
Email: emily_tajsin@inbox.ru
SPIN-code: 6974-2745
Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Philosophy and Media Communications
Russian Federation, KazanReferences
- Mitias MH. Human dialogue. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2023. 202 p.
Supplementary files