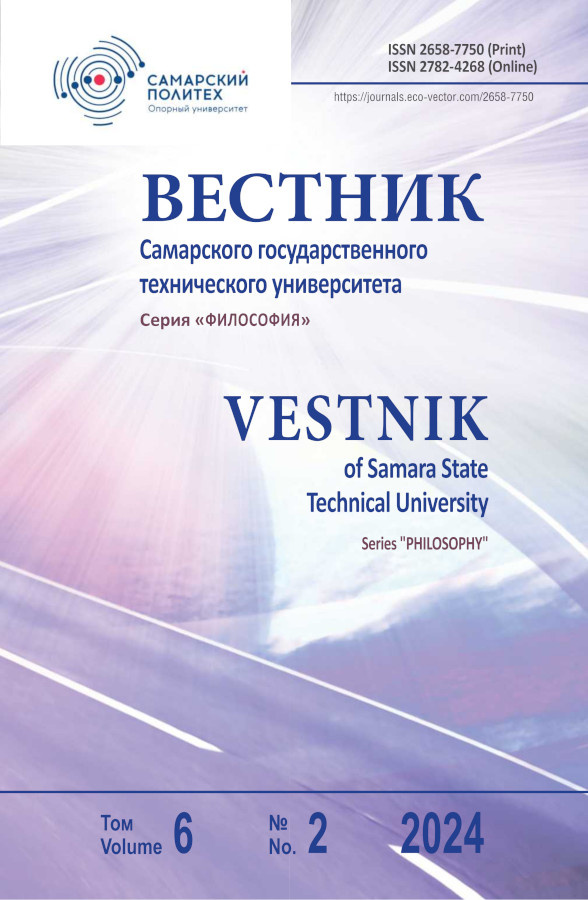Risks of introducing the new technologies into civil litigation: phenomenological and hermeneutical research
- Authors: Monastyrskaya I.A.1, Malkov A.V.1, Pipia A.T.1
-
Affiliations:
- Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
- Issue: Vol 6, No 2 (2024)
- Pages: 48-58
- Section: ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/693095
- ID: 693095
Cite item
Full Text
Abstract
The article examines the relevance of applying phenomenological and hermeneutical research to solving key problems facing society in the era of digitalization. Particular attention is paid to the methods of applying phenomenology and hermeneutics in the study of the risks of introducing new technologies into civil litigation. The paper emphasizes the significance of deeply understanding these changes for devising strategies of adaptation and development in a rapidly evolving society.
Full Text
Современное общество переживает период глубокой трансформации под воздействием цифровизации. Цифровые технологии играют значительную роль в увеличении объёма и скорости коммуникации между людьми, а также меняют сам формат взаимодействия, где основной площадкой для этого выступает виртуальное пространство [10, с. 150]. Цифровизация как глобальный процесс проникает во все сферы общественной жизни. Однако не менее значимо, что многие аспекты человеческой деятельности и институтов общества стали неотъемлемой частью цифрового пространства. Это значит, что интернет-технологии принимают онтологический характер, вытесняя при этом стандартные коммуникационные формы, и таким образом меняют социальный характер бытия, саму возможность конструирования реальности человеком: «Объективная реальность сменяется реальностью виртуальной, деформирующей действительность. В результате мы имеем дело с набором ракурсов и интерпретаций, порождаемых массмедиа, но никак не с реальностью как таковой» [9, с. 170].
Информационные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни, привнося в общество новые формы взаимодействия, коммуникации и организации. Понимание влияния этих трансформаций на формат общения между людьми требует глубокого анализа и методологического подхода, способного учесть сложные взаимодействия между новыми технологиями и человеческим опытом. Пересмотр устоявшихся теоретико-методологических концепций социальных онтологий, например феноменологического толка, современные исследователи считают необходимым осуществлять во взаимосвязи с герменевтикой. Такой подход мы можем наблюдать у Поля Рикёра. Можно согласиться также с взглядами известного американского феноменолога Дона Айди, который в своих исследованиях стремится применить методы феноменологии для анализа технологий. Он видит современную феноменологию в её трансформации в постфеноменологию: «Чем является философия, феноменология в современной перспективе? Философия, я считаю, также меняется или должна меняться вместе с историческим контекстом. Именно это заставляет меня попытаться модифицировать феноменологию в современную постфеноменологию» [14, р. 23] или в феноменологическую герменевтику.
Э. Гуссерль в своих научных исследованиях часто относится к феноменологии как к «археологии». Это связано с тем, что метод, который использует феноменология, напоминает интеллектуальные раскопки, где основная цель заключается в обнаружении самых глубоких слоев сознания, где формируются смыслы, которые затем претерпевают различные модификации. «Феноменологическая археология – это исследование Я и субъективного в их подлинности, раскрытие сокровенной конститутивной конструкции апперцептивной деятельности, результаты которой предстают перед нами в качестве опытного мира… Как в обычной археологии: реконструкция» [3, с. 86].
Поль Рикёр, высоко оценивая феноменологию сознания Эдмунда Гуссерля, особенно идею интенциональности как «замечательного свойства» сознания, его направленности к миру, вместе с тем отмечал замкнутость феноменологии сознания на себе, снятия вообще «онтологического вопроса». Поль Рикёр трактует интенциональность как «изначальную открытость субъекта миру, дополняя ее, вслед за Хайдеггером, практическими намерениями и волевыми действиями» [2, с. 292], артикулированными в языке. Гуссерлевская проблематика «жизненного мира» получает онтологическое значение в герменевтике Рикёра через понимание и интерпретацию смыслов бытия человека в проговаривании. Отсюда следует, что «не существует понимания самого себя, не опосредованного знаками, символами и текстами…» [12, с. 83]. «Важно соблюдать точность в терминологии, – отмечает Поль Рикёр, – и закрепить слово “понимание” за общим явлением проникновения в другое сознание с помощью внешнего обозначения, а слово “интерпретация” употреблять по отношению к пониманию, направленному на зафиксированные в той или иной форме знаки» [12, с. 4].
В данной статье рассматривается актуальность применения феноменолого-герменевтических исследований к решению ключевых проблем, возникающих в эпоху цифровизации перед обществом, столкнувшимся с рисками внедрения новых технологий в «жизненный мир» человека и социума. Их применимость к анализу трансформаций в таких сферах, как цифровые технологии, коммуникация, виртуальная реальность, правоотношения. Полученные выводы могут способствовать более глубокому пониманию динамики современного общества и разработке соответствующих стратегий адаптации.
Особое внимание, с нашей точки зрения, следует уделить проблематике правовых отношений в виртуальном пространстве. Фактически сегодня Интернет представляет собой автономное пространство, требующее разработки специального законодательства, регулирующего виртуальные взаимодействия между субъектами. Право как фрагмент жизненного мира также имеет самоценность и способность формировать представления о «нормальной жизни»: «…система нормальности формируется на основе уже отработанной привычки, которая может быть модифицирована или расширена» [11, с. 12]. Для законодательства представляет особую сложность тот факт, что киберпространство не ограничивает людей в рамках правового поля одного государства, как это имеет место в реальной жизни. Постоянное перемещение человека из одной сферы в другую приводит к изменению внутренних представлений о приемлемом, что может вызывать сложности для индивида в его реальных взаимоотношениях. Преимущества применения феноменолого-герменевтических исследований правовых отношений в интернет-пространстве включают глубокое понимание субъективных переживаний и взаимодействий, обнаружение тонких деталей в формировании правовой культуры в онлайн-мире и анализ взаимосвязи между правоотношениями субъектов в Интернете.
Феноменология уделяет особое внимание описанию и анализу прямого опыта индивида. Основные понятия этой методологии, такие как «интенциональность», «эпоха» и «редукция», позволяют исследователям глубже проникнуть в субъективный опыт и понять процессы, которые лежат в основе трансформации субъекта. «Интерсубъективное конструирование “другого” и сообщества предполагает выход за пределы “Я”, связь с другими “Я”. Интерсубъективное конструирование другого осуществляется посредством вчувствования – другой переживается эго в форме альтер эго» [14, с. 204]. Вопрос о возможности подлинного доступа к цифровому двойнику субъекта в контексте сетевой культуры обсуждает французский автор Стефан Виаль. Цифровая альтерофания – можно назвать её новым способом, каким цифровой субъект оказывается сегодня в поле перцептивного опыта посредством цифровых артефактов. Эта концепция заключается в парадоксальной амбивалентности, где присутствие переплетается с отсутствием, создавая новый способ ощутить то, что может представлять собой цифровой двойник. Ориентируясь на особенности сетевого общения и используя концепции «присутствия» и «отсутствия» М. Хайдеггера, Виаль не столько фиксирует склонность к неподлинному существованию, которая может возникнуть в процессе такого общения, сколько исследует эту тенденцию. Его взгляд на это весьма оптимистичен. Присутствие цифрового двойника субъекта в рамках использования цифровых технологий позволяет расширить область альтерофании: «Именно информационное бытие в сети даёт нам, если не сказать – преподносит, новую феноменологическую форму присутствия» [16, р. 156]. В целом применение феноменологии в изучении трансформации субъекта под влиянием цифровизации имеет свои преимущества и ограничения. Сосредоточиваясь на субъективном опыте, феноменологическая герменевтика открывает новые пути для глубокого понимания изменений в формировании и взаимодействии субъекта. Однако необходимо учитывать субъективность интерпретации и ограниченность выборки при анализе данных.
Основные принципы феноменологии видятся актуальными инструментами, способными помочь в изучении данной проблематики. Один из них, принцип описания, заключается в том, что явления должны описываться такими, какие они есть, без проецирования на них суждений и представлений. Этот принцип позволяет получить более точное представление о явлениях и избежать предвзятости в процессе их изучения. В «Идеях I» Гуссерль пишет: «Никакая мыслимая теория не может заставить нас усомниться в принципе всех принципов: любое дающее из самого первоисточника созерцание есть правовой источник познания, и все, что предлагается нам в «интуиции» из самого первоисточника (так сказать, в своей настоящей живой действительности), нужно принимать таким, каким оно себя даёт, но и только в тех рамках, в каких оно себя даёт» [4, с. 16].
Феноменологический взгляд, освобожденный и очищенный от предвзятостей, позволяет увидеть структуру явлений, которая складывается спонтанно и естественным образом, а не в результате самопроизвольной подгонки под привычный для субъекта или исследователя шаблон. Другим важным инструментом является феноменологическая редукция, она предполагает временное отстранение от заранее принятых представлений и понятий, чтобы исследователь мог увидеть вещи такими, какими они являются в своей сущности для участников. В контексте интернет-правоотношений это позволяет исследователю сфокусироваться на субъективных переживаниях пользователей, а не на общепринятых нормах.
Феноменологический анализ позволяет контекстуализировать правовые отношения в Интернете в широком спектре, включая индивидуальные, межличностные, социокультурные и технологические. Такой подход позволяет исследователям обрести комплексное понимание того, как Интернет взаимодействует с правовыми структурами и как пользователи адаптируют своё поведение в соответствии с правовыми ограничениями. Феноменология открывает новые перспективы для изучения правовых отношений в интернет-пространстве. Она позволяет задавать глубокие вопросы о восприятии интернет-пользователями своих прав и обязанностей, а также о влиянии онлайн-среды на их представления о справедливости и личной ответственности. Такое исследование может способствовать формированию более гибкого и справедливого правового регулирования в Интернете.
Так, например, инновации в судебном процессе становятся необходимостью для повышения эффективности и качества правосудия. Однако внедрение новых технологий и цифровых инструментов несет определённые риски, которые нуждаются в феноменолого-герменевтических исследованиях, в том числе со стороны юридической герменевтики. Как считает А.А. Дорская, «цифровизация существенно влияет на современное развитие права, которое, с одной стороны, способствует данному процессу, обеспечивает его, но, с другой стороны, трансформируется под его воздействием» [7, с. 15].
Объектом юридической герменевтики выступает закон, интерпретировать который можно по-разному, что, безусловно, усложняло и усложняет его дальнейшее функционирование в области права и судебного процесса. При множестве подходов к определению статуса юридической герменевтики практически все исследователи всё равно приходили к выводу, что главной задачей юридической герменевтики является реализация и поиск смысла, который несет закон, а в частности – норма права. Более специфическими объектами толкования считали и считают тексты исковых заявлений, ходатайств, речи юристов и правозащитников, которые в целом трактуются как правовая деятельность. Но цифровизация коснулась и юридической сферы, что в очередной раз повлияло на расширение зоны интерпретации, толкования и понимания, а, следовательно, и цифровые инновации в судебном процессе также стали объектом юридической герменевтики, цели и задачи которой в очередной раз значительно усложнились. За последние годы все разновидности судопроизводства претерпели большие изменения ввиду всё более активного развития цифровизации и информатизации общественных отношений [8, с. 101]. В правовом поле в последние несколько лет появились нововведения, которые в настоящее время могут вызвать как открытие новых областей знаний, так и риски неверной интерпретации и неверного понимания закона, в целом искажения судебного процесса.
За первую четверть ХХI века в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации появились инструменты, которые позволяют принимать участие в судебном процессе удалённо, это реализовывается с помощью видеоконференцсвязи и веб-конференции, оба эти инструмента являются вспомогательными для судей и участников судебного процесса. В частности, участник судебного процесса имеет возможность подключиться к самому судебному процессу, находясь в другом городе или стране. Согласно ст. 155.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при наличии в судах технической возможности осуществления видеоконференцсвязи лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут участвовать в судебном заседании путём использования систем видеоконференцсвязи при условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда. Об участии указанных лиц в судебном заседании путём использования систем видеоконференцсвязи суд выносит определение [5]. Согласно ст. 155.2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и другие участники процесса могут участвовать в судебном заседании путём использования системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в суде технической возможности проведения веб-конференции [5]. Принципиальное отличие первого способа от второго заключается в том, что при использовании видеоконференцсвязи участник судебного процесса заблаговременно должен отправить ходатайство в адрес суда, где идёт судебный процесс, о том, что он хочет принять участие с помощью видеоконференцсвязи в судебном заседании, которое будет проходить в другом городе либо субъекте РФ. Суд определяет техническую возможность организовать видеоконференцсвязь. В случае успеха в день судебного разбирательства идёт непосредственное установление видеоконференцсвязи между двумя судами, и один участник находится в суде, который расположен в одном субъекте Российской Федерации, а другие участники, как и судья, находятся в другом субъекте Российской Федерации. Однако для того, чтобы идентифицировать личность участника судебного процесса, суд, который организовывает видеоконференцсвязь, также просит судью из второго суда удостоверить личность участника, который прибыл для участия в судебном процессе.
Веб-конференция отличается от видеоконференцсвязи тем, что участник судебного процесса находится в зале суда с помощью ноутбука либо же компьютера. То есть участник может находиться у себя в офисе или ином помещении, в котором он осуществляет свою деятельность. Это нововведение, которое стало инновацией для гражданского производства, в дальнейшем может упростить судебный процесс до такой степени, что никто из участников, в том числе и судья, не будет принимать участие в очном судебном заседании, а будет находиться в дистанционном режиме. Возможно, это уменьшит судебные расходы (например, на переезды) и ускорит рассмотрение дел. Данное нововведение может выйти и на уровень международного права. В таком случае, во-первых, существенно уменьшатся судебные расходы на поездки; во-вторых, ускорится рассмотрение определённого дела; в-третьих, участники процесса смогут принимать участие в судебном заседании, находясь в удобном для них месте (например, в своей стране).
При всех перспективах риски такой цифровизации остаются высокими. Данные риски можно назвать герменевтическими, потому что они связаны с интерпретацией и истолкованием. По мнению Ульриха Бека, риск – это всегда деталь общества, риск всегда связан с обществом, так как связан с людьми. Однако «степень риска может определить только эксперт» [1, с. 188]. Следовательно, и риск цифровизации судебного процесса может определить только эксперт. Более того, эксперт должен быть компетентным не только в области права, но и в области информационных технологий.
Классификация юридических рисков представлена, например, Ю.А. Тихомировым, который определяет уровни рисков так: «Первый – это риски «текстовые», то есть нарушение системных связей законодательства, неправильное определение целей и способов регулирования, технико-юридические ошибки, неправильное определение статуса субъектов права. Второй – связанные с неожиданными действиями. Это деятельность вне правовых статусов субъектов, осуществляемая в непредсказуемой ситуации или в связи с общественным резонансом. Третий – новые ситуации (противоречивые последствия нового политического и экономического курса, неблагоприятные последствия реформ, влияние кризисных явлений, пассивность и бездействие исполнителей). Четвёртый – риски в условиях форс-мажора (отчуждение населения от закона, крах государственных и иных институтов, чрезвычайные ситуации)» [13, с. 178–179]. Эта классификация уже не является столь полной и однозначной, как представлялось ранее. В настоящее время, по нашему мнению, должны быть добавлены ещё как минимум два уровня рисков – цифровой, связанный с человеком как субъективным фактором, и цифровой, связанный с объективными процессами, например сбоем в программе, софте и т. д. Так, интерпретировать в первую очередь необходимо действие субъекта, то есть того, кто принимает участие в судебном заседании. Риск может быть в том случае, если какой-либо человек, не имеющий отношения к судебному разбирательству, примет участие в судебном процессе. Обычно для его идентификации используется документ – паспорт. Однако современные технологии, в том числе deepfake (к примеру, подмена лица), позволяют принять участие в заседании стороннему субъекту с помощью видеосвязи, просто подменив лицо (наложив иное изображение, например аватар), что, естественно, является противозаконным и некорректным по отношению к суду и к другим участникам судебного процесса. Возможно, в перспективе мы придем к тому, что непосредственно в ходе веб-конференции участники смогут приобщать документы, направляя файлы с документами. Здесь возникают следующие подводные камни:
- технический сбой в программе, коде, софте, использующихся при организации судебного процесса, что может привести к неверному направлению документа, неверному определению даты и времени судебного заседания, потере определённого юридического документа или субъекта судебного процесса;
- отсутствие реальной подписи субъекта на загружаемом в цифровую программу юридическом документе, так как зачастую в программу загружается скан документа, что не даёт возможности определить подлинность подписи (законодатель нашел выход из этой ситуации и «признал» электронные цифровые подписи, которые часто находятся на флеш-карте, но флеш-картой может воспользоваться и другое лицо, если получит к ней доступ).
Необходимо также отметить, что при проведении веб-конференции в настоящее время возникает проблема, непосредственно связанная с качеством видеосвязи, с качеством воспроизведения аудио- и видеосообщений. Поэтому возникают ошибки в интерпретации некоторых слов, словосочетаний и предложений, высказанных участниками судебного процесса. Так, например, участник судебного процесса может просто не расслышать часть предложения. В связи с этим он может неверно интерпретировать сложившуюся ситуацию, а впоследствии принять неверное решение по делу либо же приобщить неверный документ к делу.
В современной герменевтике далеко не всегда речь идёт о тексте и его понимании читателем. Сейчас речь идёт о посыле, который передаёт автор текста, в данном случае судебной речи. К сожалению, не всегда возможно правильно интерпретировать посыл автора текста без его интонации. В. Дильтей, связывая с герменевтикой «науки о духе», занимающиеся изучением человеческого опыта, культуры и истории, считал, что все когда-либо сталкиваются с препятствием, пытаясь понять внутренний мир создателя определённого текста, так как, используя письменные свидетельства, все пытаются интерпретировать событие. Восстановление прошлого, по мнению Дильтея, возможно только при верной интерпретации написанного текста. Поэтому очень важно понимать, что происходит у автора «внутри», какие эмоции, чувства он испытывает, какой образ жизни он ведёт и о чём беспокоится. Нельзя полностью воспроизвести моменты прошлого без понимания психологии автора. Для достижения истины, полагал Дильтей, при использовании верных путей и методов работы исследователь текста должен частично разрушить свой собственный мир, выйти из своего времени и отстраниться от известных ему исторических фактов [6, с. 130].
При видеосвязи интонация и посыл автора с субъективной точки зрения «гаснут», искажаются, так как видеосвязь «обесчеловечивает» судебный процесс, что может негативно повлиять на него и на решение, которое будет принято судом впоследствии. Важно отметить, что организационные инновации в судебном процессе являются необходимым шагом для повышения эффективности и качества правосудия. Однако внедрение цифровых технологий и инструментов также несет в себе риски, которые должны рассматриваться в рамках юридической герменевтики. Важно учитывать, что цифровизация должна осуществляться с соблюдением законодательства и учитывать интересы всех участников судебного процесса. Только тогда можно говорить о положительных изменениях, которые привносит цифровизация в судебную систему.
Таким образом, новые технологии судебного процесса, в частности его цифровизация, аналогично закону становятся объектом юридической герменевтики, что в очередной раз расширяет сферу интерпретации и понимания «жизненного мира» человека и социума в феноменолого-герменевтических исследованиях. Естественно, данный процесс не обходится без возникновения новых рисков, степень которых в целом равнозначна прошлым рискам. Но при этом данные риски могут как нарушать и искажать процесс, так и, наоборот, стимулировать современный юридический процесс к совершенствованию.
В условиях цифровизации методы феноменологии и герменевтики являются ценным инструментом для анализа современных явлений и их трансформации. Феноменология акцентирует внимание на субъективном опыте и структуре сознания, что позволяет глубже понять, как современный мир цифры формирует нашу реальность и как субъект взаимодействует с ней. Современные явления часто многогранны и сложны, феноменолого-герменевтические исследования позволяют разбирать их на составные элементы, анализировать воздействие на общество и человека в частности и понимать смысловые изменения в процессе интерпретации. В ходе исследования не всегда достаточно только объективных данных, нужно понимать, как субъективный опыт воспринимает явления. Феноменология сфокусирована на исследовании именно этого аспекта, а герменевтика даёт понимание и интерпретацию культурных смыслов во всем многообразии дискурсивных практик. Это позволяет применять методы феноменологической герменевтики к новым, ранее не изученным явлениям, а также создавать стратегии адаптации и развития в быстро меняющемся социуме.
About the authors
Irina A. Monastyrskaya
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
Author for correspondence.
Email: mirina70@yandex.ru
SPIN-code: 6518-4985
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Theory and Methodology of Science
Russian Federation, BelgorodAlexey V. Malkov
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
Email: alexsey-malkov@yandex.ru
SPIN-code: 2178-2906
PhD student of the Department of Theory and Methodology of Science
Russian Federation, BelgorodArtem T. Pipia
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
Email: artempipiya@yandex.ru
PhD student of the Department of Theory and Methodology of Science
Russian Federation, BelgorodReferences
- Beck U. Risk society. On the way to another modern. Transl. from German. Moscow: Progress-Tradition, 2000. 384 p. (In Russ.)
- Vdovina IS. Phenomenology in France (historical and philosophical essays). Moscow: «Canon +» ROOI «Reabilitatsiya», 2009. 400 p. (In Russ.)
- Husserl E. The Crisis of European sciences and transcendental phenomenology. Introduction to phenomenological philosophy. Saint Petersburg: Nauka, 2005. 336 p.
- Husserl E. Ideas for Pure Phenomenology and Phenomenological Philosophy. The first book. General introduction to pure phenomenology. Transl. from German by A.V. Mikhailov. Moscow: Akademicheskiy Proyekt, 2009. 489 p. (In Russ.)
- The Civil Procedure Code of the Russian Federation accepted by the State Duma on October 23, 2002 (as amended on April 6, 2024). (In Russ.)
- Dilthey V. Introduction to the sciences of the spirit. Foreign aesthetics and theory of literature of the XIX–XX centuries. Treatises, articles, essays. Ed. by G.K. Kosikov. Moscow: MSU, 1987. Рp. 108–135. (In Russ.)
- Dorskaya AA. Transformation of law in the conditions of digitalization of public relations: crisis phenomena and new opportunities. Transformation and digitalization of legal regulation of public relations in modern realities and conditions of the pandemic: a collective monograph. Ed. by I.V. Vorontsova. Kazan: Otechestvo, 2020. Рp. 11–15. (In Russ.)
- Karasev AT, Kozhevnikov OA, Meshcheryagina VA. Digitalization of legal relations and its impact on the implementation of certain constitutional rights of citizens in the Russian Federation. Antinomies. 2019;3:99–119.
- Ladov VA. Phenomenology of virtual reality. Philosophical problems of information technologies and cyberspace. 2011;2:169–176.
- Monastyrskaya IA, Pipia AT, Ryazantseva LV. The problem of subjectivity in the digital space: socio-political, legal and ethical aspects. Political and socio-economic challenges, threats and transformations of modern Russia: a collective monograph. Ed. by prof. E.N. Chizhova. Belgorod: Publishing House of BSTU, 2022. Рp. 150–162. (In Russ.)
- Pantykina MI. Phenomenology of law and integrative legal understanding. Social sciences and modernity. 2014;3:151–158.
- Riker P. Hermeneutics. Ethics. Politics: Moscow lectures and interviews / Ed. by I.S. Vdovin. Russian Academy of Sciences, Institute of Philosophy. Moscow: JSC Kami: Publishing сenter «Academia», 1995. 159 p. (In Russ.)
- Тikhomirov YA. Law: forecasts and risks: monograph. Moscow: Infra-M, 2015. 240 p. (In Russ.)
- Yarkova EN. History and methodology of legal science. Tyumen: Publishing House of the Tyumen State University, 2012. 463 p. (In Russ.)
- Ihde D. Postphenomenology and technoscience: The Peking University lectures (SUNY series in the Philosophy of the Social Sciences). Albany: State University of New York Press, 2009. 102 р.
- Vial S. Ce que le numérique change à autrui: introduction à la fabrique phénoménotechnique de l’altérité. HERMÈS. 2014;68:151–157.
Supplementary files