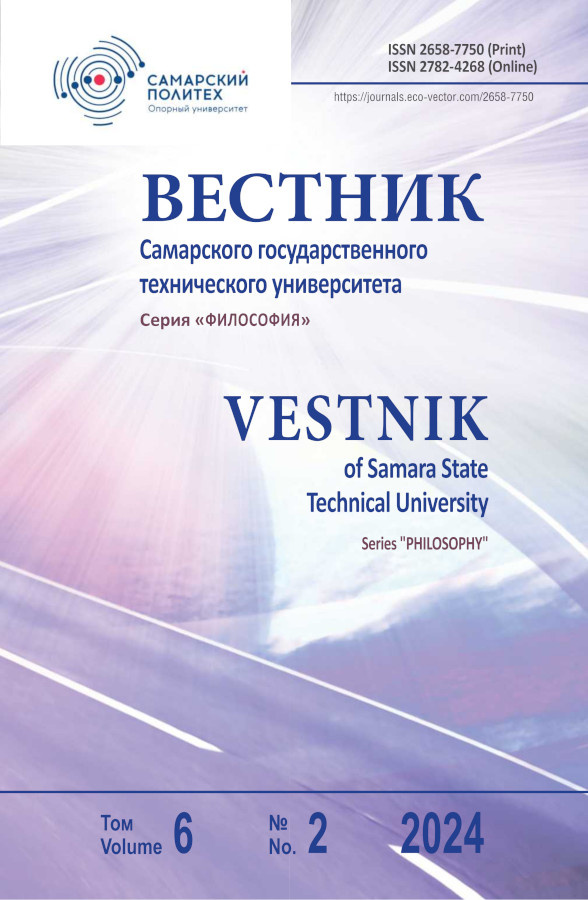Science for a free society
- Authors: Maslanov E.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Philosophy of the Russian Academy of Science
- Issue: Vol 6, No 2 (2024)
- Pages: 64-68
- Section: ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/693139
- ID: 693139
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the analysis of changes associated with the features of the existence of science in society. Initially, the science was formed as a practice based on critical thinking and the fight against dogmatism. At present, it can function as a practice ready to recognize only its own authority. Other forms of knowledge can be seen as inherently erroneous. Overcoming such limitations may be associated with the desire to maintain and increase cognitive diversity.
Full Text
Наука – один из важнейших социальных феноменов современного общества. Она выступает важнейшим субъектом создания инноваций и конструирует новые смыслы. Её критический потенциал освобождает мышление людей от догм и позволяет им принять на себя ответственность за выбор жизненного пути и развитие общества. Однако П. Фейерабенд ставит вопрос о том, соответствует ли подобное описание влияния науки на общественную жизнь реальному положению дел.
Он отмечает: сложно отрицать тот факт, что наука начала своё развитие как практика, нацеленная на освобождение мышления людей от догматичных и постулативных установок. Её стремление к исследованию мира оказалось тесно связано с развитием критического мышления. Этот симбиоз сначала поставил под сомнение устоявшиеся представления о мире, а затем распространился и на социальную действительность. В результате стало возможным формирование нового типа общества. Оно освободилось от тирании традиции и стало нацеленным на инновации, каждый получил в нем свободу самовыражения и стремления к совершенствованию. При подобном положении дел свободное и открытое общество становится таким, лишь ориентируясь на собственные идеи и представления. Они могут изменяться и даже кардинально трансформироваться, но среди них всегда должны одержать верх представления, которые будут провозглашены последней на данный момент истиной, всё остальное же должно быть отвергнуто. Но не заняла ли наука в таком обществе место нового интеллектуального тирана? «Превосходство науки постулируется, а не обосновывается, – пишет П. Фейерабенд. – Здесь учёные и философы науки действуют так, как до них действовали защитники единственно верной Римской церкви: церковная доктрина истинна, а всё остальное – языческая бессмыслица» [1, с. 108]. При этом постулируется как превосходство науки над другими формами знания, так и превосходство последних научных достижений над достижениями предыдущих эпох. Научное сообщество придерживается кумулятивных взглядов на развитие научного знания.
Почему же предприятие, которое началось с критического мышления и освобождения от догматизма, в своём развитии пришло к тому, с чем оно боролось? Это связано как с внутренним развитием науки, так и с её взаимодействием с другими социальными агентами.
Внутренние причины могут быть описаны достаточно просто. Постепенно развитие научного знания стало сопряжено не просто с целостным поиском фундаментальных законов мироздания, а с решением отдельных задач, которые могли приблизить достижение этой цели. В результате особую актуальность приобрел вопрос о постоянном совершенствовании научных знаний. Ответить на него помогло развитие экспериментального метода. С его помощью можно проверить выдвинутые идеи, успех эксперимента может свидетельствовать о плодотворности выбранного пути, а неудача – о его ошибочности. Важным являлось и то, что теперь каждый мог не просто доверять своим коллегам, но и проверять их выводы посредством повторения эксперимента. Но сама возможность выполнить проверку заставляла всё более внимательно подходить к эксперименту. Всё это привело к тому, что постепенно стала складываться наука «быстрых открытий». Она ориентировалась не на проверку уже п лученных результатов, а на поиск новых плодотворных идей, экспериментов и методов. Для этого было необходимо провести разделение двух процессов – освоения знаний о прошлом собственной дисциплины и поиска ответов на всё новые вопросы. Р. Коллинз показывает, что подобное разделение не произошло в философии. Поэтому философская работа предполагает «диалог» не только с современными авторами, но и с мыслителями прошлых эпох. Всё накопленное философское знание носит актуальный характер. Однако подобную ситуацию сложно себе представить в рамках естественных наук [2]. Мало кто из действующих учёных не просто из-за любопытства, в поисках вдохновения или в процессе проведения исторических исследований готов обратиться, например, к текстам исследователей XIX в.
Подобное разделение привело к тому, что теперь в процессе обучения действующий учёный осваивает «выжимку» из истории своей дисциплины, которая является релевантной для её сегодняшнего состояния. В результате, с одной стороны, он знакомится с определённым набором знаний, а с другой стороны, начинает принадлежать к исследовательской школе. Наука становится не деятельностью любителей-одиночек, но социальным институтом. В нем существуют отдельные группы, которые борются за интеллектуальное господство, за право представлять передний край научных исследований. Но подобная борьба оказывается чревата определённым догматизмом. Освоенное знание составляет интеллектуальный бэкграунд, от которого в обычных условиях сложно отказаться. При этом его освоение оказывается одним из маркеров, который позволяет отделить профессиональных учёных от любителей или носителей других форм знаний. Итогом подобного развития как раз и становится то, что теперь правом участвовать в научной дискуссии и оспаривать положения обладает лишь тот, кто сам принадлежит к научной традиции. Все остальные могут вступить в дискуссии лишь в том случае, если они в полной мере овладели научными знаниями. Критическое мышление и антидогматизм становятся внутринаучной привилегией, подобно тому, как в догматические дискуссии в рамках католического богословия могли вступать лишь профессиональные служители церкви, обладающие определённым набором знаний, а не все прихожане.
Взаимодействие с другими социальными агентами также сыграло определённую роль в трансформации роли науки. Успешность науки как инновационного предприятия привела к её тесному взаимодействию с различными экономическими и государственными агентами. Она стала рассматриваться как важнейшая практика, которая позволяет обеспечивать экономический и политический успех отдельных компаний и целых государств. И с этим фактом трудно спорить. Правда, из-за этого остальные формы знаний и способы анализа мира оказались дискриминированы, ведь, как кажется некоторым, они практически ничего не могут дать для развития общества. Но это утверждение уже не является столь убедительным.
Наука может искать ответы на вопросы об устройстве мира, но готова ли она заниматься созданием произведений искусства? Конечно же, можно отметить, что в последнее время сложилось направление science art, которое ориентировано на придание различным научным артефактам статуса произведений искусства. Но для достижения этих целей современные художники несколько меняют контекст их использования. Из пространства лаборатории они перемещаются в пространство культурных институций, где не столько становятся объектом реальной научной практики, сколько перекодируются на язык искусства. Стоит признать и тот факт, что совершенно не обязательно как все жители Земли в целом, так и жители отдельной страны в частности являются учёными. Часть из них может принадлежать к другим социальным группам или входить в несколько групп. В результате доминирование одной из групп оказывается разрушительным для концепции свободного общества. Его свобода заключается не в слепом следовании за одной из них, а во вдумчивом обсуждении возможных подходов и альтернативных путей развития. В нем не существует стремления к единообразию смыслов, а предпринимается попытка достичь договоренностей с людьми, которые могут придерживаться иных взглядов. «Свободным является такое общество, – пишет П. Фейерабенд, – в котором все традиции обладают равными правами и равным доступом к центрам власти» [1, с. 157]. Но соединение науки и государства препятствует формированию подобной ситуации.
Подобное привилегированное положение науки снова приводит к формированию догматизма. Связано это с тем, что теперь группы, добившиеся в науке определённого признания, способны продвигать собственные представления как ключевые научные идеи. Они могут активировать собственные ресурсы лоббирования в структурах других социальных акторов для борьбы со своими научными оппонентами. Но это противоречит антидогматической и критической логике научного познания. Тесное объединение науки и государства становится не только благом для науки как социального института, но и тяжелым испытанием.
Важной стратегией преодоления этих «отрицательных» черт современного развития науки может стать обращение к идее о важности и необходимости поддержания когнитивного разнообразия как внутри науки, так и за её пределами. Вненаучные формы знания не могут рассматриваться как изначально ущербные, они представляют определённое видение мира и способ взаимодействия с ним. Не давая ответы на вопросы, возникающие в рамках научного познания, они могут успешно использоваться при поиске ответа на другие вопросы или выступать источником вдохновения для научного творчества.
About the authors
Evgeny V. Maslanov
Institute of Philosophy of the Russian Academy of Science
Author for correspondence.
Email: evgenmas@rambler.ru
SPIN-code: 8658-4787
Candidate of Philosophical Sciences, Researcher at the Sector of Social Epistemology
Russian Federation, MoscowReferences
- Feyerabend P. Science in a free society. Transl. from Eng. by A.L. Nikiforov. Moscow: AST, 2009. 378 p.
- Collins R. Sociology of philosophies. Global theory of intelligent change. Transl. from Eng. by I.S. Rozov and Yu.B. Wertheim. Novosibirsk: Sibirskiy khronograf, 2002. 1282 p.
Supplementary files