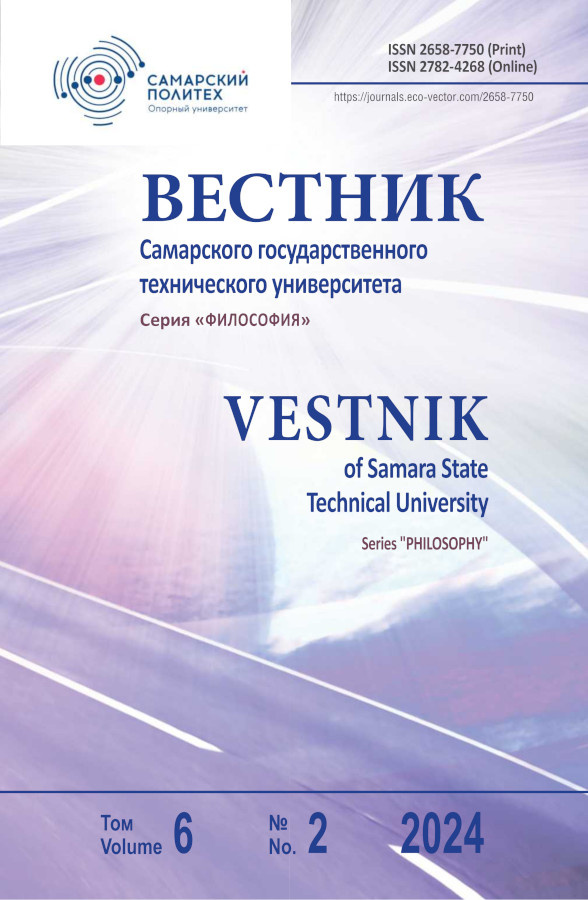The phenomenon of virtual reality: conceptual analysis (to the fiftieth anniversary of the conceptualized phantom)
- Authors: Khamidov A.A.
- Issue: Vol 6, No 2 (2024)
- Pages: 69-86
- Section: ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/693140
- ID: 693140
Cite item
Full Text
Abstract
The article attempts to find out what the actual conceptual meaning is contained in the term “virtual reality”, which has been in circulation for half a century. The author applied the principle of objective activity (gegenständliche Tätigkeit), which helped to clarify that the essence of the so-called virtual reality is the objectified ideal (Ideelle), but objectified not in a material substrate, but in energy, specifically in electrical energy.
Keywords
Full Text
Автором термина «виртуальная реальность» является американский учёный (футуролог, философ, концептолог) Джером З. Ланье (Lanier)1. Он внёс большой вклад в разработку технологий, связанных с обозначаемым данным словосочетанием феноменом. В своё время он писал: «Мы должны прежде всего понять, что означает виртуальная реальность. Мы говорим о технологии, которая использует специальные приспособления для того, чтобы создавать новую реальность, доступную многим» [1, с. 353]. Данное словосочетание не только прижилось, но и получило широчайшее распространение. «Это броское выражение, – пишет В.А. Емелин, – оказалось столь популярным, что превратилось в расхожую метафору, употребляемую по всякому возможному и невозможному поводу», превратилось «чуть ли не в символ современной действительности…» [2, с. 87]. По теме виртуальной реальности стали проходить научные форумы, издаваться статьи и монографии, защищаться кандидатские и докторские диссертации. Сформировалась целая техническая отрасль, разрабатывающая феномен, получивший это название. Однако за прошедшие пятьдесят лет понимание того, чтó означает и чем является виртуальная реальность, осталось на том же уровне, на каком об этом писал Дж. Ланье. Выработана масса концепций и определений, но их число не способствует достижению истины. Их число обратно пропорционально степени достижения истины. В данной статье предлагается n-ное по счёту толкование этого феномена.
Для большинства тех, кто сделал для себя предметом исследования данный феномен, стоит вопрос о происхождении и смысле первого члена «бинома» – термина «виртуальная». И большинство выводит этот смысл от значения слова классической латыни «virtūs», которое в ней имело целый ряд значений: 1) мужество, храбрость; 2) доблестные дела; 3) превосходное качество; 4) добродетель, душевное благородство [3, с. 1084]. В римской мифологии существовала также богиня воинской доблести Virtūs. Вот что, например, пишет известный энтузиаст, популяризатор феномена виртуальной реальности в России Н.А. Носов (ум. в 2002 г.): «Как специальный философский и научный термин «виртуальная реальность» (от латинского virtus – доблесть, добродетель, энергия, сила и от позднелатинского realis – вещественный, действительный, существующий в действительности; греческий аналог virtus – arete) появился в 80-х гг. ХХ в.» [4]. Греческое ἀρετή действительно означало практически то же, что и латинское «virtūs» [5, с. 231–232]. Н.А. Носов, как видим, уделил внимание и второму члену «бинома». Остальные же не считают нужным обратиться к вопросу о времени появления и значении слова «реальность». Это, очевидно, потому, что оно и производные от него настолько вошли в плоть и кровь философского (и не только) сознания, что у людей даже не возникает мысли о постановке данного понятия под вопрос. Но, как отмечают С.С. Неретина и А.П. Огурцов, «латинские термины “nominales” и “reales” появились в XII веке» [6, с. 413].
Ну а что с первым членом «бинома»? Вот определение виртуальной реальности, данное Н.А. Носовым: «термин, характеризующий особый тип взаимодействия между разнородными объектами (располагающимися на разных иерархических уровнях), а также специфические отношения между ними – порождённости и интерактивности» [7, с. 403]. Спрашивается: какое из значений слова «virtūs» классической латыни является релевантным для характеристики того, что называют виртуальной реальностью? Правильно: никакое. К тому же в средние века сохранилось древнеримское понятие «virtūs», притом фактически с теми же значениями, имевшими христианский смысл. Оно понималось как «сила, добродетель, действие; совершенство или сила для произведения чего-то позитивного; её можно назвать предрасположенностью совершенного совершенному, она, таким образом, является предрасположенностью, дающей возможность достижения действительного блага» [8, с. 604]. Более того, понятие «virtūs» фигурировало и в культуре Ренессанса, но уже как «virtú». Дело в том, что в эпоху Ренессанса в Западной Европе не только происходило образование национальных государств и соответственно национальных языков, но философия и наука уже переходили к использованию национальных языков (см. об этом трёхтомник Л.С. Ольшки: [9, 10, 11]).
Та проблема, решение которой почти через полторы тысячи лет привело к появлению понятий «реальное» и «виртуальное», содержалась ещё в философии Аристотеля. Анализируя роды´ бытия (категории), Аристотель не всегда бывал последовательным. Случалось, тому, чтó он в «Категориях» определял как всего лишь логико-семантический феномен, в «Метафизике» он придавал онтологический статус. Неоплатоник Порфирий (232 – между 301 и 305 гг.) написал «Введение» к трактату Аристотеля «Категории». В нём он, однако, не объяснил несогласованности Аристотеля, а поступил осторожно. «Я, – писал он, – буду избегать говорить относительно родóв и видов, – существуют ли они самостоятельно или же находятся в одних только мыслях, и если они существуют, то телá ли это, или бестелесные вещи, и обладают ли они отдельным бытием, или же существуют в чувственных предметах и опираясь на них…» [12, с. 53].
Христиански ориентированные философы также обращались и к «Категориям» Аристотеля, и к «Введению» Порфирия. Одним из первых написал комментарий к «Введению» Порфирия (переведя его на латынь) А.М.Т.С. Боэций (около 480 – около 525 г.) [13]. Он вообще стремился сблизить греческую философию с римской духовностью. Он находил греческим терминам латинские эквиваленты и, кстати, предложил роды´ и виды именовать универсалиями (universalis). Но у отцов церкви периода патристики имелись более важные проблемы, так что проблема универсалий стала актуальной лишь в эпоху схоластики.
Схоластика, сохранив понятие «virtūs», для характеристики способа бытия универсалий выработала иные понятия – «reales» (что отмечено выше) и «virtualis». Последнее, как и понятие «realis», родилось именно в ходе знаменитого спора об универсалиях, продлившегося не одно столетие. С.С. Неретина разъясняет смысл понятия «virtualiter» (виртуально) так: «по истине; одна вещь содержится в другой, при условии, что существует сила, достаточная для произведения такого следствия…» [8, с. 604]. Конечно, в указанном споре речь шла не о вещах, а об общих понятиях, универсалиях, а под силой понимается Бог. В ходе спора выделились три основных направления (в каждом имелись как умеренные, так и радикальные толкователи): реалисты утверждали, что универсалии существуют до вещей (ante res), то есть в уме Бога; концептуалисты заявляли, что универсалии существуют в самих вещах (in rebus); номиналисты настаивали на тезисе о том, что существуют лишь единичные вещи и универсалии существуют исключительно после вещей (post res), то есть в мышлении человека. Фома Аквинский, как известно, объединил все три истолкования в одном.
При этом, конечно, универсалии в уме Бога существовали всегда, ибо Бог вечен; в вещах они существуют со времени творения и будут существовать до тех пор, пока на то будет воля Бога; после же вещей они существуют со времени сотворения человека и наделения его Богом разумом. Сколько они в таком режиме ещё просуществуют, ведомо одному Богу. Поэтому толкование понятия «виртуальный» как «возможный, такой, который может или должен проявиться при определённых условиях…» [14, с. 106], не соответствует духу средневекового мира. В понятии «виртуальная реальность», таким образом, обе составляющие – продукты средневековой латыни. Возможно, как слова обиходной речи они существовали с начала Средневековья, но как специальные термины, несущие концептуальную нагрузку, они появились лишь в процессе так называемого спора об универсалиях.
Но термин «virtūs» фигурировал, как уже отмечалось, и в культуре эпохи Ренессанса, а, кроме того, в неё пришли из Средневековья и термины «виртуальный», «виртуально» и прочие производные от них. Вот, к примеру, Николай Кузанский. В своём сочинении «О ви´дении Бога» он описывает созерцание орехового дерева. Телесными глазами он видит, «какое оно огромное, раскидистое, зелёное, отягощённое ветвями, листвой и орехами». Потом он смотрит разумными очами и видит, «что это же дерево пребывало в своём семени не так, как я сейчас его разглядываю, а виртуально». В его семени «было заключено целиком и это дерево, и все его орехи, и вся сила орехового семени, и в силе семян все ореховые деревья» [15, с. 46]. При дальнейшем рассмотрении он отмечает «виртуальное присутствие всех мыслимых деревьев» [15, с. 46]. Дальнейшие, более глубокие размышления приводят к мысли о высшей, абсолютной и всепорождающей силе, которая «даёт всякой семенной силе способность виртуально свёртывать в себе дерево вместе со всем, что требуется для бытия чувственного дерева и что вытекает из бытия дерева…» [14, с. 46–47]. И эта сила, согласно Николаю, Бог.
Николай Кузанский, как видим, уже понимает виртуальность не так, как средневековые схоласты. Эмпирическое дерево, как и прочие существовавшие, существующие и будущие деревья, изначально содержится в Боге и его божественной силе, которая позже проявится в созревших семенах древа. Они уже не существуют исключительно неявно, как универсалии схоластики, но демонстрируют себя посредством роста эмпирического орехового дерева и прочих деревьев. Здесь виртуальными фактически являются не столько сами деревья, сколько та божественная сила, которая вызывает их к бытию. Аналогично понимал виртуальное существование и Гегель. В «Лекциях по философии истории» он отмечал, что, «подобно тому, как зародыш содержит в себе всю природу дерева, вкус, форму плодов, так и первые проявления духа виртуально содержат в себе всю историю» [16, с. 18]. Таким образом, те, кто полагает, будто нынешний термин «виртуальная» как предикат к термину «реальность» произошёл от латинского слова «virtūs», неправы.
В ХХ столетии сформировалась физика элементарных частиц. В ней возникло понятие «виртуальная частица». «В пустоте, – пишет известный физик А.Б. Мигдал, – существуют нулевые колебания электрон-позитронного, пионного и вообще полей всех возможных частиц. Эти нулевые колебания проявляются в том, что в вакууме образуются и исчезают пары частиц – античастиц: электрон – позитрон, нуклон – антинуклон… Вакуум наполнен такими не вполне родившимися, появляющимися и исчезающими частицами. Они называются виртуальными (от латинского vires – возможность).
Но стоит в вакууме столкнуться двум нуклонам или электрону и позитрону, как виртуальные частицы могут превратиться в реальные – при столкновении рождаются новые частицы. …В вакууме непрерывно рождаются и исчезают всевозможные виртуальные частицы» [17, с. 110, 114]2. Как видим, виртуальное здесь противопоставляется реальному. Стало быть, с этой точки зрения выражение «виртуальная реальность» является иррациональным, или, выражаясь языком Гегеля и Маркса, лишённым понятия. Именно по образу и подобию виртуальной частицы физик по базовому образованию (а также философ и богослов) С.С. Хоружий определил сущность виртуальной реальности: «Виртуальная реальность не выступает как автономный род бытия, онтологический горизонт. Она опознаётся как своеобразный субгоризонт в горизонте энергий “здешнего потока”, представляя собою не род, но недород бытия. <…> Виртуальная реальность – недо-выступившее, недо-рождённое бытие, не имеющее рода, не достигшее “постановки в род”. Это недород бытия в смысле таксономических категорий, равно как и в смысле рождающего бытийного импульса» [18, с. 66].
В последние годы своего творчества к понятию виртуальности обращался Г.С. Батищев. Так, он писал: «Если взять деятельность в аспекте распредмечивания, то она непрестанно встречает и принимает в своё течение, во-первых, то, что раньше было застывшей готовой формой или результатом какой-то иной деятельности и что было передано субъекту связями преемства, а, во-вторых, какие-то прежде не участвовавшие в процессе стороны, или аспекты, или виртуальные слои бытия самого субъекта, “пробуждает” их к актуальному и непосредственно действенному бытию и тем самым расширяет свои возможности. Иначе говоря, человек не только вне себя самого, такого, каким прежде он себя осуществил своей сознательной волей и своими решениями, может встречать и распредмечивать нечто неожиданное для него и могущее обогатить его актуально протекающий жизненный процесс, но ещё и внутри самого себя. И эта способность встречать и открывать в себе самом относительно новые, непробуждённые ранее слои своего субъектного бытия есть кардинальная предпосылка способности устремляться вовне себя не напрасно, не попусту. Только тому, кто верен неисчерпаемости самого себя вглубь, делаются всё более доступными также и неисчерпаемые глубины мира миров – физического, живого, культурно-исторического. Вопрос – лишь в степени исторически выработанной открытости» [19, с. 106–107]. Батищев, как нетрудно заметить, применяет понятие виртуальности в том же смысле, какой зафиксирован в цитировавшемся выше «Словаре иностранных слов». Он противопоставляет виртуальное актуальному.
Из изложенного видно, что ни средневековое, ни ренессансное, ни квантово-механическое, ни используемое Г.С. Батищевым понимание виртуального не соответствует тому смыслу, который вкладывается исследователями виртуальной реальности в данное понятие, несмотря на бесконечное истолкование этого смысла.
А истолкованиям смысла понятия «виртуальная реальность» воистину несть числа. Уже впору писать исследования по классификации этих истолкований. Да такие уже и появляются (см., например, [20, с. 102]). Мы разделим разнообразные толкования виртуальной реальности на два больших класса: в первый войдут те, в которых виртуальная реальность рассматривается как универсально-онтологический феномен, включая и сферу субъективности. Искусственные же «виртуальные реальности» трактуются сторонниками этого толкования как его частные формы. Ко второму классу следует отнести все толкования виртуальной реальности как артефакта вне зависимости от дальнейшей конкретизации. В каждом классе можно выделить группы.
Ярким и последовательным представителем первого класса является уже упоминавшийся и цитировавшийся выше Н.А. Носов. С его точки зрения, существуют такие виртуальные реальности, как «физическая, геологическая, психологическая, социальная, техническая и проч.» [21, с. 16]. А в своём «Манифесте виртуалистики» он утверждает: «Мир виртуален» [22]. Он утверждает, что «в виртуальной реальности существуют свои “законы природы”, в ней своё время и своё пространство, несводимые к законам, времени и пространству порождающей реальности, т. е. “внутренняя природа”» [4]. Отметим, что он виртуальную реальность соотносит-противопоставляет с «порождающей реальностью». У позиции Носова есть сторонники. К примеру, А.А. Кириллова пишет: «Мир скорее виртуален, чем реален» [23, с. 9]. Согласно тому же Носову виртуальной реальности противостоит ещё и «константная реальность». Но ведь если весь мир всецело виртуален, то не остаётся места для «порождающей» и «константной» реальностей, которые Носов считает феноменами, противоположными «виртуальной реальности». Н.А. Носов утверждает, что существует психическая виртуальная реальность, а поскольку психика – феномен субъективно-объективный, эта «реальность» включает в себя как субъективные феномены (согласно О.И. Елховой «виртуальная реальность есть явление внутри полисенсорного пространства (пространства восприятия), а визуализация виртуальной реальности является его изобразительной формой» [24, с. 6]), так и феномены социально объективные. Л.А. Тягунова, к примеру, пишет: «Миф, религия, философия, наука представляют собой своеобразные виртуальные реальности, отличающиеся друг от друга по ряду особенностей как своеобразные сферы духовной культуры человечества. И в то же время они сходны по свойствам своей виртуальности. А это позволяет утверждать, что и другие сферы культуры, а значит, и культура в целом, могут быть рассмотрены в качестве своеобразных виртуальных реальностей» [25, с. 9]. В свете такого подхода компьютерная виртуальная реальность есть лишь разновидность виртуальной реальности как универсального феномена.
Во второй класс истолкований сущности виртуальной реальности входят многочисленные и многообразные истолкования её как артефакта. Так, согласно статье из «Википедии» виртуальная реальность – это «созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном времени» [26].
Нет необходимости рассматривать или хотя бы классифицировать многообразные трактовки виртуальной реальности в рамках выделенного нами класса. Отметим лишь выделяющиеся из общего списка. Первая. Виртуальная реальность толкуется по образу и подобию символического бытия. Такова позиция В.М. Розина. «С нашей точки зрения, – пишет он, – виртуальная реальность – это один из видов реальностей (их можно отнести к классу “символических”), но это такой вид символических реальностей, который создаётся на основе компьютерной техники, а также реализует принципы обратной связи, позволяющие человеку достаточно эффективно действовать в мире виртуальной реальности» [27, с. 56–57]. М. Кастельс также связывает виртуальность и символы, но провозглашает своеобразный пансимволизм. «Во всех обществах, – пишет он, – человечество существовало в символической среде и действовало через неё. <…> Вся реальность передаётся через символы. <…> В некотором смысле вся реальность воспринимается виртуально» [28, с. 351]. А поскольку, согласно Кастельсу, «не существует разделения между реальностью и символическим отображением» [28, с. 351], получается, что вся социокультурная реальность тотально символична и виртуальна и что она «всегда была виртуальной…» [28, с. 351].
Вторая позиция истолковывает «виртуальную реальность» как симулякр. Так, по В.А. Емелину виртуальная реальность – это «организованное пространство симулякров – особых объектов, “отчуждённых знаков”, которые в отличие от знаков-копий фиксируют не сходство, а различие с референтной реальностью, порождая ряды симуляций…» [2, с. 90].
Н.А. Носов выделяет следующие атрибуты виртуальной реальности: порождённость, актуальность, автономность, интерактивность.
Порождённость. Виртуальная реальность продуцируется активностью какой-либо другой реальности, внешней по отношению к ней.
Актуальность. Виртуальность существует актуально, только «здесь и теперь», только пока активна порождающая реальность.
Автономность. В виртуальной реальности своё время, пространство и законы существования. В виртуальной реальности для человека, в ней находящегося, нет внеположного прошлого и будущего.
Интерактивность. «Виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими реальностями, в том числе и с порождающей, как онтологически независимая от них» [29, с. 33]. Кроме виртуальной реальности существуют ещё дополненная и смешанная реальности. Противоположностью виртуальной реальности Н.А. Носов называет константную реальность. «“Виртуальность” и “константность”, – пишет он, – образуют категориальную оппозицию, т. е. являются философскими категориями» [29, с. 33–34]. Но от этого всего в данной статье можно отвлечься.
Таким образом, человечество вот уже полвека имеет дело с феноменом (разрабатывает технологии, создаёт необычные устройства и применяет их), понять суть которого оно всё ещё не может. Нам представляется, что исследовательские интенции направляются не в ту сторону. Необходимо обратиться к иной методологии. И такая методология давно имеется.
Забегая вперёд, отметим, что теми категориями, посредством которых можно разобраться в сущности феномена, получившего такое странное наименование, являются категории идеального (Ideelle) и реального, опредмечивания и распредмечивания, а также категории «форма», «содержание» и «материя». Рассмотрим эти категории и покажем, как они могут помочь понять, чтó скрывается за странным словосочетанием «виртуальная реальность».
В содержательную разработку категории «идеальное» внесли свой вклад Г.В.Ф. Гегель и особенно К.Г. Маркс и Э.В. Ильенков. Гегель пишет: «Ideale имеет более определённое значение (прекрасного и того, что к нему относится), чем Ideelle… В отношении реальности это различие в словоупотреблении не имеет место: das Reelle и Reale употребляются приблизительно в одном и том же значении. Выяснение оттенков этих двух выражений в их о личии друг от друга не представляет интереса» [30, с. 215–216]. Ideale относится не только к прекрасному, но и ко всему возвышенному, и к недосягаемому образцу – идеалу. Именно в данном смысле говорится о чём-либо идеальном. Ideelle же означает прежде всего противоположность реальному. Идеал и идеальное в данном значении также противостоит реальному, но Ideelle составляет сущность всякого идеального, его, так сказать, субстанцию. В русском языке, к сожалению, нет терминов для различения идеального как Ideelle и идеального как Ideale. И то, и другое передаётся одним и тем же термином «идеальное». Различие имеет место лишь в производных от них: слово «идеализованный» производно от «Ideelle», а слово «идеализированный» – от «Ideale». Далее будет идти речь об идеальном в значении Ideelle. Отметим лишь, что идеальное и как Ideelle, и как Ideale соотносится с категорией реального (Reelle, Reale), а вовсе не с категорией материального, как это трактовалось в официальной советской философии.
В трактовке идеального К. Маркс следует Гегелю и в то же время идёт дальше него. Он выработал свою концепцию идеального, анализируя товарный мир капиталистической общественной формации. О цене, например, он писал: «Der Preis oder die Geldform der Waaren ist, wie ihre Werthform überhaupt, eine von ihrer handgreiflich reellen Körperform unterschiedne, also nur ideelle oder vorgestellte Form» [31, p. 73; курсив мой. – А. Х.]. Перевод: «Цена, или денежная форма товаров, как и их стоимостная форма вообще, есть нечто, отличное от их чувственно воспринимаемой реальной телесной формы, стало быть, лишь идеальная, или представленная, форма». В официальном же русском переводе добавлено: «существующая лишь в представлении» [32, с. 105], то есть лишь в сознании. На деле же «стоимость представлена не в голове, а в золоте. Цена и есть стоимость холста, представленная в известном количестве золота, выраженная через равенство с золотом, выявленная через отношение к нему. <…> Немецкое слово «представлена» фигурирует тут не в субъективно-психологическом значении, а в том значении, которое и в русском, и в немецком языке связано со словом “представитель”, “представительство”. Речь всё время идёт вовсе не о тех “представлениях”, которые имеют о стоимости товаровладельцы и экономисты, а о явлении стоимости в виде цены, об объективной форме проявления стоимости в сфере товарно-денежных отношений, а не в “голове”, не в “представлении” (воображении) товаровладельца или экономиста, не об иллюзиях, которые порождаются объективной формой представления стоимости» [33, с. 386].
Приведём ещё одно суждение К. Маркса. Он пишет: «Определённый ценой товар имеет двойственную форму, реальную и представленную, или идеальную. Его действительная форма <Gestalt> есть потребительная стоимость, продукт конкретного полезного труда, напр. железо. Его стоимостная форма <Werth-gestalt>, его явленная форма как материализация <Materiatur> определённого количества однородного человеческого труда есть его цена, некоторое количество золота. Но золото есть отличная от железа вещь, и в своей цене железо само связано с золотом как с другой вещью, которая, однако, ему является стоимостью-равенством <Werth-Gleiches>. Цена, или денежная форма товара, существует только в этой положенной равной связи, стало быть, так сказать, в голове товара…» [34, p. 56–57]. А «голова товара» – это тоже общественная «голова».
Э.В. Ильенков, который воспроизвёл и существенно развил положения К. Маркса, продемонстрировал глубоко диалектическое понимание идеального: «Это то, чего нет и вместе с тем есть, то, что не существует в виде внешней, чувственно воспринимаемой вещи и вместе с тем существует как деятельная способность человека. Это бытие, которое, однако, равно небытию, или наличное бытие внешней вещи в фазе её становления в деятельности субъекта, в виде его внутреннего образа, потребности, побуждения и цели. Именно поэтому идеальное бытие вещи и отличается от её реального бытия, как и от тех телесно-вещественных структур мозга и языка, посредством которых оно существует “внутри” субъекта. От структур мозга и языка идеальный образ предмета принципиально отличается тем, что он – форма внешнего предмета. От внешнего же предмета идеальный образ отличается тем, что он опредмечен непосредственно не во внешнем веществе природы, а в органическом теле человека и в теле языка как субъективный образ. Идеальное есть, следовательно, субъективное бытие предмета, или “инобытие” предмета, – бытие одного предмета в другом и через другое, как выражал такую ситуацию Гегель» [33, с. 384–385]. Приведём ещё слова Э.В. Ильенкова: «Непосредственно идеальное осуществляется в символе и через символ3, т. е. через внешнее, чувственно воспринимаемое, видимое или слышимое тело слова. Но данное тело, оставаясь самим собой, в то же время оказывается бытием другого тела и в качестве такового его “идеальным бытием”, его значением, которое совершенно отлично от его непосредственно воспринимаемой ушами или глазами телесной формы. Слово как знак, как значение не имеет ничего общего с тем, знáком чего оно является. Это “общее” обнаруживается только в акте превращения слова в дело, а через дело – в вещь и затем через обратный процесс, через практику и усвоение её результатов» [33, с. 385].
Идеальное обладает «особого рода объективностью…» [35, с. 21], отличающейся от объективности предметной действительности культуры. Идеальное объективно как по отношению к индивидуальному, так и по отношению к общеобщественному сознанию, как по отношению к внутреннему, душевно-духовному миру человека, так и по отношению к миру общественно-культурной действительности. А вот Д.И. Дубровский, главный оппонент Э.В. Ильенкова (как при его жизни, так и многие десятилетия после его смерти) сотворил словосочетание «субъективная реальность» и продолжает посредством него клеймить своего идейного недруга. Согласно ему «идеальное есть только субъективная реальность» [36, с. 31], а субъективная реальность существует «лишь в рамках психического…» [36, с. 70]. Но, полагая, что он при таком понимании имеет дело с идеальным, на деле он указывает лишь на те церебральные структуры и нейродинамические процессы в индивидуальном мозгу, которые являются материей объективного идеального, обеспечивающей мыслительный процесс, протекающий под черепной крышкой индивида4.
Идеальное рождается во внутреннем душевно-духовном мире человека и опредмечивается во внешней человеку и его душевно-духовному миру действительности. Превращение субъектом опредмеченных содержаний в свои собственные достояния осуществляется посредством их распредмечивания. Идеальное можно (но, спрашивается, зачем?) назвать виртуальным. Применительно к его бытию внутри душевно-духовного мира человека в том смысле, какой зафиксирован в цитировавшемся выше «Словаре иностранных слов», и в том, в каком его употреблял Г.С. Батищев. Применительно же к бытию идеального в его опредмеченном бытии – в том смысле, в каком оно фигурировало у средневековых концептуалистов и умеренных реалистов.
Человеческая деятельность в единстве её идеально- и реально-преобразовательных и созидательных аспектов как форма опредмечивается во внешнем материале, в материи. И тут нам необходимо сначала обратиться к Аристотелю, который ввёл категории материи и формы. Аристотель исходит из положения, согласно которому «всё, что возникает, возникает вследствие чего-то, из чего-то и становится чем-то…» [37, с. 197]. То, из чего нечто возникает, Аристотель именует материей, то же, сообразно чему оно возникает, – формой. Он отмечает, что «форма и материя различаются по роду…» [37, с. 177]. Материя, согласно Аристотелю, есть нечто неопределённое и пассивное, страдательное, форма же определённа и активна, деятельна. Предмет («сущность») образуется соотношением материи и формы: «о сущности мы говорим в трёх значениях: во-первых, она форма, во-вторых, – материя, в-третьих, – то, что состоит из того и другого; из них материя есть возможность, форма – энтелехия» [37, с. 398]. И материя, и форма в чистом виде, взятые сами по себе, неуловимы, их можно зафиксировать лишь мысленно. Всё, что уже возникло, есть единство материи и формы, и оно «одно только подвержено возникновению и уничтожению и безусловно существует отдельно…» [37, с. 224].
Диалектику материи и формы развил дальше Г.В.Ф. Гегель. Как и Аристотель, Гегель полагал, что форма активна, материя же пассивна; «форма определяет материю, а материя определяется формой» [38, с. 79]5. Но в отношение между формой и материей Гегель вводит ещё одну категорию – содержание. Таким образом, образуется триединство: «Содержание имеет, во-первых, некоторую форму и некоторую материю, принадлежащие ему и существенные для него; оно их единство» [38, с. 83]. Но в этом триединстве активна исключительно форма: она активна не только в отношении материи, но и в отношении содержания. «Благодаря форме содержание превращается в данность…» [39, с. 124]. Но если в системе Аристотеля одна форма, то в системе Гегеля их две. Он различает внешнюю форму, безразличную к содержанию, и внутреннюю, тождественную с содержанием, то есть форму самого содержания [39, с. 298–299].
Но если Аристотель и Гегель, анализируя рассмотренные выше категории, рассматривали их в универсально-онтологическом плане, то П.А. Флоренский и М.М. Бахтин анализировали их как культурные феномены. П.А. Флоренский, правда, не оперирует категориями материи, формы и содержания, но фактически рассуждает о форме и содержании, об их соотношении. Он оперирует понятиями «композиция» и «конструкция» применительно к художественному произведению. Художественное произведение возникает в результате объединения композиции и конструкции. При этом «композиция, если говорить в первом приближении, вполне равнодушна к смыслу обсуждаемого художественного произведения и имеет дело лишь с внешними изобразительными средствами; конструкция же, напротив, направлена на смысл и равнодушна к изобразительным средствам как таковым» [40, с. 150]. Гармоничное их сочетание, их уравновешенность придаёт художественному произведению эстетическую ценность. «Конструкция есть то, чего хочет от произведения самая действительность; а композиция – то, чего художник хочет от своего произведения» [40, с. 153]. Иначе говоря, «конструкция есть форма изображаемого произведения или, иначе говоря, способ взаимоотношения и взаимодействия сил реальности, переливаемой с помощью произведения, воспринимаемой через него. Напротив, композиция есть форма самогó изображения как такового, т. е. способ взаимоотношения и взаимодействия изобразительных средств, применённых в данном произведении» [40, с. 157].
Дальше других пошёл М.М. Бахтин, раскрывший диалектику двух форм, содержания и материи (материала) на примере литературного произведения. «Художественная форма, – пишет он, – есть форма содержания, но сплошь осуществлённая на материале, как бы прикреплённая к нему. Поэтому форма должна быть понята и изучена в двух направлениях: 1) изнутри чисто эстетического объекта как архитектоническая форма, ценностно направленная на содержание (возможное событие), отнесённая к нему, и 2) изнутри композиционного материального целого произведения: это изучение техники формы.
При втором направлении изучения форма ни в коем случае не должна истолковываться как форма материала – это в корне исказит понимание, – но лишь как осуществлённая на нём и с его помощью и в этом отношении, помимо своей эстетической цели, обусловленная и природою данного материала» [41, с. 311]. Архитектоническая форма – это форма самого содержания. И данная форма, и обрабатываемое ею содержание суть феномены идеальные (ideelle). Они подлежат опредмечению и опредмечиваются в материи (материале) посредством композиционной формы. Таким образом, «композиционная форма – организация материала – осуществляет форму архитектоническую – объединение и организацию познавательных и эстетических ценностей» [41, с. 311–312]. Отношение композиционной формы к материи есть специфическое отношение к средству, находящемуся по отношению к ней во всецело пассивном положении.
Таким образом, разгадка феномена виртуальной реальности – в соединении трактовки диалектики идеального (Ιdeelle) Э.В. Ильенкова и трактовки диалектики архитектонической и композиционной формы, содержания и материи М.М. Бахтина. Что касается зарубежных исследователей данного феномена, то они ни той, ни другой диалектикой не владели и не владеют. Что же касается российских исследователей, а также исследователей из постсоветских республик, после крушения Советского Союза эти исследователи отошли от диалектики, а категорию идеального вообще забыли. Ведь в «Новой философской энциклопедии» – как в первом издании (2000–2001 гг.), так и во втором (2010 г.) – статья «Идеальное» отсутствует.
Итак, подведём итоги нашего анализа того, что стоит за ставшим весьма популярным и совершенно некритически воспринимаемым биномом «виртуальная реальность». Мы рассмотрели истолкования виртуальности, существовавшие до возникновения данного бинома. Согласно, например, Фоме Аквинскому, осуществившему положительный синтез средневековой философско-теологической мысли, всеобщее существует в многообразных феноменах действительности вполне объективно для человека, ибо вложено в них во время творения Универсума Богом. Существует, говоря языком той эпохи, виртуально. Николай Кузанский тоже признаёт бытие Бога, хотя и трактует его по-особому, но в рассмотрении процесса произрастания дуба из жёлудя в какой-то мере абстрагируется от него. Будущий дуб существует в жёлуде объективно, но неявно для человека, то есть – опять же на языке того времени – виртуально. Процесс его роста есть его актуализация, процесс превращения виртуального в актуальное. Согласно Г.С. Батищеву нечто (например, способность) существует в человеке вполне объективно, её в него никто намеренно не вкладывал, то есть существует, выражаясь языком уже цитировавшегося выше «Словаря иностранных слов», виртуально. Способность может развиться или спонтанно, или же, будучи замеченной, целенаправленно и таким образом станет реальной. Виртуальные частицы, о которых речь идёт в физике элементарных частиц, также никем не созданы. Но могли быть названными и по-другому.
Позиции же современных апологетов бинома «виртуальная реальность» в истолковании феномена виртуальности отличаются от изложенных толкований. Позицию «панвиртуалистов», таких как Н.А. Носов и иже с ним, следует с ходу отвергнуть, так как она отрицает сама себя. Согласно тому же Носову виртуальная реальность предполагает существование «порождающей», или «константной», реальности. Но если мир тотально виртуален, то места этой реальности уже не находится. Остаётся позиция истолкования виртуальной реальности как артефакта. Варианты её толкования здесь не поддаются учёту. Общим для них является то, что «виртуальное» содержание привносится в предмет. Ближе всего к истине, по нашему убеждению, те, кто считает виртуальную реальность феноменом, созданным посредством современных компьютерных технологий.
Стало быть, в биноме «виртуальная реальность» первый его член – «виртуальная» – означает всего-навсего идеальное в смысле Ideelle. Что касается термина «реальность», то он тут вообще неуместен. Его можно заменить понятием «существование». В логике Гегеля существование относится к сфере сущности. Как известно, его Логика является изображением процесса манифестации её Абсолютной Идеей. Каждая категория является особенным моментом (своеобразным стоп-кадром) явленности себя: качество – количество – мера – и так далее, в том числе и существование, суть такие «стоп-кадры». Поэтому такая трактовка существования для нас в данном случае не подойдёт. Можно взять вот какую гегелевскую характеристику существования: оно есть «непосредственность, полагающая себя через снятие, существование есть отрицательное единство и внутри-себя-бытие; поэтому оно определяет себя непосредственно как нечто существующее и как вещь» [42, с. 116]. И как энергия – добавим мы. Сейчас разъясним.
Выработанное идеальное содержание, являющееся единством собственно содержания и его архитектонической формы, посредством композиционной формы опредмечивается в том или ином материале (материи в аристотелевском смысле6). Поэтому может создаться представление о том, что категория идеального неприменима к исследованию феномена виртуальной реальности по той причине, что и Маркс, и Ильенков писали, казалось бы, только об опредмечивании идеального в вещественной реальности, тогда как носителем виртуальной реальности является энергия, конкретнее – электричество. Конечно, к примеру, для книги, скульптуры или картины той материей, в которой посредством композиционной формы опредмечивается содержание с его архитектонической формой, является вещественный феномен. Но вот обычная устная человеческая речь переносится в ухо другому человеку по воздуху и уже в человеческой голове декодируется (распредмечивается) в осмысленные слова и их сочетания. «На “духе”, – сказано в “Немецкой идеологии”, – с самого начала лежит проклятие – быть “отягощённым” материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоёв воздуха, звуков – словом, в виде языка» [43, с. 29].
Или вот телеграф, телефон, радио, кинематограф и телевидение… Они созидаются и функционируют по тому же самому принципу. Только в этих случаях существует, очевидно (автор настоящего текста неспециалист в таких вопросах), уже не одна, а несколько субординационно соотносящихся между собой композиционных форм с соответствующими им материями. Гегель писал: «Материи, например магнетическая, электрическая, и не называются вещами. Они суть качества в собственном смысле слова, единые со своим бытием, суть определённости, достигшие непосредственности как бытия, которое есть рефлектированное бытие, существование» [42, с. 290]. Компьютерные технологии ещё сложнее. И здесь, вне всякого сомнения, роль материи выполняет энергия. А по-другому и быть не может. Как отметил Маркс, «одно только гегелевское “понятие” ухитряется объективироваться без внешнего вещества» [34, p. 18].
Принципиальное отличие феномена виртуальной реальности от таких изобретений, как кинофильм или телепередача, состоит ещё и в том, что человек-субъект как зритель находится рядом с ними и не является активным в плане их содержания. В виртуальную же реальность «можно проникать, меняя её изнутри, наблюдая трансформации и испытывая при этом реальные ощущения. Попав в этот новый тип аудиовизуальной реальности, можно вступать в контакты не только с другими людьми, но и с искусственными персонажами». Но это относится не к сущности того, что называют виртуальной реальностью, а лишь к технологиям создания и функционирования таких феноменов. Использование таких устройств для погружения в виртуальную реальность, как виртуальный шлем, виртуальные очки, виртуальные перчатки, виртуальный костюм, вызывает специфические зрительные, акустические и тактильные эффекты, создаёт и усиливает иллюзию действительного активного участия в индуцированной устройством среде, воспринимаемой как объективная реальность. В каком-то смысле такие погружения являются субститутами принятия психоделиков. Но использование этих устройств не меняет принципиального способа образования и функционирования виртуальной реальности.
Таким образом, тайна так называемой виртуальной реальности, как представляется, раскрыта. И дело не в том, существует или не существует феномен, получивший это название. Он существует, и дело заключается лишь в том, чтобы его понимать, избегая концептуальных аберраций. Необходимо, стало быть, тщательно пользоваться «бритвой Óккама»: своевременно избавляться от всяких «сущностей», изобретённых сверх необходимости.
Вот всё. Как выражались римляне, dixi, et salvavi animam meam (я сказал и тем самым спас свою душу).
1 О нём см.: [1, c. 350–355].
2 И только кварки «никогда не становятся реальными! Они всегда виртуальны, точнее, их нельзя наблюдать отдельно от других частиц» [17, с. 110].
3 Трагический парадокс состоит в том, что Д.И. Дубровский сегодня является сотрудником того самого подразделения Института философии РАН, в котором когда-то трудился Эвальд Васильевич Ильенков.
4 Правильнее было бы сказать – в знаке, ибо символ есть лишь одна из разновидностей знака. – А.Х.
5 «Материя… есть пассивное в противоположность форме как тому, что деятельно» [38, с. 79].
6 Таким же образом материю понимали и в Средние века в Западной Европе, и в начале Нового времени, а также представители философского идеализма и К.Г. Маркс. Философский материализм сформировался благодаря деятельности Т. Гоббса и Р. Декарта. Их продолжателями стали французские и английские материалисты, Ф. Энгельс, В.И. Ленин и почти поголовно – советские философы.
About the authors
Alexander A. Khamidov
Author for correspondence.
Email: smiriti@list.ru
SPIN-code: 7077-8200
Independent researcher, Doctor of Philosophy, Professor
KazakhstanReferences
- Chistikov AP. Architects of the computer world. Saint Petersburg: BHV-Peterburg, 2002. 383 p.
- Emelin VA. Simulacra and virtualization technologies in the information society. National Journal of Psychology. 2016;3(23):85–97.
- Dvoretsky IKh. Latin-Russian dictionary. 2nd ed. Moscow: Russkiy yazyk, 1976. 1096 p.
- Nosov NA. Virtualistics Manifesto. Moscow: Put’, 2001.
- Ancient Greek-Russian dictionary: in 2 vol. Vol. I: A–L. Compiler Dvoretsky I.Kh. Moscow: State publishing house of foreign and national dictionaries, 1958. 1043 p.
- Neretina SS, Ogurtsov AP. Paths to universals. Saint Petersburg: Publishing house RHGA, 2006. 999 p.
- Nosov NA. Virtual reality. New philosophical encyclopedia: in 4 vol. Vol. 1. A–D. Moscow: Mysl, 2010. Pp. 403–404.
- Neretina SS. Dictionary of medieval terms. Anthology of medieval thought (Theology and philosophy of the European Middle Ages): in 2 vol. Vol. 2. Saint Petersburg: RHGI, 2002. Pp. 512–607.
- Olshki L. History of scientific literature in new languages. Vol. 1. Literature of technology and applied sciences from the Middle Ages to the Renaissance. Moscow; Leningrad: Gostekhizdat, 1933. 303 р.
- Olshki L. History of scientific literature in new languages. Vol. 2. Education and science during the Renaissance in Italy. Moscow; Leningrad: Gostekhizdat, 1934. 220 р.
- Olshki L. History of scientific literature in new languages. Vol. 3. Galileo and his time. Moscow; Leningrad: Gostekhizdat, 1933. 324 р.
- Porfiry. Introduction to the Categories of the Phoenician Porphyry, a student of the Lycopolitan Plotinus. Aristotle. Categories. Moscow: Sotsekgiz, 1939. Application. Pp. 51–76.
- Boethius AMS. Commentary on Porfiry, translated by himself. Consolation of philosophy and other treatises. Moscow: Nauka, 1990. Pp. 5–144.
- Dictionary of foreign words. 18th ed., stereotypical. Moscow: Russkiy yazyk, 1989. 622 p.
- Kuzansky N. About the vision of God. Writings: in 2 vol. Vol. 2. Moscow: Mysl, 1980. Pp. 33–95.
- Hegel GWF. History of philosophy. Writings: in 14 vol. Vol. VIII. Moscow; Leningrad: Sotsekgiz, 1935. 470 p.
- Migdal AB. Quantum physics for big and small. Moscow: Nauka, 1989. 139 p.
- Khoruzhy SS. Genus or subgenus? Notes on the ontology of virtuality. Questions of Philosophy. 1997;6:53–68.
- Batishchev GS. Self-knowledge of a person as a cultural and creative being: three levels of task complexity. Philosophical and pedagogical works. Collected works: in 2 vol. Vol. 2. Works of the 1980s. Biysk: Federal State Budgetary Institution of Higher Professional Education “AGAO”, 2015. Pp. 103–125.
- Lobankov ID. Modern concepts of virtual reality. Bulletin of PAGS. 2015. Pp. 98–103.
- Nosov NA. Dictionary of virtual terms. Proceedings of the Laboratory of Virtualistics. Vol. 7. Proceedings of the career guidance center. Moscow: Put, 2000. 69 p.
- Nosov NA. Manifesto of virtualistics. Available from: https://www.virtualistika.ru/vip_15.htm
- Kirillova AA. The problem of virtual reality: socio-philosophical aspect. Abstract of Ph. D. Thesis. Murmansk, 2009. 20 p.
- Elkhova OI. Ontological aspects of virtual reality visualization. Abstract of Ph. D. Thesis. Ufa, 2006. 22 p.
- Tyagunova LA. Virtualization of society: essence and trends. Abstract of Ph. D. Thesis. Saratov, 2007. 18 p.
- Virtual reality. Available from: https://ru.wikipedia.org/wiki/Virualnaya_ realnost
- Rozin VM. Virtual reality as a form of modern discourse. Virtual reality. Philosophical and psychological problems. Moscow, 1997. Pp. 56–64.
- Castells M. Information Age. Economy, society and culture. Moscow: Higher School of Economics, 2000. 607 p.
- Nosov NA. Virtual psychology. Moscow: Agraf, 2000. 431 p.
- Hegel GWF. Science of logic: in 3 vol. Vol. 1. Moscow, 1970. 501 p.
- Von Karl Marx. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. 1-ter Band. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. 2-te verbesserte Auflage. Hamburg: Verlag von Otto Meissner, 1872. 830 s.
- Marx K, Engels F. Capital. Criticism of political economy: in 50 vol. Vol. 1. Book I: The process of production of capital. Ed. 2. Moscow: Politizdat, 1960. 907 p.
- Ilyenkov EV. Dialectical logic. Essays on history and theory. Collected works. Vol. 4. Moscow: Canon-Plus ROOI “Rehabilitation”, 2020. – Pp. 222–449.
- Von Karl Marx. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. 1-ter Band. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. Hamburg: Verlag von Otto Meissner, 1867. 784 s.
- Ilyenkov EV. Dialectics of the ideal. Collected works. Vol. 5. Moscow: Kanon-Plus ROOI “Rehabilitation”, 2021. Pp. 16–85.
- Dubrovsky DI. The problem of the ideal. Subjective reality. Moscow: Canon+ OI “Rehabilitation”, 2002. 367 p.
- Aristotle. Metaphysics. Works: in 4 vol. Vol. 1. Moscow: Mysl, 1975. Pp. 63–367.
- Hegel GWF. Science of logic: in 3 vol. Vol. 2. Moscow: Mysl, 1971. 248 p.
- Hegel GWF. Encyclopedia of Philosophical Sciences. Vol. 1. Science of logic. Moscow: Mysl, 1974. 452 p.
- Florensky PA. Analysis of spatiality [and time] in artistic and visual works. Moscow: Progress, 1993. Pp. 81–259.
- Bakhtin MM. The problem of form, content and material in verbal artistic creativity. Collected works: in 7 vol. Vol. 1. Moscow: Russkie slovari, Yazyki slavyanskoy kultury, 2003. Pp. 266–325.
- Marx K, Engels F. German ideology. Criticism of modern German philosophy in the person of its representatives Feuerbach, B. Bauer and Stirner and German socialism in the person of its various prophets. Works: in 50 vol. Vol. 3. Ed. 2. Moscow: Politizdat, 1955. Pp. 7–544.
- Mankovskaya IB, Motlevsky VD. Virtual reality. Culturology. XX century. Encyclopedia: in 2 vol. Vol. I. A–L. Saint Petersburg: Universitetskaya kniga; Aletheia, 1998. Pp. 118–120.
Supplementary files