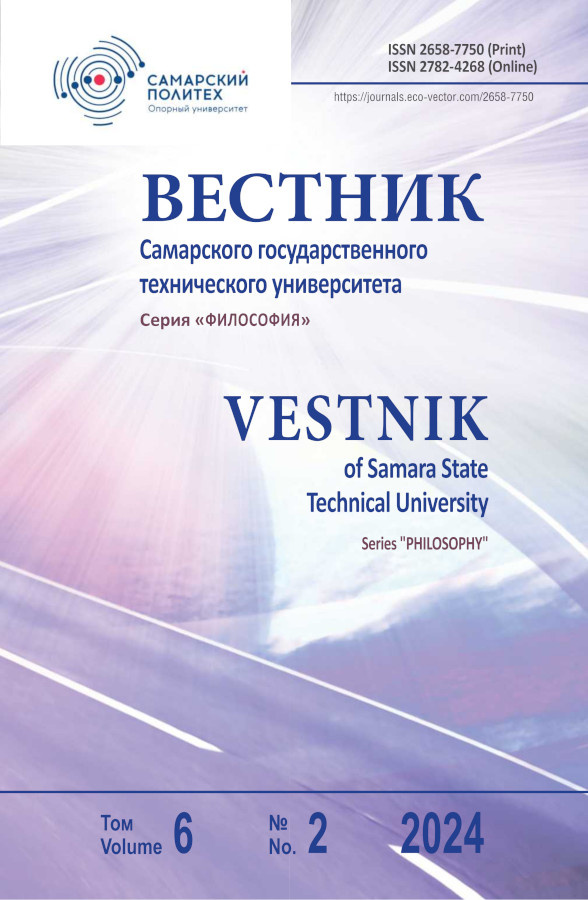The concept of truth in the structure of the Russian legal mentality
- Authors: Shestakova L.A.1
-
Affiliations:
- Samara National Research University named after Academician S.P. Korolyov
- Issue: Vol 6, No 2 (2024)
- Pages: 87-93
- Section: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/693141
- ID: 693141
Cite item
Full Text
Abstract
The article deals with the category of truth as an element of the legal mentality of Russians. The author explores the category using comparative legal and cultural research methods. The author comes to the conclusion that the term “truth” has a religious context and denotes a social ideal, the highest good. The concept of truth has been an integral element of the legal mentality of the Russian people since the 10th century. At present, it has not lost its significance, being the moral ideal of the modern justice system in Russia. The concept of truth should find consistent procedural implementation in laws, reflecting essential features and improving the quality of law enforcement.
Keywords
Full Text
Всё, что становится прошлым и что человек стремится сохранить в своей памяти (посещение каких-то мест в детстве, воспоминания), имеет культурное значение, поскольку человек не воспринимает реальность только как меняющийся ландшафт действительности. Прошлая жизнь не настолько погружена в прошлое, чтобы исключить её из круга интересов «настоящего» [7, с. 384].
Историческое мышление обращено к трансцендентному, поскольку оперирует уже свершившимся событием, однако видит в нем не эмпирически значимое обстоятельство, а нечто более отвлеченное от его сущности. Право обретает свой смысл как право народа в условиях существования социальной общности в свете её исторической судьбы. Жизнь человека, взятая ограничительно и условно, не социальна и не исторична. Народ, у которого нет понимания своего исторического предназначения, лишён государственности, у такого народа или социальной общности нет критериев легитимности власти, сложного юридического инструментария, а все житейские проблемы решаются с помощью грубой силы, а не права [7, с. 386].
Концепт правды на протяжении многих веков выступал в отечественной юриспруденции в качестве неотъемлемого нравственного компонента цели юридической деятельности [1, с. 371]. Являясь значимой частью правового менталитета россиян, под которым понимается основанный на русском языке и культуре способ восприятия права и закона, идея правды и в настоящее время находит отражение в оценочных категориях законов (совесть, справедливость, истина, назначение и др.) [4].
Идея справедливости была и остаётся одной из ключевых идей русской языковой картины мира. Правда воспринимается как фундаментальная ценность жизни [5]. Стремление к справедливости является одним из наиболее значимых стереотипов русской нации. Встречающийся в праве принцип справедливости наполнен российской ментальностью, милосердием и любовью, именно такая правда отождествляется с русской идеей [5].
Формирование концепта правды связано с образованием Руси, формированием её правовой системы в начале X века. Географическая близость Руси к цивилизациям франков и византийцев имела определяющее значение для становления её правовой системы. Указанные нации привнесли идею сильного централизованного государства, формализации судебного процесса, определили в будущем принадлежность к романо-германской правовой семье, для которой достижение истины являлось основной целью правосудия.
Особую ценность для формирования правовых норм, регулирующих отношения в древнерусском государстве, представляли русско-византийские договоры X века, которые были составлены на основе византийских доктрин [2, с. 81]. По сути, рассматриваемые соглашения являлись древнейшими памятниками, дающими представление о степени влияния Византии на Русь. Большая часть договоров 911–944 годов содержала положения, устанавливающие ответственность за различные преступления, а также порядок разрешения взаимных споров между русскими и греками, значение и систему доказательств. Одновременно с правовыми актами на Руси действовал греческий Номоканон, свод законов духовной и светской власти, который на Руси вплоть до XIX века назывался Кормчей книгой. Под влиянием византийских правовых норм в то время формировались гражданские институты Древней Руси. В этой связи в отечественной правовой науке было высказано обоснованное мнение о том, что на определённых этапах развития российское право заимствовало отдельные римские институты и понятия [2, c. 83].
Постоянные военные угрозы привели к быстрому формированию на Руси отношения подданства, где служилый человек не думал о защите своих прав, а стремился к получению обязанностей, за которые платили жалование. Люди были нужны государству, которому они служили, не заботясь о своих правах, до тех пор, пока их идеалы совпадали. Государь не в меньшей степени, чем его подданный, был заинтересован в сохранении единства, столь важного для обеспечения безопасности государства [3, c. 28].
Принятие христианства значительно ускорило европеизацию всех сторон жизни, в том числе общественно-правовой, поскольку обычное русское право во многом противоречило христианской морали и вере, начиная от семейных и заканчивая уголовно-правовыми отношениями. Выбор православия был объективно обусловлен климатическими, геополитическими условиями, стремлением к правде российского населения, которое стало ключевым элементом национального менталитета.
Сложившаяся в России государственная власть всегда была тесно связана с духовностью, эта связь характеризовала уровень взаимоотношений между отдельным индивидом и обществом [2, c. 90]. Идея правды имела религиозный контекст в связи с влиянием на менталитет россиян Ветхого Завета. В русских переводах текстов Священного Писания слова «истинность», «справедливость», «искренность» обозначались термином «правда». Таким образом, термин «правда» – это не поиск истины, не процесс её достижения, а общественный идеал, высшее благо [9].
Особое значение правды как элемента правового менталитета русского человека проявилось в российской истории, чему есть многочисленные примеры. В XI веке митрополит Илларион, обосновавший идею реализации верховной власти на основе закона-правды, говоря о власти князя, писал, что «князь крепостью опоясан, истиной обут и смыслом венчан» [9]. Из властно-государственной трактовки закона и правды, беззакония и неправды следовало, что правда для русского человека в результате христианизации становится атрибутом Бога. Термин «правда» активно используется и русскими князьями. Владимир Мономах задачу своего правления видел в вершении правосудия на основе правды. В «Повести временных лет» в XII веке категории «закон» и «правда» используются как полные синонимы. Александр Невский позднее также утверждал, что Бог не в силе, а в правде [9].
С принятием Судебников 1497, 1550 годов в законодательстве и бытовой лексике россиян впервые появляется термин «закон», однако до настоящего времени этот термин уступает по частоте использования другим терминам, таким как «правда», «справедливость», «истина».
Усиление значимости категории «правда» происходит в XIV–XVI веках, когда формируется образ святой Руси. Именно в этот исторический период происходит поиск смысла жизни, который видится в «житии по правде, по совести и справедливости». В это время оформляется идея «государства правды» или «православного царства». Реализация этой идеи наблюдается в концепции «Москва – третий Рим», в которой ведущая роль отводится божественному началу, во имя которого царём как помазанником Божьим должна быть организована земная жизнь. В концепции «Москва – третий Рим» Православная церковь понимается как «собрание всех верующих всех времен и народов под главенством Иисуса Христа и под водительством Святого Духа» (принцип «соборности»). Соборность есть прежде всего религиозное единство, основанное не на принуждении, но на любви. Принцип соборности противостоял как индивидуализму, разрушающему человеческую солидарность, так и коллективизму, нивелирующему личность. Представляя собой «единство во множестве», церковь сплачивала человеческое сообщество, сохраняя в то же время неповторимые черты каждого человека [6].
Для россиянина всегда была важна этическая оценка права, отсюда значимость таких категорий, как «правда» и «неправда». Неправда для носителей русского языка часто ассоциировалась именно с судьёй, правителем и чиновником. При этом указание россиян с их правовым менталитетом на возможность существования неправды в законе весьма устойчиво и нашло отражение в народном фольклоре: «Где суд, там и неправда»; «Хоть бы все законы пропали, только бы люди правдой жили»; «Вот бы все законы потонули, да и судей бы перетопили»; «На деле прав, а на бумаге виноват» [5].
Если в зарубежной культуре понятию «закон» или «законность» противопоставляются только беззаконие и произвол, то есть термины с отрицательным значением, то в русской закону противопоставлено ещё нечто доброе, положительное, а именно правда. За рамками закона, по русским представлениям, лежит зона добра, совести, справедливости, хотя и не имеющая такой чёткой регламентации, как закон. Закону юридическому противостоит правда – внутренняя справедливость, ощущаемая в душе как совесть [5].
Обоснованием положительного значения слова «правда» в русской правовой ментальности служат народные приметы: входить в дом, снимать обувь, вставать с постели следует с правой ноги, обручальное кольцо нужно носить на правой руке и т. д. В русском миропонимании считается традиционным отношение к правой стороне как к положительной, к левой – как к отрицательной. Именно поэтому в древних русских правовых источниках правосудие часто было синонимом «правдосудия» – судоговорения по правде [9].
Если идеалом правосудия и целью судопроизводства в западной правовой традиции является истина, под которой понимаются фактические обстоятельства дела, установленные путём анализа и проверки доказательств, то в русской правовой ментальности целью правосудия становится правда, которую можно почувствовать. Найти или не найти. Таким образом, правда – это следующий уровень понимания цели судопроизводства, где правда и есть справедливость.
В отличие от западного правового менталитета, в основе которого лежит правосознание с его действием разума, то есть разумной оценкой доказательств, в России основу составляет правочувствие, где проявляется дух, для которого понять – значит почувствовать. Таким образом, правда-справедливость для русского народного правосудия есть и идеал, и охраняемый объект, и цель. Для западного правосудия разумно остановиться только на достижении правды-истины [4]. Целью обычного русского правосудия стало достижение истины-справедливости или правды.
В западной правовой ментальности большое внимание уделяется процессуальному закону с его строго прописанной процессуальной формой – соответствием формальным процедурам и правилам достижения истины. В российской правовой ментальности правосудие не стеснено процессуальной формой. Бесформенность мысли приписывается самому русскому сознанию. Отчасти это объясняется тем, что дух не имеет формы.
Привычный для западной традиции закона подход определять состав правонарушения, а именно объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону, – не свойственен для российского народного правосудия. В народном (обычном) правосудии России любое событие правоотношения или преступления видится как нечто целое, живое, его оценка производится с учётом целой совокупности обстоятельств. В этом проявляется свойство образности русского мышления, с его стремлением охватить объект целиком, не раздробленным, в натуральном его виде. Отсюда и аксиома народного правосудия о том, что судить человека нужно с учётом его ума, хозяйства, а также в целом, чтобы никому обидно не было [4]. Принцип целостности у русских противопоставлен западному принципу частности во всех его проявлениях. Ведь истина даётся не по частям, правда предстаёт вся целиком.
Для западной правовой ментальности важное значение имеет и процесс доказывания – собирание, проверка и оценка доказательств. Этот процесс важен, поскольку является значимым элементом рационального анализа, однако для русского народного правосудия абсолютно непригоден, поскольку здесь действует общая ментальная установка, основанная на соборности сознания, где своим ничего не нужно доказывать – и так всё известно. Точно об этом писал Л.Н. Толстой: «Правда то, что правда, а не то, что доказано» [8, c. 327]. Однако эта установка не отрицает для народного правосудия необходимости установления, что же на самом деле произошло, что и как было. Это не означает, что в обычном праве отсутствует система доказательств. Здесь стоит задача не только и не столько установить, что и как было, сколько определить, что по правде произошло и как совершенное соотносится с понятием «справедливость». Самым распространённым доказательством в народном правосудии были показания свидетелей. Однако «когда дело известно в деревне, то и не надо свидетелей, и так всё ясно, когда всему миру известно».
Русское народное правосудие также имело сверхзадачу – обеспечение состояния мира и лада как проявления некого наивного идеала царствия Божьего на земле. Такой феномен обычного права, как «грех пополам», является важным примером достижения примирения сторон как желаемого результата судебного процесса. Дело решали, судя по человеку и по хозяйству, чтобы никому не было обидно. Общинный народный суд ориентировался на достижение правды, то есть истины-справедливости [4].
Для зарубежного правосудия главная задача – разобраться в деле, вынести законное решение, исполнить его и наказать виновного. Все остальные цели находятся вне поля зрения законодателя и системы правосудия в целом. Русское общинное правосудие не останавливалось на этих целях, ведь события – это часть общего бытия общины, на формальном решении остановиться невозможно, поскольку жизнь продолжается [4].
Концепт правды, являясь неотъемлемым элементом правового менталитета россиян, начиная с X века, не теряет своей значимости и в настоящее время, являясь нравственным идеалом, целью современного правосудия. Категория «правда» находит своё отражение в действующем в России законодательстве в виде оценочных категорий, таких как «совесть», «истина», «назначение», «цель судопроизводства». Являясь системообразующей категорией современных отраслей российского права, концепт правды должен находить последовательную процедурную реализацию в законах, отражая сущностные черты правового менталитета россиян и позитивно влияя на эффективность правоприменения.
About the authors
Lyubov A. Shestakova
Samara National Research University named after Academician S.P. Korolyov
Author for correspondence.
Email: lyuboshestakova@yandex.ru
SPIN-code: 1335-0515
Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics
Russian Federation, SamaraReferences
- Adamenko IE. Criminal procedural activity: system-forming grounds and components. Doctor’s degree dissertation: 12.00.09. N. Novgorod, 2018. 449 p.
- Azaryonok NV. The concept of improving the Russian criminal process within the framework of its historical form. Doctor’s degree dissertation: 12.00.09. Yekaterinburg, 2021. 547 p.
- Barabash AS. Public beginning of the Russian criminal process. St. Petersburg: Legal. Center Press, 2009. 424 p. (In Russ.)
- Gavrilov SN. Russian legal mentality: procedural law vs folk justice of customary law. Lex Russica. 2021;10(179). Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-pravovaya-mentalnost-protsessualnyy-zakon-vs-narodnoe-pravosudie-obychnogo-prava (accessed 05.11.2023).
- Glazkova SN. Law and order through the prism of the modern Russian language. Bulletin of ChelSU. 2017;12(408). Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/zakon-i-poryadok-cherez-prizmu-sovremennogo-russkogo-yazyka (accessed 05.11.2023).
- Kondakov IV, Korzh YuV. Friedrich Nietzsche in the Russian culture of the Silver Age. Social sciences and modernity. 2000; 6. Available from: https://nietzsche.ru/userfiles/pdf/kondakov.pdf (accessed 05.11.2023).
- Permyakov YuE. Modern philosophy of law: overview of the main problems: educational software for universities. St. Petersburg: Lan, 2023. 516 p. (In Russ.)
- Tolstoy LN. Complete works: in 90 vol. Vol. 18. Moscow: Khudozhestvennaya literatura, 1935. 365 p. (In Russ.)
- Yashin AN. The idea of Truth in Russian justice and public thought of the XI–XVI centuries. Manuscript. 2016;12-1(74). Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-pravdy-v-russkom-pravosudii-i-obschestvennoy-mysli-xi-xvi-vekov (accessed 05.11.2023).
Supplementary files