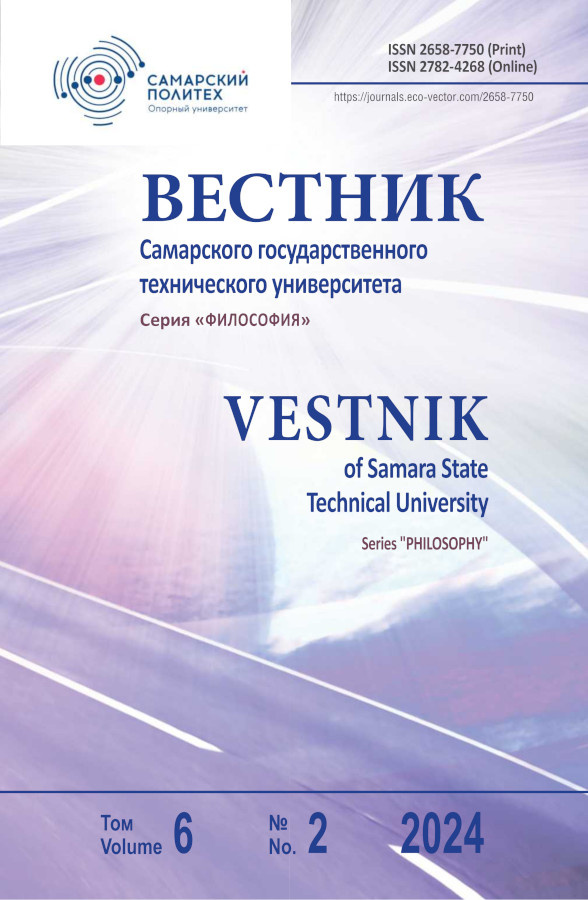The extrahuman realities of the polycentric world of culture: on the question of the depth of the Russian idea
- Authors: Malyshev V.B.1
-
Affiliations:
- Samara State Technical University
- Issue: Vol 6, No 2 (2024)
- Pages: 100-110
- Section: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/693145
- ID: 693145
Cite item
Full Text
Abstract
The article analyzes the deep components of the Russian idea. Today there is a powerful breakthrough in the development of Russia, it is necessary to understand and identify the features and meaning of this process, which makes the question of the essential characteristics and depth of the Russian idea especially relevant. The Russian idea is understandable in isolated, fragmentary meanings and intuitive insights, and in its entirety it can be understood only through a comprehensive metahistorical view of the problem. The search for the Russian idea is presented in the context of a conversation about the extrahuman realities of culture, about its original modalities. The ethical and aesthetic structure of the Russian idea is that it is not abstract, but becomes part of life itself, that very movement in the middle of being, in the “middle of nature”. The ethical and aesthetic structure of the Russian idea is that it is not abstract, but becomes part of life itself, that very movement towards unity in the middle of being, in the “middle of nature”.
Full Text
Человечество давно уже перешагнуло рубеж XXI столетия. Трансформационные процессы, опасность глобализма, этноцентризма, национализма и тому подобных явлений связаны с симуляцией всего подлинного, с подменой понятий и ценностей, которые сводятся к попытке продлить существование однополярного мира. Мы сегодня существуем в мире бездуховном, бессмысленном, полном симулякров: духовных ценностей, образования, человечности, культуры, смысла, веры… Может статься, что среди культур, сохранивших искру изначального божественного огня и саму душу культуры с её сверхсимволами, мы в который раз обратим взор на русскую культуру и поймем то, что можно постичь только в эпоху по своей сути апокалиптическую, во времена откровений о мире новом. Выкованная в горниле мучительного духовного поиска гениев русской культуры Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьёва, Н.А. Бердяева и многих других, Русская идея понятна в единичных, фрагментарных смыслах и интуитивных прозрениях, но всю её глубину в единстве и постоянстве смыслов понять пока трудно. Поэтому вопрос о глубинной природе Русской идеи в настоящий момент становится весьма актуальным направлением исследований. Тем более, если посмотреть на этот вопрос с необычного ракурса и рассмотреть указанную проблему в контексте внечеловеческих реалий возникновения любой культуры.
Почему глубочайшие прозрения, возникшие на фоне эпохальных событий, во свете истины, не становятся руководством к действию, так слабо влияя на жизненно важные свершения? Гении русской культуры в целом и философы, в частности, в своих высказываниях по поводу общих геополитических цивилизационных особенностей России едины в том, что к европейскому культурно-историческому типу Россия не принадлежит (Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, А.А. Блок, Н.Я. Данилевский, Ф.М. Достоевский, К.Н. Леонтьев и т. д.).
Каждый из нас интуитивно знает, что русский путь особый. На языке современности «каждый из нас» в то же время может быть назван «каждым другим». Почему? Во-первых, этот пресловутый западноевропейский Другой стал ускоренно размножаться не в смысле задания корневых векторов развития культуры, но именно почкованием, как сорняк, как та самая делезовская «ризома»; не случайно эксплуатация термина в философском, геополитическом плане достигает своего апогея. Во-вторых, если сегодня принято говорить о «центрах силы» в геополитическом смысле, что их может быть не один, а много, и они всегда «другие», то нужно помнить – первообраз такой дифференциации прописан и встроен в самих человеческих культурах, органических мирах коллективного сознания. Культурная реальность исконно существует по принципу мозаичности, размежевания и взаимопроникновения локальных очагов культуры. Сознаний много, миров культуры множество, как и культур. Мы начинаем жить в полицентричном мировом сообществе, но, зная законы культуры, можно лучше понять истоки такой полицентричности. И эти истоки лежат в той плоскости, которая может быть охарактеризована как внутренний мир человека. Этот внутренний мир распределяется во внечеловеческих регистрах. Однако оппозиция «внутренний мир человека – социальная реальность», будучи неявной в современности, в силу сокрытия конфликта между духовным потенциалом внутреннего мира человека и бездуховностью общества потребления делается всё более непреодолимой. «Последний человек» (Ф. Ницше) чувствует себя прекрасно, испытывая краткосрочное удовлетворение от потребления очередной порции материальных благ. Он живет мгновением. Но это совсем не то «мгновение ока» (М. Хайдеггер), что представлялось в античности, мыслилось как καιρος, «благоприятный момент», удачный миг. Это скорее напоминает электрический импульс в искусственном теле детища Франкенштейна, прототипа «ретортного человека» (Ф. Достоевский). Это мерцание химер в ночи цивилизационных сдвигов, но не серия глотков первозданного бытия.
Пророческие слова Константина Леонтьева о том, что «Европа разлагается, нужен новый культурный тип», о том, что начиная с 1861 года Россия больна «эгалитарным либерализмом», были произнесены ещё в последней трети века девятнадцатого, и прошедшие полтора столетия так мало нас научили [4, с. 123].
Именно сейчас происходит мощный рывок в развитии России, что делает постановку вопроса о сущностных характеристиках и глубине Русской идеи особенно актуальной. К.Н. Леонтьев вслед за Н.Я. Данилевским подчёркивал, насколько много надо усилий «для совращения» России «с пути того европеизма, на который ввел её реформами Петр I» [4, с. 62]. Разделяя в целом идеи автора «России и Европы», как весьма немногие из современников, он осознает, что дело не в серой и убогой современности, а в «движении вперед», что надо стоять за «сильный и бесстрашный процесс развития» [4, с. 62–63].
Нечеловеческую глубину и перспективу понимания устройства культуры на уровне её изначальных модальностей, в частности русской культуры, мешает понять ряд идолов воображаемого в мире культуры, которых мы перечислим ниже.
- Ограниченность во времени и пространстве, в лабиринте собственного разума. В настоящее время всё большую актуальность приобретает поиск культурных механизмов, способствующих преодолению ограниченности человеческого, прорыву к трансцендентным измерениям бытия, ведь «человек есть нечто, что следует преодолеть» (Ф. Ницше).
- Избыточный антропоморфизм в представлениях, идолы наших представлений о человеческой цивилизации, навязанные эталонами западной культуры. Существуют неантропоморфные векторы развития ядерных, глубинных структур культуры. Часто за подлинные формы культуры принимается пустая оболочка, что и происходило в России с петровских времен. Сегодня стало особенно заметно, что поверхностное заимствование у Запада цивилизационных форм, без всякой адаптации «на глубину», выглядит, по меньшей мере, нелепо.
- Моноонтическое понимание цивилизационной основы. Иллюзия моноцивилизации, навязанная всеобщей экспансией западной культуры. Привычка принимать культурную форму за содержание. Мы часто забываем, насколько современная эпоха нецельна, принимая частное за всеобщее, ведь пространство современных медиа свидетельствует о хаотическом сосуществовании расколотых, онтически незавершенных миров сознания. Существует принимаемая по умолчанию фундаментальная презумпция, согласно которой слово «цивилизация» означает именно европейскую цивилизацию, и родственное представление о том, что понять культуру – значит прежде всего её унифицировать по модели западной, неприменимой к культурным реалиям [2, с. 32]. Ещё Н.С. Трубецкой, основатель евразийства, указывал, что приверженцы западной идеологии введены в заблуждение словами «человечество», «цивилизация», «мировой прогресс», а ведь эти термины порождены романо-германской средой [12].
- Одномерное понимание культурной идентичности, односторонность в различении культур. Например, если за основу определения национальной или культурной идентичности берется только национальный язык. К.Н. Леонтьев в этой связи писал: «…не надо претендовать отличаться от других наций и культур одним каким-нибудь строго специфическим признаком» [4, с. 81].
- Неразличение базовых категорий культуросозидания, например «культуры» и «цивилизации», геополитической «силы» и собственно «культуры», претензия на знание «культурного кода» без постижения азов культурологического знания. В частности, у С. Хантингтона есть термин «культура цивилизации», где культура – слово в именительном падеже, а цивилизация – в родительном [13, с. 53].
Последний человек духовно мертв. Gott ist tot. Бог мертв, и он мертв именно в человеке. Духовных ценностей у такого человека просто нет. Именно о таком человеке говорит Ф. Ницше. «Что такое творение? Устремление? Что такое звезда?» – так вопрошает последний человек и моргает. Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий всё маленьким» [6, с. 15]. Получая краткосрочное удовлетворение от потребления материальных благ, человек впадает в тоску – на конвейере потребления нет того, что можно назвать счастьем. Он несчастлив потому, что отказался от духовных ценностей, ушел в забвенье Бытия.
Экономическое благосостояние, процветание государственных институтов, высокий уровень жизни, существование в условиях немыслимого раньше комфорта входят в обязательный экзистенциальный набор человека общества потребления. Однако экономический рай не эквивалентен человеческой экзистенции, совершенствованию человека как человека. Ф.М. Достоевский предвидел то время, когда возникнут новые экономические отношения, «совсем уж готовые и тоже вычисленные с математической точностию, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы» [1, с. 29]. В эту светлую эру «наука научит человека… что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика…» Это тот самый человек далекого будущего, о котором первым так ясно сказал Ф.М. Достоевский, а вовсе не Олдос Хаксли, это «ретортный человек», «отрешившийся от почвы и природных начал». Все человеческие поступки, по мнению великого русского мыслителя, будут рассчитаны математически, «вроде таблицы логарифмов» [1, с. 28]. Как отмечал Лев Шестов, «даже сам Гегель спасовал бы пред подпольным философом Достоевского» [14]. Дионисийский по духу русский мыслитель, подобный такому подпольному мыслителю Достоевского (а это он сам, это аспект его личности), станет нарушать общеевропейские мертвенные представления о порядке и гармонии.
- А между тем образ русского человека у А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А. Блока и многих других гениев русской культуры (вспомним не только Ф.М. Достоевского) – это человек стихийный, человек-стихия. Причём внутренний мир русского человека – комбинация неких стихий. Как говорит основатель евразийства Н. Трубецкой, «если рассматривать народ как индивидуацию многонародной личности: народ может оказаться не просто индивидуацией этой многонародной личности, а индивидуацией какой-нибудь из её «диалектических» индивидуаций и т. д. В принципе каждая личность есть (фактически или потенциально) индивидуация другой, более «объёмистой» личности. Существует как бы особая иерархия личностей – по признаку вхождения их друг в друга. Каждая личность конкретно существует в контексте этой иерархии личностей, т. е. эмпирически существует постольку, поскольку, с одной стороны, имеет определённые индивидуации, а с другой – сама является одновременной индивидуацией другой личности. Кроме этой, так сказать, «статической системы» иерархии личностей существует, как уже сказано было выше, для каждой личности и своя «динамическая система» сменяющих друг друга «разновременных индивидуаций». В каждый данный момент каждый данный человек является членом как той, так и другой системы» [12, с. 152–153].
Но дело в том, что сама ситуация бытия человека, особенно современного, есть ограниченность. Великий русский режиссер Андрей Тарковский писал в своём дневнике: «…человеческое – значит ограниченное, нераздельно подавленное рамками человеческой сферы с точки зрения материи» [11, с. 25]. При этом необходимо различать ограниченность человека как некой цельной субстанции культуры в классическую эпоху (там человек, какой бы он ни был, малый мир сознания, экзистенциальная монада) и современную оцифрованность, фрагментарность сознания. Итак, мир человека в классическую эпоху и в современности – совершенно разнопорядковые явления.
В классическом варианте, чтобы понять мир, человек должен неким образом придать ему собственный образ и этот гипостазированный образ поставить перед собой как картину, о чём по-разному, но так много сказано О. Шпенглером в «Закате Европы» и М. Хайдеггером во «Времени картины мира». Задолго до М. Хайдеггера О. Шпенглер подчёркивал, что для европейского человека «механистическая картина окружающего мира есть именно сам мир» [15, с. 156].
Существо современной симуляции подлинного удобнее всего представить через контраст c античностью. Античная метафора познания как запечатлевания в душе внешнего мира [7, с. 217–237] – не то же самое, что метафора фрагментированного сознания как некой симуляции в мире медиа. Современный человек в этой условной монокультуре – «ограничение ограничения», часто это «цифровой карлик» как разновидность «духовного карлика», существо с расщепленным на отдельные фрагменты сознанием, мыслящее мелко и мелкими величинами. Создаётся впечатление, что многое поистине великое ушло. То, что раньше называлось великим свершением как некой манифестацией «единого единства» свершающегося бытия (М. Бахтин), кажется почти невозможным в силу всеобщей фрагментации, расщепленности, симуляции. Появиться на мгновение в мире медиа, доказать всем свою значимость количеством инфоповодов и реакций на них, чтобы потом произошла имплозия сознания в медийной тотальности, и ему остаётся только раствориться, быть погребенным в медийных массивах данных, в цифровых копиях… То, что раньше считалось причастным самой Вечности, ныне по сути только симуляция.
Как достигается выход на глубинный уровень культуры, где только и возможно создание чего-то поистине нового? Только у таких великих мыслителей, как Ф. Достоевский, Ф. Ницше, О. Шпенглер, М. Хайдеггер, можем мы усмотреть эту архитектонику великой глубины. Многим творцам культуры часто казалось, что немыслимо связать человеческое с космическим, внечеловеческим, но в этом вся суть великой игры, мира-как-истории, сказал бы Освальд Шпенглер. Достигнуть максимальной степени свободы, обрести новые горизонты бытия вне себя, вне человеческой ограниченности – значит апеллировать к неким внечеловеческим инстанциям, которые превышают всякое человеческое понимание и разумение. И при этом припасть к Земле-матери, к чему нас решительно призывают Ф.М. Достоевский и Ф. Ницше. Всё это возможно сделать главным образом через механизмы, заложенные в культуре. Есть уровень некой трансцендентальной нечеловеческой глубины культуры, где открывается её идея, её первообразы, её сверхсимволы, её нечеловеческая красота. Ведь не случайно А. Камю говорит, что «основанием любой красоты является нечто нечеловеческое» [3]. Задолго до А. Камю Ф.М. Достоевский устами Дмитрия Карамазова заявил о нечеловеческой природе красоты, в которой «дьявол с Богом борется». Ведь гармония противоположностей, плодотворное соединение условно низшего и условно высшего, дионисийского и аполлоновского возможны только на уровне игры внечеловеческих инстанций. Кроме того, в знаменитом высказывании Достоевского есть переплетение «этического» и «эстетического», восходящее к идее всеединства и мировой гармонии.
Широко известно высказывание о том, что «нет красивых поверхностей без ужасной глубины» (Ф. Ницше). Григорий Померанц замечает, что «каждому из нас открыта бездна Бога» [8, с. 119]. Согласно О. Шпенглеру первое понимание глубины «своего» микрокосма как модели микрокосма большого есть акт рождения новой культуры. Есть некая первозданная тьма сознания, из которой «внутренний человек» должен найти выход, путём испытаний, поисков, страданий обрести своё «зерно просветления» (Г. Померанц). Когда человек открывает в себе глубину, полноту мироощущения, цельность своего сокровенного «я» – тогда у него есть шанс встать на путь творения. О том же возвещает «Заратустра» Ницше.
«Я говорю вам: нужно носить в себе ещё хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам: в вас есть ещё хаос. Горе! Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя. Смотрите! Я показываю вам последнего человека… Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех» [6, с. 15].
Но глубина эта должна стать устойчивой, обрести единство-и-постоянство. Некий символический центр, подобный мифологическому «мировому дереву», должен создать космос из первоначального хаоса. Глубина культуры есть прежде всего возделанный и преодолённый первозданный хаос в душе человека, из которого с помощью силы мысли возникает новый мир, мир, сотворенный одухотворенным сознанием. Душа культуры может быть понята не только по-шпенглеровски, это также и «космический солипсизм», и метафизическое «звездное небо», и этическая глубина И. Канта, это глубинные этико-эстетические прозрения в текстах Ф.М. Достоевского… Понимание глубины в русской культуре как глубины души прекрасно отобразил Константин Бальмонт:
Небо – в душевной моей глубине…
Там, далеко, еле зримо, на дне.
Дивно и жутко – уйти в запредельность,
Страшно мне в пропасть души заглянуть,
Страшно – в своей глубине утонуть.
К. Бальмонт. «В душах есть все»
Векторы выстраивания пути к информационно-гносеологическим ресурсам культуры в аспекте внечеловеческого можно усмотреть только на трансцендентальном уровне, при выходе на уровень изначальных модальностей культуры. Так на трансцендентальном уровне реализуется восхождение человеческой ограниченной природы к своему онтологическому истоку, тому, что мы называем внечеловеческие инстанции культуры.
Степень восприятия внечеловеческого зависит от призмы изначальных модальностей культуры. Внечеловеческие инстанции овеществляются в воображении человека через партитуру изначальных модальностей. В действительности призма модальностей неотделима от фигур внечеловеческих инстанций. Драму внечеловеческих инстанций очень трудно отобразить на языке понятий, и семантический пробел здесь прекрасно восполняет язык когнитивных метафор. Танец Языка, Драма Сознания, божественная Теодицея, Одиссея Мирового Духа, Трагикомедия Тела и неумолимый гимн Вечности, который исполняет само Время. Нечеловеческая циклопических размеров сцена – Ураническая бездна отвергнутого Бытия в мерцании звезд. Человек в культуре всегда находится посередине между реалиями статики и динамики. Внечеловеческие инстанции статики всем известны (как будто известны): Природа, Бог, Вещь, Сознание, Дух, Тело. Динамическую природу имеют Стихии внутреннего мира, Бытие, Язык, Игра, Время, на трансцендентальном уровне они выступают в качестве процессуальных модальностей культуры.
В своём понимании изначальных модальностей культуры мы акцентируем внимание на треугольнике Стихии внутреннего мира – Язык – Игра как репрезентации последовательных эманаций сознания в пространстве культуры. Первична в указанной триаде именно первая позиция, она же самая малоисследованная. Стихия внутреннего мира – всё то, что интерпретируется человеком как качественное бытийное состояние, в конечном счёте, определённого рода содержательное наполнение структур сознания, в частности кумуляция сходных протоэлементов природы, внутреннего мира, контекстов восприятия произведений искусства.
Все обозначенные нами изначальные модальности культуры берут на себя функции внечеловеческого субъекта. Поиск Русской Идеи – один из самых ярких и актуальных примеров разговора о внечеловеческом.
В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России, –
Там вековая тишина.
Н.А. Некрасов, 1858 г.
Рождение великой идеи требует тишины. Определённо не в шуме мощных словесных дебатов рождается истина, наилучшая атмосфера для её самообнаружения – это глубинка России, где та самая «вековая тишина». А условием тишины является прекращение механического бряцания стереотипной риторикой и поистине глубинное мышление – мышление самого Бытия.
Уже в самом разгаре XX столетия Петр Савицкий, говоря о необходимости поставить во главе национальной идеологии «Идею-Правительницу», указывает, что, прежде всего, «ее нужно выносить и взлелеять в глубинах сознания, увидеть и обрести на путях личного опыта, чтобы в порядке последующего раскрытия личный опыт этот стал опытом коллективным» [10, с. 138].
Но что такое этот «личный опыт»? В отечественном варианте всё начинается отнюдь не с гаджетов и разного рода инновационных технологий, всё начинается с любви к родной природе, к родной земле, с семьи и близких людей, воспитания с использованием образов из великих текстов русской культуры. Распределенное и чаще всего заблокированное в сетях медиа воображение не станет в истинном смысле творческим, продуктивным. Такая черта русской культуры, как «стихийность», уж точно не будет понята вполне. Тандем «воли» и «ума» вместо их оппозиции весьма необходим для российского менталитета.
В заключительной части нашего исследования рассмотрим те векторы понимания Русской идеи, которые наиболее продуктивно вскрывают её глубинные составляющие.
Прежде всего, понимание Русской идеи имеет самое прямое отношение к тому, что О. Шпенглер называл «душой культуры». Ставший вечным символом русской культуры гоголевский образ птицы-тройки достаточно возвышен и чист, чтобы служить репрезентацией указанного представления.
Во-вторых, подчеркнём внечеловеческий характер Русской идеи, ведь, как это сформулировал Владимир Сергеевич Соловьёв, подобное стремление формирует отнюдь не сам смертный человек с его бытийной ограниченностью; говоря языком теологии, Русская идея – «то, что о нас Бог думает в вечности» [9, с. 312].
В-третьих, укажем на трансцендентальность и трансцендентность понимания Русской идеи. В переводе на русский язык это звучит как ориентация на наивысшие ценности и апелляция к запредельным внечеловеческим инстанциям. Утверждение веры в разумное, доброе, вечное, прекрасное, истинное, высокое происходит спонтанно и неверифицируемо, стихийно, но это утверждение относится к трансцендентальному измерению бытия. Трансцендентальное – ограничение представлений о Боге рамками мыслимого, трансцендентное – доверие Богу и Русской идее как трансцендентной инстанции. С трансцендентальностью идеи коррелируют возможности кристаллизации вокруг этой идеи культурных форм, чего-то фундаментального – целой культуры, цивилизации и т. д. В этом смысле если культурный код трансцендентален, то культурный текст предстает как наличное бытие культуры. Эстетика трансцендентального уровня познания, где распределены изначальные модальности Русской идеи, предполагает, что наилучшим выражением метафизических идей и векторным распределением ценностей являются именно тексты гениев русской культуры.
В-четвёртых, отметим обширность и многогранность, метаобъектную распределённость структурных блоков Русской идеи в истории; каждая грань Идеи реализуется только в тех или иных культурно-исторических условиях. Например, одни условия и обстоятельства существовали в допетровской Руси, до времени церковного раскола, другие – после реформ Петра I; неизвестные доселе грани Русской идеи обнаружили себя после 1917 года, в советский период.
В-пятых, укажем, что Русская идея имеет фидеистически-аффирмативный характер. Термин фидеизм производен от лат. fidēs – вера. Аффирмация в данном случае есть утверждение того, во что веришь. Знаменитое тютчевское «в Россию можно только верить» подчёркивает трансцендентальный статус русской идеи в мире культуры. Не критиковать, а созидать – девиз фидеистически настроенного сознания. Картезианское сомнение – пример противоположной по отношению к отечественной фидеистической стратегии мысли. Когда же мы пытаемся поверить западной алгеброй русскую гармонию, тем самым мы уничтожаем глубинное основание русской культуры, которое может быть понято только через акт веры. Кажущиеся наивными представления русского народа о природе, приметы, обряды, языческие верования – это скорее то, что следует принять как данность и как условие более сложных представлений.
Шестое. Перманентно присутствующая ситуация полицентризма, полиэтничности в российской истории. Продуманная уверенность в «плодотворности туранской примеси в нашу русскую кровь» появилась в сочинениях Константина Леонтьева за полстолетия до оформления евразийского учения в трудах Николая Трубецкого. «Чем больше в нас, славянах, будет физиологической примеси и чем больше в то же время религиозного единства между собой и бытового обособления от Запада – тем лучше!» [4, с. 65]. При прочтении этих строк К. Леонтьева вспоминается высказывание Ф.М. Достоевского: «…воистину Азия для нас та же не открытая ещё нами… Америка. Со стремлением в Азию у нас возродится подъём духа и сил» [2, с. 137].
Седьмое. На первый план выходит этическая окрашенность Русской идеи, здесь присутствует особого рода переплетение этического и эстетического. Этика становится живой, становится не умственным основоположением, а частью самой жизни. И это – первая веха ко всеединству, к средокрестию бытия, бытия на родной Земле (русский человек находится, по словам Г.Р. Державина, «в почтенной Средине естества»). В силу географических особенностей территории нашего проживания важна именно ценность родной Земли. Нам необходимо «быть посреди», «стоять посреди» всех цивилизационных порядков, что, в конечном счёте, означает быть на некой «вершине». Но как взойти на вершину, если мы ещё не научились твердо стоять на ногах и восходить к этой вершине от подножия?
About the authors
Vladislav B. Malyshev
Samara State Technical University
Author for correspondence.
Email: vlmaly@yandex.ru
SPIN-code: 7981-8777
Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Philosophy and Social Sciences and Humanities
Russian Federation, SamaraReferences
- Dostoevsky FM. Notes from the underground. Moscow: Martin, 2021. 144 p. (In Russ.)
- Dostoevsky FM. West vs Russia. Moscow: Rodina, 2022. 288 p. (In Russ.)
- Camus A. The Rebellious Man. Philosophy. Politics. Art: Transl. from Fr. Moscow: Politizdat, 1990. 415 p. (Thinkers of the XX century).
- Leontiev KN. Notes of a hermit. Moscow: AST, 2004. 237 p. (In Russ.)
- Mamardashvili MK. Consciousness and civilization. Speeches and presentations. St. Petersburg: ABC, ABC-Atticus, 2011. 288 p. (In Russ.)
- Nietzsche F. So said Zarathustra. Moscow: Eksmo, 2010. 416 p.
- Ortega y Gasset H. Two main metaphors. Spineless Spain. Moscow: AST, Ermak, 2003. Pp. 217–237.
- Pomerantz GS. Openness to the abyss. Meetings with Dostoevsky. 2nd ed., Moscow – St. Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives, 2013. 416 p. (Series “Russian Propyleis”) (In Russ.)
- Russia through the eyes of Russian: Chaadaev, Leontiev, Solovyov. Saint Petersburg: Nauka, 1991. 312 p. (In Russ.)
- Savitsky PN. Continent of Eurasia. Moscow: Agraf, 1997. 464 p. (In Russ.)
- Tarkovsky AA. Martyrology. Diaries 1970–1986. Moscow: Andrei Tarkovsky International Institute, 2022. 256 p. (In Russ.)
- Trubetskoy NS. Genghizhan’s legacy. Moscow: Eksmo, 2007. 736 p. (In Russ.)
- Huntington S. Clash of civilizations. Moscow: AST, 2018. 640 p.
- Shestov LI. Dostoevsky and Nietzsche. St. Petersburg: ABC, ABC-Atticus, 2016. 384 p. (In Russ.)
- Spengler O. Sunset of Europe. Minsk: Harvest; Moscow: AST, 2000. 1376 p.
Supplementary files