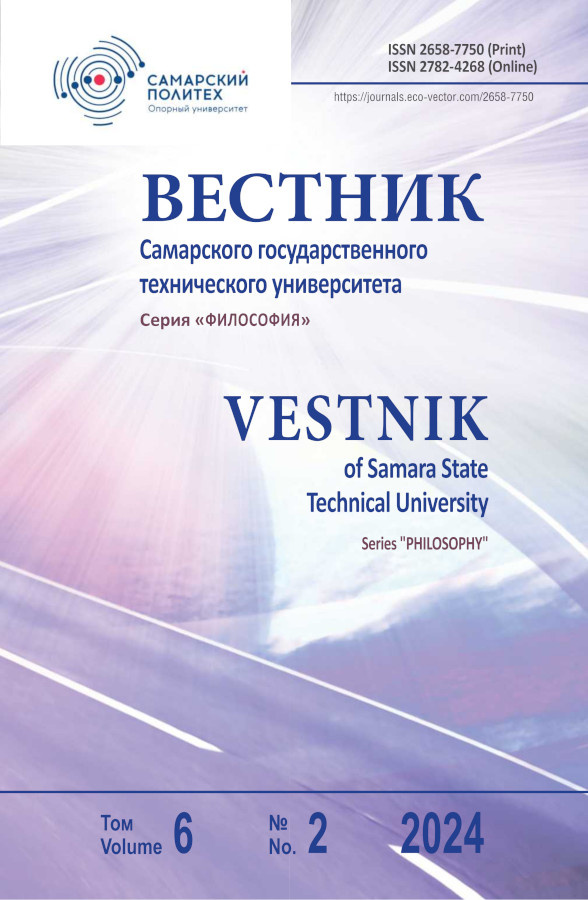Classics in the post-classical era: philosophy of the religion of German idealism from Kant to Hegel in the structure of modern higher humanitarian education
- Authors: Vasechko V.Y.1
-
Affiliations:
- Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 6, No 2 (2024)
- Pages: 111-118
- Section: FOREIGN PHILOSOPHY: HISTORY AND MODERNITY
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/693149
- ID: 693149
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to theological aspect of teaching the German classical philosophy as structural element of a system of modern arts education in Russia. The nodal moments on which the teacher entering the students into the problem field “Philosophy of Religion of Kant, Fichte, Schelling, Hegel” is offered to focus are allocated. The epistemological clusters built around concepts “God”, “religion”, “church”, “Christianity”, “Bible”, “Scripture” are carried to number of those.
Keywords
Full Text
Очевидно, что современный вузовский преподаватель социально-гуманитарных дисциплин должен иметь высокий уровень общей и профессиональной культуры. Чтобы дать учащимся представление о некотором круге проблем, связанных с духовной жизнью человека и общества, преподаватель, помимо прочего, должен обладать и знаниями в сфере философии. А формирование такого философского бэкграунда даже в постнеклассическую эпоху по умолчанию предполагает хорошее знакомство с трудами классиков философии, по крайней мере, с теми из них, которые имеют непосредственное отношение к преподаваемой дисциплине.
Думается, что обучение будущих профессионалов-гуманитариев немыслимо без введения их в проблематику не только современной, но и классической философии религии. Труды классиков немецкого идеализма конца XVIII – начала XIX века занимают в корпусе текстов, изучение которых выстраивает, концептуализирует и должным образом ориентирует мышление специалиста-«человековеда», одну из ведущих позиций, которая наверняка сохранится и в обозримом будущем.
На наш взгляд, оптимальным форматом для освоения студентами-гуманитариями концептуального поля «Религия в немецкой классической философии» было бы введение предмета с примерно таким же названием в вузовские учебные планы в качестве самостоятельного элективного курса, читаемого, разумеется, в последние годы обучения в бакалавриате и магистратуре. Однако в зависимости от профиля конкретного вуза, сложившихся в нем традиций, а также качества подготовки и интересов профессорско-преподавательского состава возможно рассмотрение указанной тематики в рамках таких нормативных учебных дисциплин, как «История зарубежной философии» (или специально читаемого в иных вузах курса «Немецкая классическая философия») и «Философия религии». Главное условие здесь – выделение философско-религиозных концепций Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля в отдельный блок (учебный модуль): это подчёркивает важность их комплексного изучения и создаёт предпосылки для углубленного анализа и осмысления студентами релевантных текстов.
Непосредственному обращению к работам немецких философов-классиков должна предшествовать общая характеристика лютеранской религии, в лоне которой воспитывались, получали образование и даже защищали богословские диссертации будущие корифеи немецкой классической философии. Хотя впоследствии все они так или иначе дистанцировались от официальной лютеранской теологии и церкви, специфика этой христианской конфессии не могла не отразиться на немецкой философии. Эта специфика во многом предопределила как характер постановки философско-теологических проблем Кантом и его последователями, так и предложенные этими мыслителями варианты их решения. Немецкий протестантизм с его догматом об оправдании верой, стиранием резкой грани между мирянами и клиром, провозглашением права каждого христианина самостоятельно толковать Писание, безусловно, способствовал широте и свободе философского дискурса в Германии.
Не в последнюю очередь именно благодаря провозглашенным в своё время Мартином Лютером принципам Германия постепенно сделалась страной с одним из самых высоких в Европе уровней образования и интереса к научно-теоретической работе. Немецкие университеты, создававшиеся и существовавшие под патронажем местных правителей, взращивали одно поколение крупных учёных за другим, и своими успехами немецкая философия также во многом была обязана существовавшей в стране образовательной системе. Впрочем, нельзя забывать и о недостатках такой «профессорской философии», которые, будучи продолжением её достоинств, позднее стали причинами её ослабления, кризиса и ухода с интеллектуальной авансцены на задний план.
Стоит указать и на то, что рационально-критический подход как выдающаяся особенность немецкой философии тоже имел истоки в лютеранской догматике. Рационализм, утверждавшийся как норма духовной и интеллектуальной жизни, вполне закономерно рано или поздно должен был затронуть и философию, дав ей и мощный творческий импульс, и разнообразнейший материал для теоретических штудий, и зачатки того критического метода, который будет основательно разработан и отшлифован Кантом, а позднее востребован продолжателями его дела.
Немаловажно, что в той интеллектуально насыщенной атмосфере, которая сложилась в Германии, между философами, занимавшимися самыми абстрактными теоретическими проблемами, и их современниками, работавшими в более конкретных областях, установились тесные и взаимовыгодные контакты. Философы живо интересуются дискуссиями, которые то и дело вспыхивают в кругах учёных, писателей, художников и вообще представителей изящных искусств, выступая при желании и в случае необходимости с собственным мнением. В свою очередь новый философский инструментарий быстро осваивается за рамками собственно философии: Лихтенберг, Шиллер и Гердер, например, немало заимствуют у Канта, немолодой уже (всего на 5 лет моложе Канта) Мендельсон, будучи в Кенигсберге, слушает его лекции вместе с молодыми школярами, теории Шеллинга весьма популярны как среди естествоиспытателей, так и среди художников и литераторов, а между двумя немецкими гениями, Гёте и Гегелем, помимо длившейся десятилетиями переписки с активным обменом идеями, возникает ещё и личная дружба.
Параллельно с доминирующим рационализмом существует и противоположная традиция, мистико-иррационалистическая, которая не только имеет своих ярких адептов, но и оказывает воздействие на духовную жизнь в целом. То оправдание верой, на которое делал ставку Лютер, предполагало устранение и всяких рассудочных, связанных формально-логической аргументацией посредников между человеком и Богом. Религиозно-мистический дискурс, мистицизм, собственно, никогда полностью не исчезал из пространства немецкой (можно сказать даже, общеевропейской) культурной жизни. Почти не получая официальной академической поддержки, он регулярно давал о себе знать в деятельности отдельных блестящих мыслителей, едко и метко критикующих господствующий образ мышления и привлекающих внимание широкой публики. Свою дань отдали ему и классики немецкой философии, примеры тому – аккуратное прочерчивание Кантом границы между знанием и верой, параллели между диалектикой Гегеля и мистикой оригинального мыслителя-сапожника Якоба Бёме (которые проводит сам берлинский профессор) и, конечно же, «философия откровения» (она же «позитивная философия») Шеллинга.
Основное внимание преподавателя, ведущего рассматриваемый нами учебный курс, должно быть направлено на формирование у студентов навыков самостоятельной работы с теми произведениями, в которых классики немецкой мысли изложили свои взгляды на религию как таковую, а также на её атрибуты, элементы и разновидности. Ниже в таблице мы приводим список этих работ, среди которых как сравнительно небольшие по объёму статьи и рукописи, так и капитальные трактаты и лекционные курсы. Разумеется, преподаватель, хорошо знающий свою аудиторию и возможности конкретного студента, вправе широко варьировать дидактические формы и выбор отдельных предлагаемых для конспектирования и углубленного изучения первоисточников. Но в любом случае по завершении курса студент должен не просто иметь общее представление о том, чем занимались Кант, Фихте и другие философы в плане осмысления религиозных проблем, но и быть способным понимать их произведения и работать с ними, владеть соответствующей терминологией (тем более что она своя у каждого из четырёх мыслителей) и, самое главное, уметь извлекать из этих текстов значимое для своей профессиональной деятельности содержание.
Таблица
Работы классиков немецкого идеализма, посвященные проблемам религии
Автор | Название работы и год её опубликования | Русский перевод |
И. Кант (1724–1804) | «Религия в пределах только разума» (1793) | Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 78–278. |
«Предполагаемое начало человеческой истории» (1786) | Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 43–59. | |
«О неудаче всех философских попыток теодицеи» (1791) | Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 60–77. | |
«Конец всего сущего» (1794) | Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 279–291. | |
И.Г. Фихте (1762–1814) | «Опыт критики всякого откровения» (1792) | Фихте И.Г. Сочинения: Работы 1792–1801. М.: Ладомир, 1995. С. 99–227. |
«Основные черты современной эпохи» (1806) | Фихте И.Г. Соч.: в 2 т. Т. 2. СПб.: Мифрил, 1993. С. 359–618. | |
«Наставление к блаженной жизни, или также учение о религии» (1806) | Фихте И.Г. Наставление к блаженной жизни. М.: Канон+, 1997. С. 5–166. | |
«О сущности ученого и её явлениях в области свободы» (1805) | Фихте И.Г. Наставление к блаженной жизни. М.: Канон+, 1997. С. 167–258. | |
Ф.В.Й. Шеллинг (1775–1854) | «Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах» (1809) | Шеллинг Ф.В.Й. Соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1989. С. 86–158. |
«Введение в философию мифологии» (1825) | Шеллинг Ф.В.Й. Соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1989. С. 159–374. | |
«Философия откровения» (лекции, читавшиеся в 1840-е гг.; опубл. 1856–1861) | Шеллинг Ф.В.Й. Философия откровения: в 2 т. СПб.: Наука. Т. 1. 2000. 699 с.; Т. 2. 2002. 480 с. | |
Г.В.Ф. Гегель (1770–1831) | «Народная религия и христианство» (1792–1795; опубл. 1844) | Гегель. Работы разных лет: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1970. С. 45–86. |
«Позитивность христианской религии» (1795–1796; опубл. 1844) | Гегель. Работы разных лет: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1970. С. 45–86. | |
«Жизнь Иисуса» (1795; опубл. 1844) | Гегель. Философия религии: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 35–100. | |
«Дух христианства и его судьба» (1798–1800; опубл. 1844) | Гегель. Философия религии: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 101–194. | |
«Лекции по философии религии» (читались в 1821–1831; опубл. в 1832, 1840) | Гегель. Философия религии: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 203–530; Т. 2. М.: Мысль, 1977. С. 5–333. | |
«Лекции о доказательстве бытия бога» (читались в 1829; опубл. 1832) | Гегель. Философия религии: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1977. С. 335–495. |
При всей индивидуальности каждого из данных философов, имеющих свои предпочтения, персональный религиозный опыт и собственную систему категорий, есть проблемные кластеры, которые важны для всей этой группы и метафизически объединяют её в ту корпорацию, которая в постпозитивистской философии науки получила название «невидимого колледжа». Кроме того, эти же кластеры, эти узлы проблем оказываются связующими звеньями между дискурсом той эпохи, событиями более чем двухвековой давности и нашими днями.
Прежде всего это понятие Бога как предпосылки, фокуса и главного предмета религиозно-философской рефлексии. У наших персонажей находятся свои семантические эквиваленты для термина «Бог», которые подчёркивают, что речь идёт о Боге как элементе не всякого, а именно философского дискурса: «первосущность», «безусловно необходимое существо», «высшее мыслящее существо» (Кант), «абсолют» (Фихте, Шеллинг), «непосредственный принцип природы», «сущность всякого бытия» (Шеллинг), «абсолютная идея», «абсолютный дух», «абсолютная субстанция» (Гегель). Но в любом случае Бог трактуется как сущность, вполне доступная разумному человеческому познанию – при всей её радикальной отличности от чувственных вещей и особом, даже исключительном способе её существования. Бог для философа – это не просто некая данность или объект веры (хотя и роль последней все они в той или иной мере допускают), а задача, проблема, которую и можно, и должно решать средствами науки. Бог интересен для них прежде всего как существо, открывающее себя мыслящему человеку и притом обеспечивающее его всеми необходимыми средствами для такой специальной теоретической деятельности.
Всех четверых философов роднит более или менее негативное отношение к церкви, к церковной догматике и тесно связанному с ними официальному богословию. «… Богословы (ибо их сословие, из любви ли к райскому блаженству или из страха перед адом, приобрело наибольшее влияние из всех прочих) стремятся, с тех пор как они вообще есть, воспитать всех людей, не исключая деревенской детворы, глубокими богословами и искушёнными знатоками догматов», – пишет Фихте [2, с. 276]. Для Шеллинга штатные теологи – это «люди, для которых дело заключалось лишь в том, чтобы отыскивать подтверждения своему положению, что всякая научная философия ведёт к атеизму, которые видели поэтому атеизм везде – и там, где он был, и там, где его не было» [3, с. 125]. Указывая при необходимости на примитивность и теоретическую бесплодность вульгарного атеизма, признавая значение Церкви как стабилизирующего социальную жизнь института, философы неизменно критиковали догматический образ мышления, жёстко навязываемый мирянам церковью вне зависимости от её конфессиональных особенностей.
Несогласие философии с Церковью обнаруживается и в тех случаях, когда заходит речь о специфике христианства, о его месте в истории религии и среди ныне существующих вероисповеданий. Если для теологов и иерархов между христианством (а точнее, вполне конкретной его разновидностью – католицизмом, православием, лютеранством, кальвинизмом и т. д.) и всем, что было в религии раньше и есть теперь, лежит абсолютная и непреодолимая пропасть, то для философов религия Иисуса Христа остаётся культурным феноменом, генетически и актуально связанным с иными, до- и вне-христианскими способами духовного освоения мира. Философы (особенно выделяются здесь Шеллинг и Гегель) обращаются к истории религии, к её истокам и, не отрицая специфики христианства в сравнении с массой «языческих» верований, стараются увидеть в нем естественный и закономерный продукт длительного культурно-исторического развития, адекватно понять который можно только при условии владения хорошо проработанной методологией постижения духовной реальности. Немецкие классики явились своего рода провозвестниками, пионерами тех разноплановых и глубоких теоретических исследований религии, которые развернулись уже во второй половине XIX и в ХХ веке.
Отношение к христианскому Священному Писанию также сближает Канта с Фихте, Гегелем и Шеллингом. Не опускаясь до нигилизма и огульного третирования Библии как архаичных и бессмысленных текстов, собрания всякого рода бредней и нелепостей, философы стремятся выявить в древних книгах непреходящее, вневременное содержание, сохраняющее ценность для любой эпохи. В библейских мифах типа сотворения мира, грехопадения или боговоплощения философы находят указание на постановку вполне достойных рационально-критического исследования проблем. Они, например, единодушны в том, что первобытный рай – не более чем фикция, наивная проекция на прошлое не лучших человеческих желаний, но также солидарны и в том, что необходимость «в поте лица добывать хлеб свой» – вовсе не божественная кара и не трагедия, а то непременное условие, на базе которого формируется всё здание человеческой культуры и человек, собственно, становится Человеком – активным, творческим, мыслящим существом. Как писал Кант, именно благодаря греховному проступку прародителей у человека открылись глаза: «Человек обнаруживает в себе способность избирать образ жизни по своему усмотрению и не придерживаться, подобно другим животным, раз и навсегда установленного порядка» [1, с. 46].
Но, конечно, в любом случае при оценке Библии каждый философ исходит из собственной системы воззрений и оперирует своими категориями. Он также помнит, что писались ветхо- и новозаветные книги в разное время и очень разными людьми, и потому ценность той или иной книги или даже отдельного изречения нужно ставить в зависимость от того высшего духовного содержания, которое здесь присутствует (если оно там вообще есть). Так, Фихте и Шеллинг резко отделяют Евангелие от Иоанна от Евангелий синоптиков: если в первом, по их мнению, нашло выражение главное, что характеризует аутентичный идейный смысл христианства как философии откровения, то в трёх других налицо сильное влияние иудаизма и рассматривать их нужно именно под этим углом зрения. И таким же избирательным, дифференцированным, обдуманно-критическим остаётся отношение философов к любому компоненту Писания.
В заключение подчеркнём, что, преподавая эту сложную дисциплину, нужно помнить, что за каждым из нас, будь он сейчас в роли учителя или, наоборот, ученика, всегда остаётся долг осмысления, осознания, субъективного переоценивания тех ценностей, которые первоначально даны нам всего лишь аксиоматически, как догмы и абсолюты. Эту работу переложить нам не на кого, зато у нас имеется надёжная опора – труды тех, кто уже проделал подобную работу когда-то в своё время. Только опора не в том смысле, что мы найдем в них готовые рецепты и подсказки, а в том, что знакомство с тем, как мыслит и действует свободный дух в другом человеке, поможет открыть, как действует тот же самый дух в нас самих. Изучение произведений немецких классиков, собственно, призвано стать для каждого из нас такой школой формирования и развития независимого и конструктивного творческого мышления.
About the authors
Vyacheslav Yu. Vasechko
Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: vyacheslavpetro@yandex.ru
SPIN-code: 3610-5534
Doctor of Philosophy, Associate Professor, Leading Researcher
Russian Federation, YekaterinburgReferences
- Kant I. The alleged beginning of human history. Treatises and letters. Moscow: Nauka, 1980. Pp. 43–59.
- Fichte IG. Philosophy of Freemasonry: Letters to Constant. Instruction for a blissful life. Moscow: Canon +, 1997. Pp. 259–322.
- Schelling FVY. Philosophy of Revelation: in 2 vol. Vol. 1. St. Petersburg: Nauka, 2000. 699 p.
Supplementary files