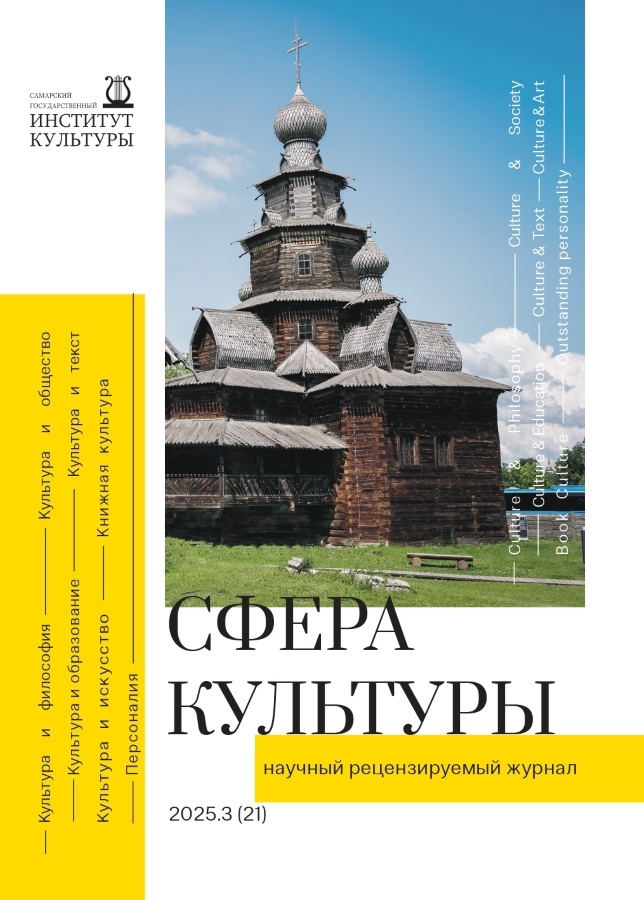Роман-буриме в отечественной беллетристике 1910-х гг.: феноменология, авторские интенции и социокультурный контекст
- Авторы: Танасейчук А.Б.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
- Выпуск: Том 6, № 3 (2025)
- Страницы: 69-81
- Раздел: Культура и текст
- Статья опубликована: 10.10.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/692631
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2025_21_69
- ID: 692631
Цитировать
Полный текст
Аннотация
С коллективных авантюрно-фантастических романов «Три буквы» (1911) и «Чертова дюжина» (1918) начинается история прозаического буриме в российской беллетристике. Настоящая статья – первая в отечественном литературоведении попытка интерпретировать явление в социокультурном контексте эпохи, выявить его феноменологию, главные (в том числе жанровые) особенности каждого из романов. Необычный эксперимент соединил очень разных писателей: классиков (или почти классиков) – А. Куприна, А. Аверченко, Ф. Сологуба; «крепких профессионалов» – И. Ясинского, Н. Тэффи, А. Измайлова и др., и тех, кого принято считать поставщиками «бульварного чтива», – П. Гнедича, А. Зарина и др. В центре внимания – история создания произведений, авторские интенции, вклад каждого из соавторов, причины неудачи проектов.
Ключевые слова
Полный текст
Роман – «большой жанр». Среди множества его модификаций авторы авторитетной «Литературной энциклопедии терминов и понятий» выделяют две основные группы жанровых дефиниций: «тематические – автобиографический, военный, детективный, документальный, женский, интеллектуальный, исторический, морской, политический, приключенческий, сатирический, сентиментальный, социальный, фантастический, философский» и т. д. и «структурные – роман в стихах, роман-памфлет, роман-притча, роман-фельетон» и др. [1, с. 892]. Среди них нет понятия «роман-буриме», как, впрочем, нет и определения коллективному роману. Последний присутствует в «Большой российской энциклопедии». При этом оба явления воспринимаются как синонимичные. В статье «Коллективный роман» читаем: «Коллективный роман (роман-буриме) – художественное произведение, написанное по принципу литературной игры (буриме). Важную роль в построении фабулы играет импровизация. Писатели по очереди пишут свою часть произведения, не зная, как ее разовьет следующий участник. У авторов нет предварительной договоренности, характеры героев и сюжетные ходы не согласовываются» [2]. Едва ли данная дефиниция безупречна – в отечественной и мировой литературе есть примеры именно «коллективных» романов, в которых присутствует «импровизация», но есть и «предварительная договоренность», а «характеры героев и сюжетные ходы» согласованы, но их нельзя отнести к разряду романов-буриме. Иллюстрация тому – «Джин Грин – неприкасаемый» (1972) Гривадия Горпожакса (Василия Аксёнова, Овидия Горчакова, Григория Поженяна); романы автора Павел Багряк (1966–1986), под маской которого скрывались Дмитрий Биленкин, Валерий Аграновский, Владимир Губарев, Ярослав Голованов и Виктор Комаров. Не все однозначно и с братьями Стругацкими. Можно обратиться и к более раннему – зарубежному опыту, к проектам американского журналиста Джозефа Вуда «Фенелла» (1891) или американского писателя У.Д. Хоуэллса «Вся семья» (1908). Разумеется, и они не были первыми – истоки явления, вероятно, следует искать в совместных проектах Ч. Диккенса с другими авторами1 в литературных журналах «Домашнее чтение» (1850–1859) и «Круглый год» (1859–1870), на страницах которых коллективных текстов разнообразного вида и содержания довольно много [4]. Очевидно, что термин нуждается в корректировке, а дефиниция, предложенная энциклопедией, больше подходит все же именно роману-буриме.
Тем не менее в отечественной науке о литературе сам термин используется в исследованиях, посвященных как современным художественным практикам [5, с. 128-142], так и отдаленным по времени [6, с. 33-39].
Среди текстов, упомянутых в энциклопедической статье, авторы особо выделяют романы «Три буквы» (1911) и «Чёртова дюжина» (1918), справедливо воспринимая сочинения как самые ранние и наиболее интересные отечественные образцы жанровой модификации. Очевидно, что история романа-буриме в России (весьма, надо сказать, насыщенная) начинается именно с этих произведений. Они не только имели основополагающий характер, но вовлекли в орбиту коллективного сочинительства многих ярких представителей русской литературы 1910-х гг., в том числе и тех, кого можно отнести к классикам, – А. Куприна, А. Аверченко, Ф. Сологуба. К сожалению, ни сам феномен, ни его характер и особенности, ни история создания текстов, ни вклад соавторов, ни идейно-художественное и содержательное своеобразие произведений так до сих пор и не стали предметом изучения истории отечественной литературы. Исключения – небольшая статья полувековой давности, посвященная главным образом А.И. Куприну как пародисту и соавтору романа «Три буквы» [7], упоминание об участии последнего в «проекте» (с публикацией части глав2) и довольно сомнительное предположение о «Чёртовой дюжине» как возможном источнике «Мастера и Маргариты» М. Булгакова [8, с. 197-198]. Данными обстоятельствами, прежде всего, и объясняется наш интерес к обоим текстам. Свою цель мы видим в изучении явления в социокультурном контексте эпохи 1910-х годов. Поставленные задачи потребовали погрузиться в историю создания произведений, выявить его феноменологию, главные (в том числе жанровые) особенности каждого из романов, понять авторские интенции, оценить вклад соавторов и объяснить причины неудачи проектов.
До недавнего времени оба романа были малодоступны широкой аудитории. Особенно это касается «Чертовой дюжины»: он публиковался на страницах газеты «Петроградский голос» в 1918 г. и познакомиться с ним можно лишь в фондах РНБ (г. Санкт-Петербург) и РГБ (г. Москва). Но к настоящему времени ситуация изменилась: оба текста в распоряжении читателя. Сначала (в виде электронного факсимильного издания) появился роман «Три буквы», в нем были воспроизведены оригинальные страницы из журнала с текстами глав3. Затем – тоже электронной книгой (сканами страниц из газеты, в которой печатался роман), выпустили «Чертову дюжину»4. Качество последнего было очень плохим, но познакомиться с памятником было возможно. Вскоре состоялись полноценные книжные издания: в 2022 г. вышел роман «Три буквы»5, в 2024 г. – «Чертова дюжина»6. Автор настоящей статьи непосредственно участвовал в подготовке обоих романов к печати, написал предисловия к первому [9, с. 7-16] и ко второму [10, с. 7-16], комментировал тексты, накопил определенный опыт, которым имеет смысл поделиться. Начнем с романа «Три буквы».
В последнем февральском номере 1911 г. популярный российский «Синий журнал» сообщил о предстоящей публикации «сенсационного фантастического романа». Роман-буриме был задуман редакцией как коллективное беллетристическое произведение с детективным сюжетом «в духе романов Понсона дю Террайля». В анонсе сообщалось: «журнал не сомневается, что опытнейшие художники русского слова, наши испытанные беллетристы, верные друзья русского читателя, развлекут последнего своим шуточным литературным подарком и… сорвут венец с головы автора “Рокамболя”…»7.
Редакцию мотивировало, конечно, не соперничество с автором «Рокамболя», а забота о тираже издания – как указывают исследователи, конкуренция между массовыми литературно-художественными журналами империи была высока, за читателя шла борьба [11, с. 110-111].
К созданию повествования предполагалось привлечь самые громкие литературные имена того времени. Планировалось, что каждый из авторов сочинит по фрагменту (количество глав не оговаривалось) и к концу года предприятие благополучно завершится. Соавторами «Трех букв» должны были стать А. Куприн, И. Потапенко, Вас. Немирович-Данченко, А. Аверченко, А. Каменский, Н. Тэффи, А. Измайлов, О. Дымов, И. Ясинский, А. Будищев, П. Гнедич, А. Рославлев.
Сообщалось, что начнет роман Александр Иванович Куприн. Продолжать будет В.И. Немирович-Данченко, который, «без сомнения, внесет много красочного экзотического элемента в бытовую картину А.И. Куприна». Следующий соавтор – «юморист А.Т. Аверченко, он, безусловно, вышутит всех героев, поставит каждого в смешное безвыходное положение и язвительно предоставит своему продолжателю наставить героев на путь истинный»8. За ним «идут другие писатели, такие различные по стилю и духу творчества, по своему мироощущению. Их фантазии предоставлен полный простор»9. То есть роман был заявлен как авантюрный, приключенческий, пародийный и юмористический.
В следующем анонсе информация подтверждалась и сообщалось, что «в портфеле редакции имеются уже первые главы романа, написанные Куприным, Тэффи, Ясинским и другими»10. Кто конкретно подразумевался под «другими», неизвестно. Скорее всего, это – преувеличение, вполне понятное с точки зрения рекламы. Можно предположить: у «Синего журнала» имелась предварительная договоренность с авторами на участие в проекте, а самих текстов еще не было. Скорректировались и персоналии: исчезли Рославлев и Осип Дымов, но остальные, видимо, дали согласие.
Забегая вперед, скажем: в окончательном виде авторский коллектив сократился еще на два имени – Вас. Немировича-Данченко и А.П. Будищева, но были анонсированы «пилотные» главы и даже озвучены их заглавия. По информации редакции, Куприн уже написал следующие главы: I. «Кровавая мышеловка», II. «Роковой бриллиант», III. «Судьба» и IV. «Древнееврейские буквы»; Н. Тэффи – главы V, VI и VII: «Дьявольский замысел», «Черная Салли» и «Сам себе лакей»; Иероним Ясинский – главы VIII–XV (были приведены и заглавия).
Куприн действительно сочинил и представил в журнале первые две с половиной главы – с ними читатель познакомился в четырнадцатом номере, открывавшем «сенсационный» роман. Там же было опубликовано и обращение к читателям за подписью редактора журнала В.А. Регинина (1883–1952). Воспроизводить последнее едва ли оправданно – оно объемно, в полном виде с ним можно познакомиться в книжном издании [9, с. 9-12], потому ограничимся тезисами.
Свой «пост» редактор начал с утверждения, что коллективный способ сочинительства в литературе – обычное дело. Сказки «Тысячи и одной ночи», «Илиада» и «Одиссея» создавались не в одиночку. Яркий пример автор видит в творчестве братьев Гонкур: их «сотрудничество внесло в сокровищницу мировой литературы целый ряд образцовых романов» [9, с. 10]. По этому пути «пошли и другие западные писатели, их романы, проникнутые общим настроением, нисколько не уступали произведениям отдельных авторов» [9, с. 11]. Приводит в пример Германию: «Не так давно в Германии двенадцать писателей произвели опыт коллективного романа, и замысел их приветствовался как критиками, так и читателями» [9, с. 11]. И заканчивает свой обзор панегириком Козьме Пруткову. Затем формулирует задачу инициативы: «План прост: объединенные одним стремлением дать живой, увлекательный рассказ», авторы, «сплетая фантазию с действительностью, поведут читателя по пути интересной и увлекательной фабулы, которая будет развиваться с каждой главой все пышнее и пышнее» [9, с. 12]. Пусть читатель «отдохнет… после тех изломов и вывертов различных “модерн-авторов”, которые отцвели, не успев расцвести… Отдохнет на романе доброго, старого времени, безыскусственном и доступном каждому легком, фантастическом повествовании» [9, с. 12].
Александр Куприн дал «зачин» роману (две с половиной главы были опубликованы в № 14 журнала и еще полторы в № 1511): русский князь Енгушев, морской офицер, капитан корабля, в Сан-Франциско в казино «Кровавая мышеловка» играет в рулетку, выигрывает, но у него крадут волшебный бриллиант (на нем и начертаны таинственные три буквы), который приносит удачу владельцу. В четвертой главе выясняется: камень украл крупье по заказу некоего голубоглазого блондина.
Надежда Тэффи (Лохвицкая) (1872–1952) в главах V («Дьявольский замысел»), VI («Черная Салли»), VII («Сам себе лакей»)12 ввела новых персонажей, развила криминальную линию и превратила блондина в загримированного негра, который прячет камень, зашивая его (!) себе в икру ноги.
Иероним Ясинский (1850–1930) (главы VIII–XV)13 излагает предысторию бриллианта, добавляет действующих лиц и переносит читателя в мастерскую художников. Здесь центральная фигура – некий Шеррисон, живописец, который прежде владел бриллиантом, и тогда счастье ему улыбалось, но… камень украли. Загримированный под негра блондин врывается в мастерскую вне себя от боли, камень из ноги извлекают, но он… снова исчезает, а Шеррисону опять улыбается удача – оказывается, алмаз застрял в треснувшей подошве ботинка, но владельцу об этом неизвестно, и он дарит ботинки слуге… После этого загадочный артефакт надолго исчезает из поля зрения читателя.
Анатолий Каменский (1876–1941) (главы XVI–XXIV)14 возвращает в роман князя Енгушева и развивает любовную линию: князь любит баронессу Марию и – попутно – с помощью денщика Федора пытается вернуть бриллиант. Федора убивают. Журналист Том Квик, впервые появившийся у Ясинского, у Каменского превращается в загримированного негра, а затем в законспирированного русского разведчика ротмистра Персина, который сообщает в «центр», что Енгушев – участник демократического заговора с целью создать мировое (видимо, социалистическое) государство.
Аркадий Аверченко (1881–1925) (главы XXV–XXVIII)15 ускоряет темп повествования, тоже вводит новых героев, отметая старых, делает главным героем репортера, а историю с бриллиантом драматизирует: возлюбленную князя убивают, вырезают ей глаз, а в пустую глазницу вкладывают алмаз с буквами. Но это другой камень – оказывается, у князя имелся еще и дубликат.
Петр Гнедич (1855–1925) (главы XXIX–XXXII)16 резко свернул повествование в сторону: ввел некоего «знаменитого детектива» по фамилии Кёблес, который по заданию американской газеты должен расследовать преступление, и тот взялся рассказывать, как он ездил в Россию.
Вернуть рассказ в прежнее русло и «распутать узлы, навязанные Ясинским, Каменским и Гнедичем», попытался Александр Измайлов (1873–1921) (главы XXXIII–XLII)17. Он вновь перенаправил повествование в Сан-Франциско, вернул Шеррисона и почти всех персонажей, мелькавших прежде (даже ротмистра Персина, который снова превратился в «негра»), объяснил, откуда взялась копия священного алмаза (ее изготовил местный ювелир по заказу князя) и даже попытался мотивировать странное поведение Кёблеса, а череду кровавых преступлений интерпретировал террором анархистов и эсеров. Впрочем, добавил еще и новых героев. Но ему удалось выстроить внятную фабулу, и история вполне могла развиваться по пути, намеченному Измайловым.
Однако очередной автор, Владимир Тихонов (1857–1914), резко повернул сюжет (в № 32 – примерно на середине журнальной публикации), сократил число действующих лиц и перенаправил действие в Россию. Вероятно, он стремился устранить накопившиеся нестыковки и несуразицы, оставить их «позади», вычеркнуть лишнее и вдохнуть в повествование новую жизнь. Он «обрубил» спонтанно (или осознанно) возникшую у Гнедича и явно тупиковую линию сыщика Кёблеса, которую, нагромоздив в свою очередь массу несуразностей и лишних героев, развил А. Измайлов. Тихонов отправил своих героев в Одессу, выводя повествование на «финишную прямую». Он тоже вводит новых персонажей – уже «местных», но в целом этот «поворот» пошел сюжету на пользу. Теперь у «Трех букв» появилась «Часть вторая» (первоначально никаких «частей» не планировалось) и новая нумерация глав: «В России. Командор Бодряго» (главы I–VII)18. Линия повествования обрела новый вектор: переместилась в среду яхтсменов и отдыхающих. «Реанимировал» автор одного из второстепенных персонажей Ясинского, некоего Калину, переместил его в центр повествования. Ввел новых «злодеев» – террористов финского происхождения с неясными целями, подключил к делу российскую полицию и добавил мистическую составляющую.
А потом в «дело» вступил Игнатий Потапенко (1856–1929) и окончательно все запутал (главы VIII–X). Его текст публиковался в журнале одиннадцать недель19, он стал самым объемным фрагментом романа (в два раза больше эпизодов Ясинского и Измайлова, в четыре – Тэффи и Гнедича, в пять – Куприна), но и самым невразумительным и «вязким». Автор не только изменил темп повествования и ввел массу новых персонажей, но совершенно проигнорировал сюжетные интенции предшественника и еще гуще напустил мистического тумана.
В № 52 роман должен был продолжить А. Будищев (1867–1916), но отказался, сославшись на болезнь20. Вместо заболевшего, пожелав последнему выздоровления и скорейшего возвращения в проект, с редакционным «Письмом к читателю» выступил В. Регинин. Он писал: «До конца текущего года редакция “Синего Журнала” напечатала почти полностью коллективный роман лучших русских писателей. “Почти”, потому что, к сожалению, болезнь последнего автора, приостановила роман перед самым его концом. Подводя итоги тому, что уже дано, редакция с удовлетворением может сказать, что обещание её сдержано, и это, небывалое по обстановке творчества, произведение – не миф»21.
С последним суждением можно согласиться – по факту роман состоялся, но в целом иначе как неудачу проект оценить невозможно. Слишком разных авторов соединил журнал. Разных по дарованию, стилю, творческой манере, языку, темпу художественной речи и навыкам построения фабулы, по привычным темам, жанрам и сюжетам, по эстетике и идеологии. Но основной причиной неудачи было отсутствие даже самого общего плана произведения. Не было и предварительной (хотя бы примерной) договоренности об основной сюжетной линии и сквозных героях. Добавим к этому спешку – необходимо было быстро не только познакомиться с тем, что сочинил предшественник, но и представить в журнал собственный материал. Не забудем о негативном влиянии амбиций авторов и пресловутого «соревновательного духа» – они тоже сыграли свою роль.
Многого из того, чем был отмечен роман «Три буквы», удалось избежать другому российскому буриме в прозе – «Чертова дюжина». Он публиковался на страницах газеты «Петроградский голос» (полное название «Петроградский голос: газета политическая, общественная и литературная с рисунками в тексте» – под таким заглавием газета издавалась в 1918 г.) с мая по август 1918 года.
Инициатором «предприятия» был редактор газеты А. Измайлов. Известный в то время беллетрист, поэт, фельетонист и литературный критик, он возглавил издание в конце 1916 г., и, как справедливо отмечает один из современных исследователей, «недавняя бульварная газета превратилась в живой, интересный и опрятный по направлению литературный орган», к сотрудничеству были привлечены видные писатели [9, с. 58].
«Проект» родился не спонтанно: Измайлов – один из соавторов романа «Три буквы», и двигало им не только стремление увеличить тираж издания, но, как указывал цитируемый выше автор, «в 1918 году “Петроградский голос” оставался одной из немногих уцелевших газет, предоставлявшей свои страницы бедствующим литераторам» [9, с. 58].
У Измайлова был опыт, и он постарался извлечь урок из публикации в «Синем журнале». Конечно, время (особенно для газетчика) – фактор дефицитный, но предприятие на этот раз специально готовилось: в марте-апреле 1918-го редактор вел активную переписку с будущими участниками, прежде всего с А. Амфитеатровым и Ф. Сологубом [10, с. 283-293], которым предстояло начать роман – сочинить «пилотные» главы. Были сформулированы интенции романа, шел разговор и о центральном персонаже.
В течение месяца в основных чертах авторский коллектив определился, и 21 апреля (4 мая по новому стилю) в № 73 за 1918 г. «Петроградский голос» публикует анонс: «В ближайшем времени в “Петроградском голосе” будет печататься “Роман тринадцати”, коллективное произведение тринадцати авторов, в числе которых изъявили согласие быть А.В. Амфитеатров, А.Т. Аверченко, А.И. Куприн, В.И. Немирович-Данченко, Ф.К. Сологуб, А.Е. Зарин, В.Ф. Боцяновский и А.А. Измайлов»22 [10, с. 9].
Анонс сопровождал довольно пространный текст, озаглавленный «Роман тринадцати!» и выстроенный в виде диалога редактора с воображаемым читателем, которому объясняется смысл и содержание предстоящего литературного события. Основные его тезисы (в полном виде «диалог» воспроизведен в книжном издании23) сводились к следующему: главная цель – создать «живой и увлекательный роман», чтобы читатель «отдохнул от речей об аннексиях и контрибуциях, о последних выступлениях на заседании циксовдепа и т. д.», мог «перевести дыхание от набившей оскомину политики, крови и убийств». Упоминал он и о предшественниках: немецком прозаическом буриме «Романе 12-ти» (1910) и, конечно, о «Трех буквах»24.
О последнем говорилось: <Роман> «вызвал общий интерес, но не удержался на высоте его, выйдя из ошибочной мысли, что такое произведение есть игра писателей, победа трудностей, какие предшественник почти намеренно ставил своему преемнику, чтобы полюбоваться, как он “выкрутится”. Нам придется взять некоторый урок от прежних ошибок, и, вероятно, мы более правы уже просто потому, что ставим на первое место не турнир писателей, а живой интерес читателя»25.
14 мая (по старому стилю) в редакции прошло собрание соавторов для выработки общей «стратегии»26.
В № 95 «Петроградского голоса» от 1 июня (19 мая по старому стилю) были опубликованы первые главы «Чертовой дюжины» за авторством А. Амфитеатрова, затем, в следующих номерах, последовали главы, сочиненные Ф. Сологубом. В сотом номере – после шестой главы («Темные намеки») – редакция сообщила, что А.И. Куприн не будет участвовать в проекте, но не объяснила причин. Из переписки А. Измайлова с Ф. Сологубом можно понять, что Куприну не понравились главы Сологуба27. «Эстафету» от Сологуба принял известный беллетрист В.И. Немирович-Данченко (он сочинил главы с X по XIX). С главы XX подключился Петр Гнедич – его текст шел в восьми номерах. В следующих девяти выпусках газеты публиковался фрагмент Игнатия Потапенко; затем, на протяжении шестнадцати номеров, материал за авторством А.Е. Зарина – его вклад в роман оказался самым объемным, но… последним. Глава «Любовь и ревность» в № 147 «Петроградского голоса» от 3 августа (по старому стилю) 1918 г. завершила публикацию – большевики закрыли газету.
Разумеется, причина печального финала «проекта» не в «Чертовой дюжине», а в постановлении Совета Народных Комиссаров от 18 марта 1918 г. о закрытии всех буржуазных периодических изданий. Поначалу процесс его выполнения шел довольно медленно, но после мятежа эсеров (в июле) ускорился: к середине августа 1918 г. в Петрограде прекратили свое существование 460 газет. Среди них был и «Петроградский голос». А с ним «почила» и «Чертова дюжина».
Необходимо сказать несколько слов и о фабуле романа. Она сводится к следующему: действие развивается зимой 1916/17 гг.; в великосветских салонах появляется и вызывает большой интерес загадочный персонаж по имени Лемэм, обладающий гипнотическим даром. Он способен подчинять волю других людей, но цели его не ясны. У него масса восторженных почитателей, но и тех, кто ему противостоит. Среди последних военный инженер, поручик Алексей Беренников. Он подозревает, что Лемэм пытается соблазнить его невесту и вообще является «реинкарнацией» дьявола. В последнем он убеждается, спасая от гибели своего знакомого, архитектора Бяленицкого, загипнотизированного Лемэмом. Коллизию, начатую Амфитеатровым, развивает Федор Сологуб: он усиливает мистическую составляющую, драматизирует конфликт Беренникова с Лемэмом, «усугубляя» сверхъестественные способности последнего (оказывается, он способен проходить сквозь стены), намекает, что тот является еще и германским шпионом. В. Немирович-Данченко развивает гипнотические потенции злодея, но вмешивает политику, привнося злободневность. Появляются новые герои, возникают новые сюжетные линии, но, увы, – «тупиковые». П. Гнедич «осовременивает» коллизию еще сильнее и добавляет персонажей, но Лемэм и у него в центре сюжета. Правда, он превращает последнего в уголовника, предводителя шайки налетчиков-экспроприаторов. И. Потапенко развивает линию предшественника, в частности противостояние, появившегося у Гнедича и наделенного «волшебным даром» слепого полковника Шпро с Лемэмом. А. Зарин, сохраняя центральных персонажей и вводя новых, расширяет детективную составляющую, превращая главного злодея в руководителя целой преступной организации. Нагнетая напряжение, автор готовит кульминацию романа, но публикация прерывается.
Можно только гадать, каким могло быть продолжение, как стала бы эволюционировать коллизия, явились ли новые герои и сюжетные линии, каким мог быть финал.
С. Шаргородский, комментатор электронного издания, справедливо заметил: «После интригующего оккультного зачина Амфитеатрова и Сологуба поднаторевшие в расхожей журнальной беллетристике Немирович-Данченко, Гнедич и Потапенко круто развернули повествование в сторону злободневности»28. От чего, как мы помним, старательно «открещивался Измайлов». «На страницах “Чертовой дюжины” замелькали тени “старца” Распутина и приближенных ко Двору сановников и аристократов, зазвучали проникновенные патриотические речи», а «зловещий искуситель, загадочный и демонический Лемэм, предстал чуть ли не аллегорией большевиков»29. По мнению критика, «не слишком спасла положение и наметившаяся (у П. Гнедича. – А.Т.) оккультная дуэль между Лемэмом и слепым отставным полковником Шпро, наделенным “внутренним зрением духа” и способностью распознавать темные силы»30. Но «развязней всех», по словам комментатора, с романом поступил Зарин: «Под его пером “Чертова дюжина” выродилась в банальную уголовщину, роман пропах явственным антисемитским душком, а дьяволический Лемэм превратился в заурядного главаря шайки бандитов и шантажистов, разве что наделенного гипнотическими способностями»31. Трудно не согласиться. Но в то же время вполне резонно предположить, что «оккультную» составляющую вполне мог усилить (и развеять «антисемитский душок») В.Ф. Боцяновский и почти наверняка – Е.А. Нагродская; Александр Грин способен был добавить в повествование мистики и ужаса; Аркадий Аверченко – юмора и парадоксальности. В какую сторону стали бы развивать интригу двое неизвестных (у «Чертовой дюжины», напомним, должна была быть «чертова дюжина» авторов), предположить – за отсутствием персоналий – невозможно, но «связать все концы» неизбежно предстояло инициатору проекта, редактору «Петроградского голоса» А. Измайлову, который должен был завершить роман.
Литераторы-современники в письмах к редактору32 уже к середине публикации сетовали: одни, что «действие забуксовало», другие на исчезновение оккультно-мистической атмосферы, третьи на «обульваривание» сюжета, четвертые указывали на «вульгарную» злободневность и так далее. Но по-другому и не могло быть в романе-буриме, авторы которого были очень разными: по возрасту и житейскому опыту, по образованию и интеллекту, социальному происхождению и политическим убеждениям, симпатиям и антипатиям.
Воспринимая и адекватно оценивая роман, необходимо понять, что «Чертова дюжина» – не только литературный феномен, но и социокультурный памятник эпохи, ее отражение. Роман сочиняли в дни революции, и он на самом деле о революции. Точнее, о тех силах, которые ее продвигали. Среди авторов были либералы, народники, конституционные демократы и даже симпатизанты черносотенцев-антисемитов. Почти все они с восторгом приняли Февраль, с недоумением и отчаянием отвергли Октябрь. Но в одном все они сходились: в непонимании тех процессов, что происходили. И пребывали в растерянности, гадая, куда идет страна и почему так случилось. Отсюда сквозной герой сюжета – зловещий Лемэм, своеобразная персонификация революционных процессов. У Амфитеатрова и Сологуба он предстал оккультистом и мистиком, у Немировича-Данченко – телепатом-уголовником, у Гнедича – бандитом-налетчиком, у Потапенко – авантюристом-властолюбцем, а у Зарина – главарем ОПГ с семитскими корнями. Так они воспринимали «движущие силы» революции, и это отразилось в главах, сочиненных для романа-буриме каждым.
В.И. Ленин назвал в свое время Льва Толстого «зеркалом русской революции», углядев в нем символ непонимания образованной Россией истоков и смысла событий 1905 года. С полным основанием ленинскую формулу можно применить к «Чертовой дюжине» и заявить: роман – своеобразное «зеркало русской революции», отраженное в творческом сознании беллетристов-современников. И озвучить сакраментальное (и тоже – ленинское): «как же они далеки от народа!» Впрочем, можно допустить: это Октябрьская революция была далека от «народа». Во всяком случае, от той части творческой интеллигенции, писателей, что сочиняли «Чертову дюжину» весной – летом 1918 года.
Как бы там ни было, в отличие от «Трех букв», даже несмотря на незавершенность, проект «Петроградского голоса» в целом удался. Насколько можно судить по опубликованным в газете материалам, авторы смогли создать цельное, динамичное произведение, почти лишенное «нестыковок» и сюжетных противоречий. В романе есть линии, не получившие развития: архитектора Бяленицкого, загипнотизированного Лемэмом; «злоключений» профессора Четвергова; противостояния слепого полковника Шпро Лемэму. Но и роман оборвался примерно посередине. Учитывая общую тенденцию, можно предположить, что эти линии могли быть завершены. Вполне вероятно, что несостоявшиеся соавторы – А. Грин, В. Боцяновский, Е. Нагродская, А. Измайлов и двое, оставшиеся неизвестными, – вели какие-то записи, имели замыслы, наброски, даже заготовки, т. е. представляли дальнейшее развитие коллизии. Нам эти материалы не известны, а время не сохранило архивов, и мы можем оперировать только тем, что доступно исследователям на настоящий момент.
Подведем итоги. Очевидно, что оба романа-буриме следует рассматривать не только как литературный, но и социокультурный памятник эпохи. Цели у них были общими: и тот и другой заявлены как тексты развлекательные – роман «авантюрный, приключенческий, пародийный и юмористический». Ориентиром, судя по всему, были популярные в самых широких массах выпуски похождений Ната Пинкертона и Ника Картера, выходившие в предреволюционной России миллионными тиражами [1, стб. 746]. То есть романы «Три буквы» и «Чертова дюжина» можно (и, вероятно, нужно) рассматривать как альтернативу дешевому «чтиву», насытившему книжный рынок империи в начале ХХ века [13, с. 303-305], как тексты, изначально обладающие «знаком качества», – их авторами являются не безымянные «ремесленники», а ведущие русские писатели. Они развлекут читателя, но сделают это «качественно». Кроме этой задачи, имелись и другие, и у каждого из романов разные. «Три буквы» инициатор и вдохновитель проекта В. Регинин видел противовесом «мертворожденным» декадентским текстам, «изломам и вывертам» «модерн-авторов». «Чертову дюжину» от «Трех букв» отделяют всего семь лет, но это были бурные годы: мировая война, а затем революция. Декаданс утратил актуальность, востребована была политика. А. Измайлов хотел, чтобы читатель отдохнул от «злободневности», «крови, убийств и циксовдепа». И хотя оба романа остались не оконченными, в обоих случаях удалось приблизиться только к выполнению первой задачи – развлекательной. От всего остального (влияния декаданса в первом буриме и аполитичности во втором) избавиться не получилось. И это в очередной раз доказывает: в творчестве любого писателя – вне зависимости от оригинальности дарования – присутствует эпоха, время и место, те идеи и образы, которыми насыщена окружающая атмосфера.
1 Например, с Уилки Коллинзом – мы писали об одном из эпизодов такого сотрудничества классиков [3].
2 Куприн А. И. Пёстрая книга. Несобранное и забытое / cост., вступ. и примеч. Т. А. Каймановой. Пенза, 2015. С. 42-46.
3 Три буквы: кол. фантаст. роман. Факс. изд. [Б. м.]: Salamandra P.V.V., 2019. 118 с.
4 Чёртова дюжина: Роман тринадцати авторов / коммент. С. Шаргородского. Факс. изд. [Б. м.]: Salamandra P.V.V., 2019. 65 с. (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCI).
5 Три буквы: кол. сенсац. фантаст. роман / А.И. Куприн, Н. Тэффи, И. Ясинский, А. Каменский, А. Аверченко, П. Гнедич, А. Измайлов, В. Тихонов, И. Потапенко, М. Тропинин. Саранск: Артефактъ, 2024. 304 с.
6 Чёртова дюжина: кол. фантаст. роман / А. Амфитеатров, Ф. Сологуб, В. Немирович-Данченко, П. Гнедич, И. Потапенко, А. Зарин, М. Тропинин. Саранск: Артефактъ, 2024. 336 с.
7 Сообщение о коллективном «сенсационном» фантастическом романе «Синего Журнала» // Синий журнал. 1911. № 10. С. 9.
8 Там же.
9 Там же. С. 10.
10 Синий журнал. 1911. № 13. С. 2.
11 Синий журнал. 1911. № 14. С. 2, 4; № 15. С. 2-4.
12 Там же. С. 4; № 16. С. 2.
13 Там же. С. 3-4; № 17. С. 2-4; № 18. С. 2-4.
14 Синий журнал. 1911. № 19. С. 2-4; № 20. С. 2-4; № 21. С. 2-4.
15 Там же. № 22. С. 2-4; № 23. С. 2-4; № 24. С. 2-4.
16 Там же. С. 4; № 25. С. 2-4, № 26. С. 2-5; № 27. С. 2-3.
17 Там же. С. 3-4; № 28. С. 2-4; № 29. С. 2-4; № 30. С. 2-5; № 31. С. 13-15; № 32. С. 2.
18 Главы В. Тихонова в № 32–37 на с. 2-4; в № 38 продолжение публикации отсутствовало; в № 39 и № 40 на с. 2-4, в № 41 на с. 2-3.
19 Синий журнал. 1911. № 41–51.
20 Синий журнал. 1911. № 51. С. 3.
21 Там же. С. 2.
22 Чёртова дюжина. 2024. С. 9.
23 Там же. С. 10-12.
24 Там же.
25 Там же. С. 12.
26 Федор Сологуб и Ан. Н. Чеботаревская: переписка с А.А. Измайловым / публ. М.М. Павловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год / Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) РАН. Санкт-Петербург, 1999. С. 283.
27 Там же. С. 285-286.
28 Шаргородский С. Комментарии // Чёртова дюжина: Роман тринадцати авторов. [Б. м.]: Salamandra P.V.V., 2019. С. 63.
29 Там же. С. 64.
30 Там же.
31 Там же.
32 Некоторые из них опубликованы на страницах журнала «Наше наследие» [12, с. 59-63].
Об авторах
Андрей Борисович Танасейчук
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Автор, ответственный за переписку.
Email: atandet@rambler.ru
доктор культурологии, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета
Россия, СаранскСписок литературы
- Литературная энциклопедия терминов и понятий / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информации по обществ. наукам; гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. Москва: Интелвак, 2001. 1596 стб.
- Левицкая Т.В. Коллективный роман [Электронный ресурс] // Большая Российская энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/c/kollektivnyi-roman-9dbadd?ysclid=md1jcd8u5n120529074 (дата обращения: 03.07.2025).
- Танасейчук А.Б., Осьмухина О.Ю. Малоизвестная страница сотворчества Ч. Диккенса и У. Коллинза: роман «Нет выхода» // Научный диалог. 2021. № 5. С. 256-271.
- Mac Nicholas A.H. Dickens by Numbers: the Christmas Numbers of «Household Words» and «All the Year Round»: Ph.D. diss. York University (GB), 2015. 324 p.
- Черняк М.А. Литературный сериал и роман-буриме в контексте жанровых экспериментов новейшей литературы // Культ-товары. Массовая культура в современной России: конструирование миров, умножение серий: монография / Г.Л. Тульчинский [и др.]; Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы; под науч. ред. М.П. Абашевой, И.Л. Савкиной, М.А. Черняк. Гродно: ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. С. 128-142.
- Трубилова Е.М. Серапионы в романе-буриме «Большие пожары» // Серапионовы братья: взгляд из XXI века. К 100-летию литературного содружества / Гос. музей К.А. Федина, Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. Саратов: ИЦ «Наука», 2021. С. 33-39.
- Яснева Л.И. Роман «Три буквы» как роман-пародия // Вопросы сатиры в творчестве русских и зарубежных писателей / Орск. гос. пед. ин-т им. Т.Г. Шевченко, Перм. гос. пед. ин-т. Орск, 1973. C. 3-16. (Ученые записки; вып. 15).
- Савельева М.С. Федор Сологуб. Москва: Молодая гвардия, 2014. 246 с. (Жизнь замечательных людей).
- Танасейчук А.Б. Три буквы и три цифры // Три буквы: кол. сенсац. фантаст. роман / А.И. Куприн, Н. Тэффи, И. Ясинский, А. Каменский, А. Аверченко, П. Гнедич, А. Измайлов, В. Тихонов, И. Потапенко, М. Тропинин. Саранск: Артефактъ, 2024. C. 7-16.
- Танасейчук А.Б. «Чёртова дюжина» как зеркало русской революции // Чёртова дюжина: кол. фантаст. роман / А. Амфитеатров, Ф. Сологуб, В. Немирович-Данченко, П. Гнедич, И. Потапенко, А. Зарин, М. Тропинин. Саранск: Артефактъ, 2024. С. 7-16.
- Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту. Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века // Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. Москва: Новое лит. обозрение, 2009. С. 11-248.
- Александров А.С. «Пусть Бог смилуется над Вами, над нами, над несчастной Россией…»: В.В. Розанов и А.А. Измайлов после октября 1917 года // Наше наследие. 2015. № 116. С. 58-63.
- Рейтблат А.И. Детективная литература и русский читатель (вторая половина XIX – начало XX века) // Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. Москва: Новое лит. обозрение, 2009. С. 294-306.
Дополнительные файлы