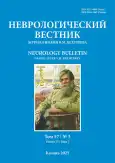The phenomenon of suffering in medical and psychiatric contexts
- Authors: Asanov T.K.1, Parpieva A.R.2
-
Affiliations:
- Institute of Personality and Mental Health
- American University of Central Asia
- Issue: Vol LVII, No 3 (2025)
- Pages: 209-217
- Section: Reviews
- Submitted: 13.04.2025
- Accepted: 15.04.2025
- Published: 30.09.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/678503
- DOI: https://doi.org/10.17816/nb678503
- EDN: https://elibrary.ru/XZVELL
- ID: 678503
Cite item
Abstract
The phenomenon of suffering is a complex and multifaceted issue considered from philosophical, psychological, social, and medical (in particular, forensic) standpoints.
This work aimed to review the research dedicated to the medical perspective on the phenomenon of suffering, with a focus on forming a conceptual basis for further theoretical and practical research aimed at developing the methodology of forensic psychological and psychiatric examination of suffering, particularly approaches to assessing its severity, including in the context of moral harm.
The existing definitions and concepts of suffering, its typology, including physical, psychological, and social aspects are discussed. The main mechanisms of the emergence of suffering are revealed, such as the threat to the integrity of personality, the frustration of essential needs, and the depletion of resources and adaptive mechanisms. Existing approaches to the diagnosis and measurement of suffering are revealed, including objective clinical methods and subjective self-assessment scales, and options for classifying the severity of suffering are provided.
The analysis of recent studies shows a lack of a universal definition of suffering and standardized criteria for forensic evaluation, which complicates the development of objective expert conclusions and highlights the need for an interdisciplinary approach to the analysis of suffering.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
В условиях увеличения межличностных и системных стрессов, роста распространённости хронических заболеваний и усиления интереса к вопросам качества жизни страдание становится всё более значимой темой, однако современная медицина ещё не выработала согласованного подхода к изучению и пониманию феномена страдания. Термин «страдание» (suffering) отсутствует в учебных программах, игнорируется в медицинских учебниках и руководствах [1], отсутствует в Международной классификации болезней и Американском диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам. Концептуализации страдания остаются разрозненными, что ограничивает возможности его клинической оценки и разработки эффективных подходов к его изучению и интеграции в практическую деятельность.
Особую актуальность в последние годы приобретает судебно-экспертный аспект исследования страдания, связанный с вопросами компенсации морального вреда, отсутствием унифицированных критериев измерения тяжести страдания, а также необходимостью адаптации существующих концепций страдания к потребностям судебно-экспертной практики.
ДЕФИНИЦИИ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ФЕНОМЕНА СТРАДАНИЯ
В литературе можно найти широкий спектр определений страдания [2], однако большинство исследователей сходятся во мнении, что в настоящее время не существует общепринятой дефиниции страдания [3], что, по-видимому, обусловлено как многомерностью феномена и многогранностью его аспектов, так и различиями в подходах к его пониманию. Тем не менее каждая предлагаемая дефиниция или концептуализация страдания, отражая ту или иную его сторону, вносит вклад в уточнение ключевых характеристик обсуждаемого феномена.
В большинстве случаев страдание определяется в соответствии с определёнными атрибутами: физическими, когнитивными, аффективными, социальными и духовными [4]. В частности, страдание понимается как сенсорный и аффективный феномен, что отражается в идентификации страдания с болью [5–7] и/или негативными эмоциями и эмоциональными состояниями [3, 5, 6, 8–11]. Страдание рассматривается и как когнитивный феномен, связанный с осмыслением, интерпретацией и негативной оценкой событий, угрожающих целостности и интактности личности [1], чувству идентичности и реальности [10] или воспринимаемых как утрата идентичности [12], смысла [13].
В более абстрактных вариантах дефиниций прослеживается тенденция к сведению страдания к состояниям «стресса/дистресса» в различных его вариациях. Например, страдание определяют как состояние дистресса [14], сильного дистресса [1], личного дистресса [9] или глубокого стресса [15]. Страдание также определяется как состояние фрустрации [16], базовое человеческое переживание [2], а также как совокупность человеческих проблем [17]. Приведённые варианты дефиниций ярко демонстрируют многомерность феномена страдания, что затрудняет выработку единого и устраивающего всех определения. Как заметил Mann [18], каждая дисциплина, по-видимому, имеет собственное определение страдания, причина этого многообразия кроется в широте самого понятия.
Концепция и дефиниция страдания, предложенная Cassell [1], является одной из наиболее известных и цитируемых в научной литературе: «страдание — это состояние тяжёлого дистресса, связанного с событиями, которые угрожают целостности/интактности личности, возникающее, когда воспринимается неизбежная деструкция человека, и продолжающееся до тех пор, пока не исчезнет угроза дезинтеграции или не будет восстановлена целостность личности». В приведённом определении содержатся такие сущностные характеристики страдания, как состояние дистресса, высокая интенсивность дистресса, обусловленность дистресса угрозой целостности личности, ограниченность дистресса во времени, возможность преодоления страдания через устранение угрозы дезинтеграции и восстановление целостности личности. Рассуждения о страдании Cassell обобщает в трёх выводах: 1) страдание переживается личностью; 2) страдание возникает при восприятии угрозы; 3) страдание может возникнуть в связи с любым аспектом личности. По Cassell, страдание — это в конечном счёте личное, субъективное и индивидуальное переживание, эмоциональная окраска или интенсивность которого обусловлены тем смыслом и значением, которое личность придаёт событию. Страдание субъективно хотя бы потому, что два человека с одинаковыми симптомами болезни могут страдать по-разному. Важным условием для страдания является требование осознанности переживаний, в этом контексте Cassell отвергает возможность страдания у младенцев или пациентов с тяжёлой деменцией из-за «отсутствия у них чувства будущего и неспособности придать смысл своим переживаниям» [1]. Cassell также не допускает возможности объективного измерения страдания, так как, по его мнению, интенсивность страдания зависит от внутреннего смысла, придаваемого стрессору.
Несмотря на то что модель Cassell стала почти канонической, она тем не менее подвергается критике, прежде всего за сомнительное понимание интактности/целостности личности [8], игнорирование факта, что страдание может быть полностью отделено от чувства угрозы и повреждения [8, 19], а также за «поразительно умозрительную (когнитивную) природу определения страдания», требующую осознанности страдания [16].
Van Hooft [16, 20] выдвигает концепцию «объективного страдания», согласно которой страдание — это объективное и в некотором смысле физиологическое состояние, вызываемое воздействием любых факторов, препятствующих естественному, «нормальному» функционированию человека, животных и других организмов. Согласно его определению, страдание — это «фрустрация врождённых внутренних целей (телосов) организма» на четырёх уровнях существования: вегетативном (биологическом), аппетитном (мотивационном), совещательном (прагматическом) и созерцательном (духовном). Van Hooft рассматривает фрустрацию целей как центральный аспект страдания и считает, что независимо от осознанности страданием является всё то, что вызывает фрустрацию целей или является её результатом. Также заявляется об объективном характере страдания и возможности страдания у животных и других организмов в любой момент фрустрации их жизненных целей: мы можем уверенно говорить о страданиях человека с децеребрацией или находящегося в вегетативном состоянии, даже если очевидно, что такой человек не чувствует боли и не знает об угрозе его существованию — требуется лишь констатация того, что цели организма были расстроены и телос этого существа фрустрирован теми обстоятельствами, в которых он оказался. Главная мысль Van Hooft относительно взаимоотношений между страданием и болью в том, что страдание — это не психологический эффект боли и не когнитивное понимание смысла и значения боли со стороны страдающего, страдание — это единая структура, неотделимая от боли. Он также уточняет, что телесные страдания — это безмолвная дисфункция тела, в то время как боль — случайное проявление этой дисфункции. Ключевым моментом здесь является то, что страдание в теле так же объективно, как и боль. «Вместо того чтобы рассматривать страдание как психологическую реакцию на боль или болезнь, боль или болезнь сами по себе являются формами страдания» [16, 20].
Неврологи Chapman и Gavrin [12] определили страдание как «сложное негативное аффективное и когнитивное состояние, характеризующееся восприятием угрозы собственной целостности, ощущением беспомощности перед лицом угрозы и истощением психосоциальных и личностных ресурсов копинга». Центральным пунктом в концепции страдания у них выступает психологический конструкт «Я» или субъективное чувство идентичности, которое подвергается угрозе повреждения. При этом механизм развития страдания складывается через диссонанс между ожиданиями человека от себя, и тем, что он делает или есть, а факт и тяжесть страдания связаны с разрушением измерений «Я» и несоответствием между реальным и желаемым «Я». Модель Chapman и Gavrin вводит в концептуализацию страдания понятие «копинг-ресурсы организма» и связывает возникновение страдания с его истощением, что феноменологически и клинически проявляется «ощущением беспомощности».
Krikorian и Limonero [15], базируясь на теории стресса Г. Селье, предлагают «интегрированное» определение страдания, сформулированное в следующем виде: «страдание — это многомерное и динамическое переживание глубокого стресса, которое возникает в условиях существенной угрозы целостности личности и недостаточности регуляторных процессов (обычно обеспечивающих адаптацию), приводящих к истощению». Особенностью их модели является рассмотрение механизмов развития страдания через призму дисфункции и истощения регуляторных процессов. В остальном данная модель использует терминологию угроз, целостности личности Cassell, поддерживает субъективность страдания и его принадлежность только человеку, а также требование осознанности и значительной интенсивности переживаний, чтобы они могли быть квалифицированы как страдания.
Специалисты по паллиативной медицине Tate и Pearlman [21], подчёркивая поддержку базовых положений концепции Cassell, что страдание — это субъективный феномен, отражающий некие угрозы искажения идентичности человека, предлагают модернизированный вариант, согласно которому страдание является двухкомпонентным чувством, состоящим из утраты «чувства Я» и наличия «чувства страдания» — отрицательного аффективного переживания в виде негативного настроения. Tate и Pearlman также подчёркивают, что страдание больше воспринимается как «потеря», «утрата», «отсутствие», а не как «угроза целостности личности», что, по их мнению, «больше соответствует языку больниц и клиник».
Специалист по этике медицины, философ-феноменолог Bustan [19] не даёт собственного определения страдания, но пишет о четырёх его составляющих: физическом, эмоциональном, ментально-когнитивном и экзистенциальном измерениях. Будучи исследователем боли, Bustan предлагает собственный инструмент диагностики страдания, называемый «модель веера» (fan model), который иллюстрирует корреляцию между болью и страданием — увеличение боли ведёт к бóльшему страданию. При этом она принципиально отрицает возможность и необходимость выведения единого, концептуально инвариантного определения страдания и составления перечня его видов и проявлений, полагая, что такой подход станет искусственно упрощать сложный феномен страдания.
Философ Bueno-Gómez [8] предлагает понимать страдание как «неприятное или даже мучительное переживание, которое может серьёзно поразить человека на психофизическом и экзистенциальном уровнях». Она обращает внимание на то, что «страдание не всегда экстремально», иногда это терпимое, короткое, несущественное переживание, которое не имеет отношения к медицине, поэтому не только естественные науки, но также социальные и гуманитарные играют решающую роль в понимании всех аспектов страдания. Причиной и источником страданий в её модели являются социальные (бедность, социальная изоляция, изгнание), а также экзистенциальные и личные проблемы. Чтобы преодолеть дихотомию «разум/тело», Bueno-Gómez предлагает мыслить в терминах «телесная душа» и «духовное тело».
Loeser и Melzack [22], поддерживая концепцию Cassell, определяют страдание как «негативную реакцию, вызванную болью, а также страхом, тревогой, стрессом, потерей любимых объектов и другими психологическими состояниями» и подчёркивают, что в нашей медикализированной культуре мы описываем страдание на языке боли, что вводит в заблуждение как врача, так и пациента относительно основы страдания.
У Spinelli [23], определившем страдание как «тяжёлое и крайне неприятное эмоциональное состояние, которое возникает в результате физической боли, душевной боли и/или дискомфорта на уровне, не переносимом индивидуально, что приводит к определённому уровню психологического дистресса», важным моментом является использование понятия «дискомфорт», который может достигать уровня дистресса.
Kleinman и соавт. [17] обращают внимание на культурную обусловленность, связь с утратой смысла и нарративную природу страдания. Они также делают акцент на том, что страдание нельзя редуцировать к медицинским терминам или единичным психологическим состояниям.
ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ СТРАДАНИЯ
Попытки раскрыть природу и сущность феномена часто содержат указания на причину страданий как его ключевую характеристику. Правда, попытки систематизации таких причин, похоже, обречены на провал, ибо причин страданий мириады и, как отмечают Wilson и соавт. [24], изучение отдельных причин страдания может быть редукционистским, поскольку страдание обусловлено взаимодействием множества факторов и процессов. Тем не менее Moskovitz и Giordano [25] классифицируют эти причины на четыре типа: утрата, угроза, фрустрация биологически обусловленных влечений и боль. Cassell [1] дополняет и уточняет этот список причинами, инвариантно вызывающими страдания: смерть или дистресс близких, пытки, изоляция, предательство, утрата работы или памяти и др. И.В. Арцимович [26] видит причины страданий в событиях, «травмирующих психику, здоровье», которые должны «глубоко затрагивать личностную структуру, настроение, самочувствие и другие ценности». Исследователи также пишут о социальных [4, 12, 14], медицинских, физиологических [1], психологических [1, 26] и экзистенциальных [13] причинах страдания.
Обсуждая механизмы развития страдания, Cassell [1] утверждает, что страдание возникает из-за восприятия угрозы разрушения личности. Krikorian и Limonero [15] связывают страдание с истощением механизмов адаптации и копинг-стратегий. Chapman и Gavrin [12] добавляют, что страдание развивается в результате несоответствия между ожиданиями и реальностью и осознания невозможности удовлетворения своих ключевых потребностей. Согласно экзистенциальной теории, страдание вызывается непредсказуемостью и неконтролируемостью событий и связано с утратой смысла [9, 13].
ТИПОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СТРАДАНИЯ
Наиболее распространённым является разделение страданий на 2 типа: физические и нравственные [5, 14, 27]. Под физическими страданиями понимается прежде всего и почти исключительно боль [18, 28]. Описываются также такие симптомы, как жажда, невралгия, лихорадка, одышка, утомляемость/слабость, удушье, тошнота, головокружение, зуд и другие болезненные симп-томы [3, 27], дискомфортные состояния [29]. Толкование нравственных страданий отличается разбросом мнений, местами весьма полярных. Одни авторы не делают различий между нравственными и психическими страданиями, другие отрицают их идентичность, но в целом исследователи сходятся во мнении, что под ними понимаются переживания в виде чувств, отрицательных эмоций, аффективно заряженных мыслей, «душевные травмы» и «проявления стрессового состояния и других психических травм» [18, 30, 31].
Jansen и Sulmasy [32] предпочитают дифференцировать страдание на нейрокогнитивное и агентно-нарративное. Причем, по их мнению, нейрокогнитивное страдание носит клинический характер и вызвано физическим состоянием пациента, а агентно-нарративное страдание носит неклинический характер и лишь косвенно связано с состоянием здоровья пациента.
Hofmann [2] пишет о четырёх типах страданий: телесные, психические (психологические, эмоциональные), социальные и экзистенциальные. При этом под социальными страданиями понимаются любые серьёзные страдания, которые возникают в социальном контексте, оказывают серьёзное негативное влияние на других людей и приводят к социальным изменениям. Источником социальных страданий выступают социальные институты и социальные силы [14, 17]. Экзистенциальными страданиями считаются потеря смысла, цели в жизни, страх смерти, тревога, безнадёжность, страх стать бременем для других, потеря достоинства и одиночество [9].
Важной темой в научной литературе является тема уточнения границ между обычными переживаниями и страданием. Большинство авторов считают, что страдание следует отличать от обычных переживаний, граница между ними лежит в плоскости субъективного восприятия интенсивности, значимости и продолжительности этих переживаний. В частности, страдание возникает, когда переживания воспринимаются как проблема [24], сохраняются в течение долгого времени, занимают центральное место в психической жизни субъекта и приводят к истощению копинг-ресурсов организма [15], потере смысла [13] и утрате (изменению) чувства «Я» [21].
Так как страдание имеет сложную, многокомпонентную природу, его проявления могут включать широкий спектр физиологических и психологических феноменов и болезненных переживаний на уровнях телесного воплощения, взаимоотношений с другими людьми и основных жизненных ценностей [3]. Физические проявления являются одними из наиболее объективируемых признаков, которые доступны документированию и могут являться важными доказательствами страдания в судебной экспертизе. В числе множества физических проявлений страдания исследователи указывают на боль, астению, анорексию, сухость во рту, бессонницу, дисфагию, запоры, тошноту, одышку, жажду, голод, ощущение холода и жара, неспособность двигаться и др. [3, 4, 10, 32–34]. Эмоционально-аффективные феномены включают отрицательные эмоции, тревогу, страх, депрессию, эмоциональное онемение, гнев и ярость, тоску, чувство вины [1, 4, 32, 34, 35]. К ког-нитивным проявлениям страдания исследователи относят ухудшение когнитивных функций, разочарование, чувство беспомощности, дезориентацию, деморализацию, утрату контроля и душевного равновесия, неспособность осознать основные жизненные ценности и др. [2, 3, 34, 36]. Экзистенциальные проявления страдания включают потерю смысла жизни, безнадёжность, ограничение активности, усталость от жизни, потерю себя, чувство неблагополучия, отчуждения, несвободы и др. [1, 26, 32, 34, 35]. Социальные проявления страдания включают одиночество, отчуждение, зависимость от окружающих, потерю социальной значимости, ощущение бремени для других, потерю приятных занятий, чувства отвержения, зависимости и уязвимости, потерю автономии, неспособность выполнять повседневные действия [2–4, 32–34].
ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СТРАДАНИЯ
В целом страдание рассматривается как сложное (если не невозможное) для оценки и измерения явление [4], но тем не менее для измерения страдания предлагаются различные инструменты. Одни исследователи высказываются в пользу клинического метода [1, 37], другие предлагают разнообразные самооценочные шкалы [38, 39].
Степень тяжести страданий может варьировать от бесконечно малых до невообразимо мучительных [14], от дискомфорта до отчаяния и полной апатии [40], от сравнительно лёгких переживаний (неприятие, дискомфорт) до более интенсивных (дистресс, страх и ужас) [41], от эмоций низкой интенсивности без существенных последствий до сильного эмоционального потрясения, приведшего к психической или психосоматической патологии [42]. Некоторые авторы выделяют 4 степени тяжести психических (нравственных) страданий (лёгкие, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие [30, 43]) и 4 степени тяжести физических страданий (кратковременные, длительные, непредсказуемые по длительности, на всю жизнь [30]). Предлагается также выделять существенные, значительные, чрезмерные и невыносимые страдания [44]. Вопрос о невыносимой степени страдания имеет особое значение в контексте эвтаназии [34, 45]. Отмечается, что «некоторые исследователи предположили, что желание ускорить смерть — действительный показатель страдания, хотя такие выраженные желания имеют более сложные мотивы» [46].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Страдание как многогранный феномен исследуется в различных аспектах. Соответственно, в литературе существует широкий спектр определений страдания, большинство исследователей сходятся во мнении, что на данный момент не существует единого и универсального определения страдания. Тем не менее в целом страдание рассматривается как сенсорно-аффективно-когнитивный феномен, вызываемый множеством причин и развивающийся по нескольким механизмам: а) восприятия угрозы разрушения личности; б) истощения механизмов адаптации и копинг-стратегий; в) несоответствия между ожиданиями и реальностью; г) осознания невозможности удовлетворения своих ключевых потребностей. Важной особенностью человеческого страдания является неразрывная связь со значением и смыслом, которые страдающий вкладывает в своё переживание страдания. Все наиболее известные концепции страдания можно условно разделить на концепции, поддерживающие представление о страдании как о субъективном феномене, требующем осознанности переживания и не существующем вне восприятия самого субъекта, и как объективном феномене, существующем независимо от осознания субъекта. Наиболее распространённым является разделение страданий на 2 типа: физические и психические (психологические, нравственные), которые нередко дополняются социальными и экзистенциальными. Большинство авторов считают, что страдание следует отличать от обычных переживаний, граница между ними лежит в плоскости субъективного восприятия интенсивности, значимости и продолжительности этих переживаний. Проявления страданий могут иметь широкий спектр физиологических и психологических феноменов, включая соматические симптомы, эмоционально-аффективные феномены, когнитивные, экзистенциальные и социальные проявления. Для измерения страдания предлагаются различные инструменты, в том числе клинические методы и субъективные самооценочные шкалы. Вопросы судебной экспертизы страдания в литературе рассматриваются редко, что создаёт значительный пробел, когда требуется юридическая оценка ущерба (морального вреда), связанного со страданием.
В целом изучение научной литературы, посвящённой исследованию страдания, выявляет недостаточную разработанность темы, особенно в контексте судебно-экспертной оценки, а также многофакторность и многоаспектность феномена, что предполагает необходимость комплексного, междисциплинарного подхода к его исследованию.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Т.К. Асанов — определение концепции, работа с данными, написание черновика, пересмотр и редактирование рукописи; А.Р. Парпиева — работа с данными, написание черновика, пересмотр и редактирование рукописи. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты настоящей работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими организациями), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При проведении исследования и создании настоящей статьи авторы не использовали ранее полученные и опубликованные сведения (данные, текст, иллюстрации).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подготовлена по просьбе редакции журнала и рассмотрена во внеочередном порядке без участия внешних рецензентов.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: TK Asanov: conceptualization, data curation, drafting of the manuscript review and editing of the manuscript; AR Parpieva: data curation, drafting of the manuscript, review and editing. All authors approved the final version of the manuscript for publication and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: When conducting the research and creating this article, the authors did not use previously obtained and published information (data, text, illustrations).
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Generative AI Use Statement: No generative artificial intelligence technologies were used in the creation of this article.
Provenance and peer-review: This work was prepared at the request of the editorial board of the journal and was reviewed on an extraordinary basis without the participation of external reviewers.
About the authors
Tynchtykbek K. Asanov
Institute of Personality and Mental Health
Author for correspondence.
Email: tk.asanov@gmail.com
ORCID iD: 0009-0006-5697-6602
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Kyrgyzstan, BishkekAida R. Parpieva
American University of Central Asia
Email: parpieva@gmail.com
ORCID iD: 0009-0009-7877-2610
Kyrgyzstan, Bishkek
References
- Cassell EJ. The nature of suffering and the goals of medicine. New York: Oxford University Press; 1991. 272 р. ISBN: 978-0199882649
- Hofmann B. Suffering: harm to bodies, minds, and persons. In: Schramme T, Walker M, editors. Handbook of the Philosophy of Medicine. Springer, Dordrecht; 2024. doi: 10.1007/978-94-017-8706-2_63-2
- Svenaeus F. The phenomenology of suffering in medicine and bioethics. Theor Med Bioeth. 2014;35(6):407–420. doi: 10.1007/s11017-014-9315-3
- Rodgers BL, Cowles KV. A conceptual foundation for human suffering in nursing care and research. J Adv Nurs. 1997;25(5):1048–1053. doi: 10.1046/j.1365-2648.1997.19970251048.x
- Zhmurov VA. The great encyclopedia of psychiatry. 2nd ed. Moscow: Dzhangar; 2012. 864 p. (In Russ.)
- Ozhegov SI. Dictionary of the Russian language: about 57,000 words. 20th ed. Shvedova NY, editor. Moscow: Rus. yaz.; 1988. 748 p. (In Russ.) ISBN: 5-200-00313-X
- Talib N. Suffering: a perspective from law. In: Malpas J, Lickiss N, editors. Perspectives on Human Suffering. Dordrecht: Springer; 2012. Р. 213–225. doi: 10.1007/978-94-007-2795-3_17
- Bueno-Gómez N. Conceptualizing suffering and pain. Philos Ethics Humanit Med. 2017;12(1):7. doi: 10.1186/s13010-017-0049-5
- Cherny NI, Coyle N, Foley KM. Suffering in the advanced cancer patient: a definition and taxonomy. J Palliat Care. 1994;10(2):57–70.
- DeGrazia D. What is suffering and what sorts of beings can suffer? In: Green RM, Palpant NJ, editors. Suffering and Bioethics. New York: Oxford University Press; 2014. P. 134–154. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199926176.003.0007
- Weary DM. What is suffering in animals? In: Appleby MC, Weary DM, Sandøe P. Dilemmas in animal welfare. CABI; 2014. Р. 188–202. ISBN: 978-1-78639-063-9
- Chapman CR, Gavrin J. Suffering: the contributions of persistent pain. Lancet. 1999;353(9171):2233–2237. doi: 10.1016/S0140-6736(99)01308-2
- Frankl V. Man’s search for meaning: an introduction to logotherapy. Holt Rinehart & Winston; 1963. 154 р. ISBN: 0-8070-1426-5
- Anderson RE. Human suffering and quality of life: Conceptualizing stories and statistics. Dordrecht: Springer; 2014. 105 р. ISBN: 978-94-007-7669-2
- Krikorian A, Limonero JT. An integrated view of suffering in palliative care. J Palliat Care. 2012;28(1):41–49.
- van Hooft S. The suffering body. Health. 2000;4(2):179–195. doi: 10.1177/136345930000400203
- Kleinman A, Das V, Lock MM. Social suffering. University of California Press; 1997. 434 р. ISBN: 978-0520209954
- Mann SV. The concept of suffering. URL: http://samlib.ru/m/mann_s_w/koncepcijastradanija.shtml
- Bustan S. Diagnosing human suffering and pain: integrating phenomenology in science and medicine. In: van Rysewyk S, editor. Meanings of pain: pain and clinical experience. New York: Springer; 2019. Р. 37–58. doi: 10.1007/978-3-030-24154-4_3
- van Hooft S. Suffering and the goals of medicine. Med Health Care Philos. 1998;1(2):125–131. doi: 10.1023/a:1009923104175
- Tate T, Pearlman R. What we mean when we talk about suffering-and why eric cassell should not have the last word. Perspect Biol Med. 2019;62(1):95–110. doi: 10.1353/pbm.2019.0005
- Loeser JD, Melzack R. Pain: an overview. Lancet. 1999;353(9164):1607–1609. doi: 10.1016/S0140-6736(99)01311-2
- Spinelli JS. Preventing suffering in laboratory animals. Scand J Lab Anim Sci. 1991;18(4):159–164. doi: 10.23675/sjlas.v18i4.659
- Wilson KG, Chochinov HM, McPherson CJ, et al. Suffering with advanced cancer. J Clin Oncol. 2007;25(13):1691–1697. doi: 10.1200/JCO.2006.08.6801
- Moskovitz P. Understanding suffering: The phenomenology and neurobiology of the experience of illness and pain. In: Maldynia. Routledge: Taylor&Francis Group; 2011. Р. 33–64.
- Artsimovich IV. On the issue of suffering as a property of a human situation or a comfort zone. In: Psychology and Pedagogy of the 21st century: theory, practice and prospects. Cheboksary: Interactive plus; 2016. Р. 405–408. (In Russ.) EDN: VLTFTT
- Erdelevsky AM. Compensation for moral damage in Russia and abroad. Moscow: Infra-M; 1997. P. 239. (In Russ.) ISBN: 5-86225-627-X
- Veklenko V, Galyukova M. Criminal law analysis of the concept of "harm to health". Criminal Law. 2007;(1):7–11. (In Russ.) EDN: KXKRUJ
- Malein NS. About moral harm. State and Law. 1993;(3):32–39. (In Russ.)
- Budyakova TP. Personality of the victim and moral harm. Saint Petersburg: Law Center Press; 2005. 247 р. (In Russ.) ISBN: 5-94201-421-3
- Koshelev NN. Some problems of torture qualification. The World of Legal Science. 2004;(9):49–56. (In Russ.) EDN: UMEZZN
- Jansen LA, Sulmasy DP. Proportionality, terminal suffering and the restorative goals of medicine. Theor Med Bioeth. 2002;23(4-5):321–37. doi: 10.1023/a:1021209706566
- Bos DC, de Graaf E, de Graeff A, Teunissen SCCM. Determinants of unbearable suffering in hospice patients who died due to Euthanasia: A retrospective cohort study. Death Stud. 2021;45(6):451–458. doi: 10.1080/07481187.2019.1648338
- Dees MK, Vernooij-Dassen MJ, Dekkers WJ, et al. 'Unbearable suffering': a qualitative study on the perspectives of patients who request assistance in dying. J Med Ethics. 2011;37(12):727–34. doi: 10.1136/jme.2011.045492 .
- Gaignard ME, Hurst S. A qualitative study on existential suffering and assisted suicide in Switzerland. BMC Med Ethics. 2019;20(1):34. doi: 10.1186/s12910-019-0367-9
- Williams JR. When suffering is unbearable: physicians, assisted suicide, and euthanasia. J Palliat Care. 1991;7(2):47–49.
- Zvi Aminoff B. Mini-Suffering State Examination scale: possible key criterion for 6-month survival and mortality of critically ill dementia patients. Am J Hosp Palliat Care. 2007;24(6):470–4744. doi: 10.1177/1049909107302304
- Schulz R, Monin JK, Czaja SJ, et al. Measuring the experience and perception of suffering. Gerontologist. 2010;50(6):774–784. doi: 10.1093/geront/gnq033
- VanderWeele TJ. Suffering and response: directions in empirical research. Soc Sci Med. 2019;224:58–66. doi: 10.1016/j.socscimed.2019.01.041
- Chen G. The meaning of suffering in drug addiction and recovery from the perspective of existentialism, Buddhism and the 12-Step program. J Psychoactive Drugs. 2010;42(3):363–75. doi: 10.1080/02791072.2010.10400699
- Mellick R. Mental suffering and the brain: insights from neurology and literature. In: Malpas J, Lickiss N, editors. Perspectives on Human Suffering. Dordrecht: Springer; 2012. P. 337–356. doi: 10.1007/978-94-007-2795-3_17
- Engalitchev VF, Ujaninova AL. Reverting to the problem of forensic and psychological expertise of moral injury. Russian Psychological Journal . 2007;4(1):29–37. EDN: OIKRVT
- Galyukova MI. Some issues of determining the depth of mental suffering in criminal law. Collection of scientific papers SWorld. 2013;32(3):11–13. EDN: RWRRTH
- Asanov TK, Oskolkova SN, Parpieva AR. About moral damage suffering. Bulletin of the Kyrgyz National University Named After Zhusup Balasagyn. 2016;(2):199–206. EDN: WFIWED
- Pasman HR, Rurup ML, Willems DL, Onwuteaka-Philipsen BD. Concept of unbearable suffering in context of ungranted requests for euthanasia: qualitative interviews with patients and physicians. BMJ. 2009;339:b4362. doi: 10.1136/bmj.b4362
- Sensky T. Mental Pain and Suffering: The "Universal Currencies" of the Illness Experience? Psychother Psychosom. 2020;89(6):337–344. doi: 10.1159/000509587
Supplementary files