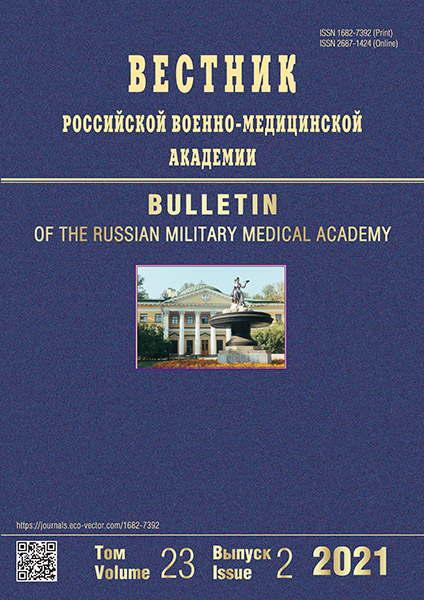Абдоминальное ожирение и метаболическая активность адипоцитов: критерии «здоровья» и «нейтральности»
- Авторы: Сердюков Д.Ю.1, Гордиенко А.В.1, Соколов Д.А.1, Дыдышко В.Т.1, Жирков И.И.1
-
Учреждения:
- Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ
- Выпуск: Том 23, № 2 (2021)
- Страницы: 199-206
- Раздел: Обзоры
- Статья получена: 04.06.2021
- Статья одобрена: 04.06.2021
- Статья опубликована: 12.07.2021
- URL: https://journals.eco-vector.com/1682-7392/article/view/71312
- DOI: https://doi.org/10.17816/brmma71312
- ID: 71312
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Последние десятилетия конца XX — начала XXI в. характеризуются бурным ростом таких неинфекционных заболеваний, как абдоминальное ожирение, прегипертензии, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2-го типа. По официальным данным, предожирение диагностируется у 40,1% взрослого населения России; ожирением страдают 21,6% россиян; и только у 36,3% наших сограждан определяется нормальная масса тела. Сочетание ожирения, артериальной гипертензии, сахарного диабета 2-го типа и атерогенной дислипидемии являются критериями метаболического синдрома — доказанного фактора риска прогрессирования и осложненного течения сердечно-сосудистых заболеваний. Научной общественностью активно обсуждается вопрос о целесообразности выделения группы пациентов, страдающих «метаболически здоровым» ожирением, и критериев его диагностики, однако при этом не оценивается гормональная активность жировой ткани. Лептин участвует в метаболизме глюкозы и жирных кислот, а лептинорезистентность является важным прогностическим маркером осложненного течения ожирения. По результатам наших исследований была сформулирована и предложена концепция «метаболически нейтрального» ожирения — ожирения с нормальной адипокиновой активностью (уровень лептина < 3,5 нг/мл) без признаков инсулинорезистентности. Было показано, что при этом метаболическом типе ожирения распространенность дислипидемии оказалась в 1,7 раза, предиабета — в 2 раза, атеросклероза общих сонных артерий — в 1,5 раза ниже, чем при «метаболически здоровом» ожирении. Определение уровня лептина при неосложненном ожирении позволяет стратифицировать пациентов на группы с нормальной и повышенной адипокиновой активностью. Выделение «метаболически нейтрального» типа ожирения считается нами практически обоснованным, так как позволяет определить тот этап заболевания, на котором частота нарушений со стороны метаболизма и системы кровообращения еще минимальна и необходима немедикаментозная профилактика. Превышение порога уровня лептина > 3,5 нг/мл при ожирении может требовать более агрессивной коррекции образа жизни и, возможно, раннего старта медикаментозной терапии.
Полный текст
Последние десятилетия конца XX — начала XXI в. характеризуются бурным ростом таких неинфекционных заболеваний, как абдоминальное ожирение (АО), прегипертензии, гипертоническая болезнь (ГБ), сахарный диабет (СД) 2-го типа [1–3]. Все они вносят свой существенный вклад в ранний дебют атеросклероза и ассоциированной с ним патологии — в так называемый феномен «преждевременного сосудистого старения». Сочетание АО, артериальной гипертензии (АГ), СД 2-го типа и атерогенной дислипидемии (ДЛП) является критерием метаболического синдрома (МС) — доказанного фактора риска прогрессирования и осложненного течения сердечно-сосудистых заболеваний [4].
По официальным данным [5], предожирение диагностируется у 40,1% взрослого населения России, АО страдают 21,6% россиян, и только у 36,3% наших сограждан определяется нормальная масса тела. В настоящее время ведущим диагностическим критерием ожирения остается величина индекса массы тела (ИМТ) [2], градации которого представлены в табл. 1.
Таблица 1. Классификация ожирения по индексу массы тела
Table 1. Classification of obesity by body mass index
Степень ожирения | ИМТ, кг/м2 | Риск сопутствующих заболеваний |
Нормальная масса тела | 18,5–24,9 | Нет |
Избыточная масса тела | 25–29,9 | Повышенный |
Ожирение I степени | 30–34,9 | Высокий |
Ожирение II степени | 35–39,9 | Очень высокий |
Ожирение III степени | > 40 | Крайне высокий |
В отношении военнослужащих применяется аналогичная классификация ожирения по ИМТ, но с учетом возраста1 (табл. 2).
Таблица 2. Классификация ожирения по индексу массы тела у военнослужащих
Table 2. Classification of obesity by body mass index in military personnel
Возрастная группа | Степень ожирения (ИМТ, кг/м2) | ||||
Повышенное питание | I | II | III | IV | |
18–25 лет | 23–27,4 | 27,5–29,9 | 30–34,9 | 35–39,9 | 40 и более |
26–45 лет | 26–27,9 | 28–30,9 | 31–35,9 | 36–40,9 | 41 и более |
Среди различных по этиологии форм нарушения питания наибольшую актуальность имеет первичное экзогенно-(алиментарно-) конституциональное ожирение [6]. В подавляющем большинстве случаев данного заболевания диагностируется именно этот вид ожирения. Тип ожирения устанавливается на основании определения окружности талии (ОТ) к окружности бедер (ОБ) или только ОТ. АО (висцеральное, андроидное ожирение) диагностируется при величине ОТ/ОБ > 1 или ОТ > 102 см для мужчин и ОТ/ОБ > 0,85 или ОТ > 88 см для женщин [2].
В качестве дополнительного диагностического критерия АО может применяться импедансометрия с оценкой индекса массы и объема висцерального жира [7].
В основе МС лежат висцеральное ожирение, гиперинсулинемия и инсулинорезистентность (ИР) периферических тканей, проявляющаяся нарушением углеводного, пуринового обменов, ДЛП и АГ. Основным диагностическим критерием МС является АО (ОТ > 80 см у женщин, > 94 см у мужчин). В качестве дополнительных критериев служат АГ или антигипертензивная терапия, ДЛП, предиабет (наличие нарушенной толерантности к глюкозе, нарушенной гликемии натощак или их сочетание). Диагноз верифицируется при наличии АО и двух дополнительных критериев [4, 8]. При выявлении у пациента МС его следует относить в категорию очень высокого риска развития кардиоваскулярных осложнений. Так, манифестная ИР связана с 5-кратным увеличением вероятности развития СД 2-го типа в течение ближайших 10 лет. В связи с этим ранняя диагностика и профилактика таких побочных эффектов АО, как ИР, призвана снизить бремя сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [9, 10].
Научной общественностью активно обсуждается вопрос о целесообразности выделения группы пациентов, страдающих «метаболически здоровым» ожирением (МЗО, ожирение без факторов сердечно-сосудистого риска, ожирение без ИР), и критериев его диагностики [2]. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что от 10 до 40% пациентов, страдающих АО, имеют нормальные липидно-углеводный статус и гемодинамику. Такой широкий диапазон статистических данных обусловлен различием диагностических подходов по выявлению этого метаболического типа ожирения. Так, ряд исследователей определяет МЗО как ожирение с двумя возможными компонентами МС; при более строгой стратификации учитывается только один критерий или полное отсутствие МС, что естественно отражается на распространенности и прогностическом значении этого состояния [11–14].
Структура и функция адипоцитов при МЗО имеют определенные особенности: меньший объем висцеральной жировой ткани и ее инфильтрация макрофагами, что сопровождается более низкой концентрацией провоспалительных адипокинов (фактора некроза опухолей-α, интерлейкина-6, С-реактивного белка, ингибитора активатора плазминогена-1, лептина, резистина) [9]. При осложненном АО в условиях хронического микровоспаления стимулируется разрастание коллагена матрикса жировой ткани, что препятствует накоплению в ней триглицеридов [15]. Следствием этого нарушения является эктопическое отложение жира в других органах и тканях (эпикардиально, перикардиально, внутримышечно, внутрипеченочно). МЗО характеризуется менее выраженным фиброзом и низким содержанием эктопического жира [13].
В национальных клинических рекомендациях по диагностике и лечению ожирения [2] были предложены понятия метаболически здорового и нездорового фенотипов этого заболевания. Для их выявления рекомендована оценка алиментарного статуса (ИМТ, ОТ/ОБ), компонентного состава тела (мышечная, жировая масса, индекс висцерального жира), гемодинамических (артериальное давление) и биохимических показателей (липидный и углеводный обмен, индекс ИР, уровень С-реактивного белка). Безусловно, выполнение этого алгоритма позволит провести всестороннюю оценку кардиометаболического риска пациента, однако перечень перечисленных методик выходит за рамки не только амбулаторно-поликлинического звена, но и целого ряда медицинских госпитальных учреждений.
I. Ray, S.K. Mahata, R.K. De [16] установили, что жировая ткань обладает высоким эндокринным потенциалом, который видоизменяется в зависимости от увеличения ее объема. Важную роль в определении метаболической активности адипоцитов играет лептин, регулирующий пищевое поведение. Повышение его концентрации обладает анорексигенным действием и ведет к снижению массы тела [17]. За счет антистеатогенного эффекта лептин участвует в регуляции гомеостаза глюкозы и жирных кислот. Увеличение массы тела сопровождается компенсаторной гиперлептинемией, препятствующей избыточному запасанию триглицеридов в периферических тканях [18, 19]. На фоне АО, а также неалкогольной жировой болезни печени вследствие различных механизмов (дефект пострецепторной передачи, нарушение транспорта через гематоэнцефалический барьер) может наблюдаться ослабление эффектов лептина — лептинорезистентность. Она в свою очередь может быть триггером ИР, ДЛП и дисгликемии. При лептинорезистентности, наблюдаемой при АО и жировой дистрофии печени, в плазме крови растет концентрация свободных жирных кислот, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности; происходит их эктопическое депонирование [19, 20]. На животных моделях доказано потенциирующее действие лептина на выработку альдостерона, способствующего развитию эндотелиальной дисфункции и сердечного фиброза [21].
Лептин является важным прогностическим маркером осложненного течения АО. Ранее нами [22] было проведено углубленное обследование 590 мужчин в возрасте 30–45 лет, по результатам которого у 49% пациентов было диагностировано ожирение, из них у 23% — МС, у 26% — МЗО. У всех молодых мужчин, страдающих ожирением, у которых концентрация свободного лептина > 3,5 нг/мл, были выявлены признаки МС. Указанный параметр определен по результатам дисперсионного анализа, его критическое значение установлено по данным ROC-анализа (Receiver Operating Characteristic) с чувствительностью 75% и специфичностью 77%.
Полученные данные позволили нам сформулировать концепцию о «метаболически нейтральном» ожирении (МНО) — АО с нормальной адипокиновой активностью (уровень лептина < 3,5 нг/мл) без признаков ИР. При этом пациентов, страдающих МЗО, с уровнем лептина > 3,5 нг/мл, по нашему мнению, следует относить в категорию ожирения с повышенной адипокиновой активностью в связи с высоким риском развития в этой группе МС.
При сравнении частоты нарушений липидного и углеводного обмена у пациентов, страдающих МНО, распространенность ДЛП оказалась в 1,7 раза, а предиабета — в 2 раза ниже, чем у мужчин, страдающих МЗО. При «метаболически нейтральном» типе АО частота атеросклероза общих сонных артерий была в 1,5 раза ниже, чем при МЗО. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) в группах встречалась со сравнимой частотой 16–18% (рис.).
Рис. Частота изменений метаболизма и системы кровообращения при различных типах ожирения
Fig. Frequency of metabolic and circulatory stem changes in different types of obesity
Таким образом, при алиментарном ожирении более чем у половины мужчин (56,6%) выявлено АО без ИР (МЗО), однако при дополнительной оценке адипокиновой активности жировой ткани только 30% обследованных молодого возраста имели «нейтральный» метаболический профиль. У 23,6% пациентов, страдающих ожирением (12% от общей выборки), была диагностирована повышенная адипокиновая активность жировой ткани [22].
В целом ожирение представляет собой сложную социальную и медицинскую проблему. Лечение этих пациентов в среднем обходится на 40–45% дороже для системы здравоохранения развитых стран, для 15–20% из них необходимы дорогостоящие бариатрические вмешательства. Больные, страдающие АО, на протяжении всей жизни имеют повышенный риск развития СД 2-го типа, венозного тромбоэмболизма, фибрилляции предсердий, синдрома обструктивного апноэ во время сна, деменции [23, 24]. Для их ранней профилактики необходима диагностика таких осложнений ожирения, как лептинорезистентность, ИР, ДЛП и дисгликемия.
Определение уровня лептина при АО без МС позволяет стратифицировать пациентов на группы с нормальной и повышенной адипокиновой активностью. Выделение «метаболически нейтрального» типа ожирения считается практически обоснованным, так как позволяет определить тот этап заболевания, на котором частота нарушений со стороны метаболизма и системы кровообращения еще минимальна и необходима немедикаментозная профилактика. Превышение порога уровня лептина > 3,5 нг/мл при АО может требовать более агрессивной коррекции образа жизни и, возможно, раннего старта медикаментозной терапии.
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 (редакция от 01.06.2020) «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».
Об авторах
Дмитрий Юрьевич Сердюков
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ
Автор, ответственный за переписку.
Email: serdukovdu@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-3782-1289
SPIN-код: 1870-8698
доктор медицинских наук
Россия, Санкт-ПетербургАлександр Волеславович Гордиенко
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ
Email: gord503@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6901-6436
SPIN-код: 5049-3501
доктор медицинских наук, профессор
Россия, Санкт-ПетербургДаниил Александрович Соколов
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ
Email: serdukovdu@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9385-6144
ординатор
Россия, Санкт-ПетербургВладислав Тадеевич Дыдышко
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ
Email: serdukovdu@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0244-8672
кандидат медицинских наук
Россия, Санкт-ПетербургИгорь Иванович Жирков
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ
Email: igor1403@mail.ru
кандидат медицинских наук
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Кардиоваскулярная профилактика 2017. Российские национальные рекомендации // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018. № 10 (6).Прилож. 2. doi: 10.15829/1560-4071-2018-6-7-122
- Национальные клинические рекомендации по диагностике, лечению, профилактике ожирения и ассоциированных с ним заболеваний. СПб., 2017.
- Крюков Е.В., Макеева Т.Г., Потехин Н.П. и др. Профилактика ремоделирования сосудистой стенки у лиц с предгипертонией // Военно-медицинский журнал. 2020. Т. 341, № 5. С. 82–85.
- Рекомендации экспертов Российского кардиологического общества по диагностике и лечению метаболического синдрома. 3-й пересмотр. М., 2013.
- Российский статистический ежегодник. 2019: Росстат. М., 2019.
- Комова А.Г., Маевская М.В., Ивашкин В.Т. Принципы эффективной диагностики диффузных заболеваний печени на амбулаторном этапе // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2014. Т. 24, № 6. С. 36–41.
- Нагибович О.А., Смирнова Г.А., Андриянов А.И., и др. Возможности биоимпедансного анализа в диагностике ожирения // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2018. № 2 (62). С. 182–186.
- Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee; Punthakee Z., Goldenberg R., Katz P. Definition, classification and diagnosis of diabetes, prediabetes and metabolic syndrome // Can. J. Diabetes. 2018. Vol. 42. Suppl. 1. P. S10–S15. doi: 10.1016/j.jcjd.2017.10.003
- Галагудза М.М., Борщев Ю.Ю., Иванов С.В. Абдоминальное висцеральное ожирение как основа формирования метаболического синдрома. Современное состояние проблемы // Университетский терапевтический вестник. 2021. Т. 2. № 1. С. 30–36.
- Лескова И.В., Ершова Е.В., Никитина Е.А. и др. Ожирение в России: современный взгляд под углом социальных проблем // Ожирение и метаболизм. 2019. Т. 16, № 1. С. 20–26. doi: 10.14341/omet9988
- Бояринова М.А., Орлов А.В., Ротарь О.П., и др. Адипокины и метаболически здоровое ожирение у жителей Санкт-Петербурга (в рамках эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ) // Кардиология. 2016. Т. 56, № 8. С. 40–45. doi: 10.18565/cardio.2016.8.40-45
- Мустафина С.В., Щербакова Л.В., Козупеева Д.А., и др. Распространенность метаболически здорового ожирения по данным эпидемиологического обследования выборки 45–69 лет г. Новосибирска // Ожирение и метаболизм. 2018. № 15 (4). С. 31–37. doi: 10.14341/omet9615
- Романцова Т.И., Островская Е.В. Метаболически здоровое ожирение: дефиниции, протективные факторы, клиническая значимость // Альманах клинической медицины. 2015. № 1. С. 75–86. doi: 10.18786/2072-0505-2015-1-75-86
- Rotar O., Boyarinova M., Orlov A., et al. Metabolically healthy obese and metabolically unhealthy non-obese phenotypes in a Russian population // Eur. J. Epidemiol. 2017. Vol. 32. No. 3. P. 251–254. doi: 10.1007/s10654-016-0221-z
- Лавренова Е.А., Драпкина О.М. Инсулинорезистентность при ожирении: причины и последствия // Ожирение и метаболизм. 2020. Т. 17, № 1. C. 48–55. doi: 10.14341/omet9759
- Ray I., Mahata S.K., De R.K. Obesity: An immunometabolic perspective // Front. Endocrinol. (Lausanne). 2016. Vol. 7. P. 157. doi: 10.3389/fendo.2016.00157
- Cui H., López M., Rahmouni K. The cellular and molecular bases of leptin and ghrelin resistance in obesity // Nat. Rev. Endocrinol. 2017. Vol. 13. No. 6. P. 338–351. doi: 10.1038/nrendo.2016.222
- Чулков В.С., Вереина Н.К., Чулков В.С., и др. Адипокины, полиморфизмы генов ренин-ангиотензиновой системы и поражение органов мишеней у молодых пациентов с артериальной гипертензией и абдоминальным ожирением // Терапия. 2019. Т. 1, № 26. С. 82–86.
- Отт А.В., Чумакова Г.А., Веселовская Н.Г. Значение лептинрезистентности в развитии различных метаболических фенотипов ожирения // Российский кардиологический журнал. 2016. Т. 4, № 132. С. 14–18. doi: 10.15829/1560-4071-2016-4-14-18
- Стаценко М.Е., Деревянченко М.В. Состояние магистральных артерий, сосудистый возраст у больных артериальной гипертензией и ожирением: роль лептина и адипонектина // Российский кардиологический журнал. 2019. Т. 24, № 1. С. 7–11. doi: 10.15829/1560-4071-2019-1-7-11
- Huby A.C., Antonova G., Groenendyk J., et al. Adipocyte-derived hormone leptin is a direct regulator of aldosterone secretion, which promotes endothelial dysfunction and cardiac fibrosis // Circulation. 2015. Vol. 132. No. 22. P. 2134–2145. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018226
- Соколов Д.А., Сердюков Д.Ю. Характеристика липидного, углеводного и адипокинового обмена при различных метаболических типах ожирения у военнослужащих-мужчин // Известия Российской военно-медицинской академии. 2020. Т. 1, Прилож. 1. С. 155–158.
- Benjamin E.J., Muntner P., Alonso A., et al. Heart disease and stroke Statistics-2019 update: A report from the American Heart Association // Circulation. 2019. Vol. 139. No. 10. P. e56–e528. Corrected and republished from: Circulation. 2020. Vol. 141. No. 2. P. e33. doi: 10.1161/CIR.0000000000000659
- Cosentino F., Grant P.J., Aboyans V., et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD // Eur. Heart. J. 2020. Vol. 41. No. 2. P. 255–323. doi: 10.1093/eurheartj/ehz486
Дополнительные файлы