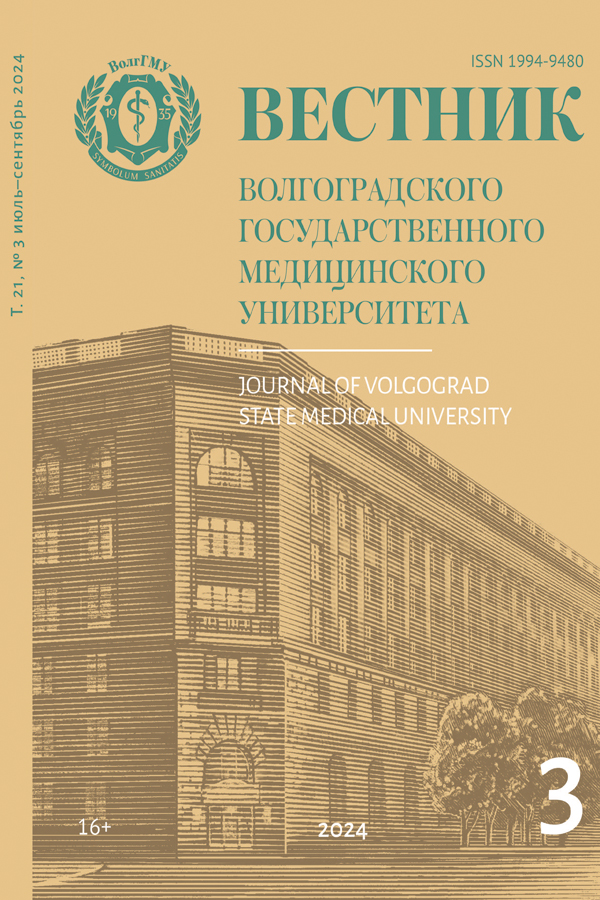Dynamics of changes in heart rate, ST segment and T-wave on patients with ventricular rhythm disturbances on the background of type 2 diabetes mellitus according to the results of 24-hour cardiac monitoring
- Authors: Mukhin I.V.1, Zubritsky K.S.1
-
Affiliations:
- Donetsk State Medical University named after M. Gorky
- Issue: Vol 21, No 3 (2024)
- Pages: 81-86
- Section: Original Researches
- URL: https://journals.eco-vector.com/1994-9480/article/view/639909
- DOI: https://doi.org/10.19163/1994-9480-2024-21-3-81-86
- ID: 639909
Cite item
Full Text
Abstract
The aim of the study was to analyze the dynamics of heart rate, assess the morphogenesis of the ST segment and T wave in patients with ventricular arrhythmias associated with type 2 diabetes mellitus (type 2 DM) based on the results of daily cardiac monitoring against the background of two regimens of metabolitotropic treatment. The study included 133 patients with type 2 DM with ventricular arrhythmias. The inclusion criteria for the study were: moderately severe type 2 diabetes in the stage of sub-/compensation on the background of combined glucose-lowering therapy without insulin, the presence of ventricular arrhythmias of classes III–V according to Lown B. and Wolf M. (1971). By random sampling, patients were randomized into 3 observation groups, statistically homogeneous in age, sex, duration of the diabetic syndrome, classes of ventricular arrhythmias. Patients of the 1st group (n = 44) received amiodarone and beta-blocker. Patients of the 2nd group (n = 45) received the same antiarrhythmic treatment, but in combination with meldonium for 3 consecutive months with the next 3-month course repeated after 6 months. Representatives of the 3rd group (n = 44) received treatment with amiodarone, beta-blocker and trimetazidine of the same duration. 24-hour ECG monitoring was performed at baseline, 3 months later, and 1 year later. Statistica 6.0 software was used for statistical processing. The examination revealed tachycardia syndrome and signs of pain and painless myocardial ischemia. It has been established that ventricular arrhythmias in type 2 DM are of a secondary nature, largely dependent on ischemic manifestations. Trimetazidine compared with meldonium showed a greater anti-ischemic effect, which made it possible to obtain a better antiarrhythmic effect. Trimetazidine is considered as one of the justified components of the treatment of ventricular arrhythmias of ischemic origin in patients with type 2 DM.
Full Text
Сахарный диабет 2-го типа (СД 2-го типа) является независимым фактором развития ишемической болезни сердца (ИБС), а следовательно, и высокого риска желудочковых нарушений ритма, в том числе и жизнеопасных [1].
Ишемическая болезнь сердца занимает лидирующие позиции среди коморбидных заболеваний у больных СД 2-го типа [2]. На момент установления диагноза диабета как минимум у половины пациентов присутствуют клинически значимые или бессимптомные признаки ИБС [3].
Особенности желудочковых нарушений ритма, в том числе и высоких градаций, во многом определяются темпами развития, вариантами и тяжестью ИБС [4].
Подавление желудочковой эктопической активности при помощи традиционных противоаритмических средств у больных СД 2-го типа с ИБС нередко бывает недостаточным, что обусловлено во многом вторичностью аритмического синдрома и его зависимостью от состояния коронарного кровотока [5].
Метаболитотропные средства широко продолжительное время используются как компонент лечения заболеваний и состояний, ассоциированных с ишемией миокарда, однако доказательная база при лечении ИБС существует только для триметазидина [6]. Эффективность других представителей этого класса остается предметом дискуссий исследователей в виду отсутствия результатов широкомасштабных сравнительных контролируемых исследований [7].
Учитывая высокую распространенность ИБС при СД 2-го типа и несомненную роль ишемии в происхождении желудочковых аритмий, остается дискутабельной как целесообразность, так и сравнительная эффективность применения разных метаболитотропных средств при этой патологии.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Проанализировать динамику частоты сердечных сокращений (ЧСС), оценить морфогенез сегмента ST и зубца Т у больных желудочковыми нарушениями ритма на фоне СД 2-го типа по результатам суточного кардиомониторирования на фоне двух режимов метаболитотропного лечения.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включено 133 пациента СД 2-го типа с желудочковыми нарушениями сердечного ритма в возрасте (53,0 ± 1,5) года с длительностью диабетического синдрома (7,0 ± 0,3) года. Критериями включения в исследование были: СД 2-го типа средней тяжести в стадии суб-/компенсации на фоне комбинированной глюкозоснижающей терапии без инсулина, наличие желудочковых нарушений сердечного ритма классов III–V по Lown B. и Wolf M. (1971). Критериями, исключающими участие в исследовании, были желудочковые нарушения ритма I и II классов, изолированные суправентрикулярные нарушения ритма, документированный инфаркт миокарда в анамнезе и/или статусе, клинически значимая хроническая сердечная недостаточность, явная диабетическая нефропатия, почечная недостаточность.
Частота классов желудочковых нарушений ритма среди обследованных пациентов была разной. Так, частота класса III составила 54,9 %, IVA класса – 26,3 %, IVВ класса – 11,3 %, V класса – 7,5 %.
Методом случайной выборки пациенты были рандомизированы в 3 сопоставимые группы наблюдения, статистически однородные по возрасту (1-я и 2-я группы – t = 0,4, р = 0,66; 1-я и 3-я – t = 1,9, р = 0,06; 2-я и 3-я – t = 1,5, р = 0,12 соответственно), полу (1-я и 2-я группы – χ2 = 0,9, р = 0,24; 1-я и 3-я – χ2 = 1,8, р = 0,19; 2-я и 3-я – χ2 = 0,7, р = 0,40 соответственно), длительности диабетического синдрома (1-я и 2-я группы – t = 1,7, р = 0,16; 1-я и 3-я – t = 0,6, р = 0,64; 2-я и 3-я – t = 0,1, р = 0,92 соответственно), классам желудочковых нарушений ритма (1-я и 2-я группы – t = 1,4, р = 0,20; 1-я и 3-я – t = 0,5, р = 0,47; 2-я и 3-я – t = 1,1, р = 0,23 соответственно).
Пациенты 1-й группы (n = 44) в зависимости от особенностей течения аритмического синдрома получали амиодарон орально или внутривенно. Вторым компонентом терапии был бета-адреноблокатор (БАБ). Пациенты 2-й группы (n = 45) получали такое же противоаритмическое лечение, но в сочетании с мельдонием по 500–1000 мг 1–2 раза в сутки 3 месяца подряд с повторением следующего 3-месячного курса через полгода (суммарно 2 курса в год). Представители 3-й группы (n = 44) получали лечение амиодароном, БАБ и триметазидином MR по 35 мг 2 раза в день 3 месяца с последующим повторением 3-месячного курса через полгода (суммарно 2 курса в год).
Базисная терапия включала ингибитор АПФ или антагонист рецепторов ангиотензина 2, не зависимо от наличия и тяжести артериальной гипертензии, антиагрегант, а также ингибитор ГМГ-Ко редуктазы или производный фиброевой кислоты при выраженной гипертриглицеридемии. При наличии артериальной гипертензии к лечению добавляли дигидропиридиновый антагонист кальция.
Суточное мониторирование ЭКГ проводили исходно (I этап), через 3 месяца (II этап) и через год (III этап) при помощи кардиомонитора «Кардиотехника-04-АД-3», Санкт-Петербург, Россия.
Для статистической обработки использовали программу Statistica 6,0 (Statsoft, США). Анализ вида распределения проведен при помощи теста Шапиро – Уилка. При нормальном распределении значимость различий цифровых значений между группами, а также между показателями между этапами исследования в каждой из групп оценивали при помощи t-критерия для зависимых или независимых выборок соответственно. При сравнении качественных показателей использовали критерий χ2 (Хи-квадрат). Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы был принят равным p < 0,05. Цифровые значения в таблице представлены в виде M ± m, где M – среднее значение, а m – ошибка среднего значения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ динамики ЧСС, сегмента ST и зубца T по результатам суточного кардиомониторирования представлен в табл.
Динамика ЧСС, сегмента ST и зубца Т у больных желудочковыми нарушениями ритма на фоне СД 2-го типа по данным суточного мониторирования ЭКГ
Показатели | Этапы исследования | Группы больных | ||
1-я | 2-я | 3-я | ||
Среднесуточная ЧСС, уд./мин | I II III | 100,20 ± 1,18 90,00 ± 1,12 4 84,90 ± 1,365, 6 | 102,00 ± 1,14 88,30 ± 1,56 1, 4 75,10 ± 1,19 1, 5, 6 | 104,70 ± 1,22 81,40 ± 1,66 2, 3, 4 63,40 ± 1,41 2, 3, 5, 6 |
Суточное количество болевых эпизодов депрессии сегмента ST | I II III | 1,30 ± 0,02 1,00 ± 0,04 4 1,00 ± 0,03 5 | 1,20 ± 0,03 1,00 ± 0,07 4 – | 1,30 ± 0,04 – – |
Суточное количество безболевых эпизодов депрессии сегмента ST | I II III | 13,2 ± 0,1 10,30 ± 0,24 4 8,40 ± 0,25 5, 6 | 13,00 ± 0,09 9,1 ± 0,2 4 7,10 ± 0,31 1, 5, 6 | 13,30 ± 0,21 8,10 ± 0,19 2 4,10 ± 0,11 2, 3, 5, 6 |
Продолжительность одного безболевого эпизода депрессии сегмента ST, мин | I II III | 2,08 ± 0,01 2,19 ± 0,02 4 2,20 ± 0,01 | 2,11 ± 0,04 2,11 ± 0,03 2,08 ± 0,02 1, 5, 6 | 2,15 ± 0,06 2,11 ± 0,03 2 1,50 ± 0,04 2, 3, 5, 6 |
Суммарная продолжительность безболевых эпизодов депрессии сегмента ST, мин | I II III | 25,00 ± 1,14 20,4 ± 1,2 4 16,20 ± 1,55 5, 6 | 25,7 ± 1,3 18,1 ± 1,4 1, 4 14,30 ± 1,29 1, 5, 6 | 26,0 ± 1,13 16,6 ± 1,8 2, 3, 4 8,10 ± 1,44 2, 3, 5, 6 |
Глубина депрессии зубца Т, мм | I II III | 2,00 ± 0,01 1,50 ± 0,03 4 1,00 ± 0,05 5, 6 | 2,00 ± 0,04 1,10 ± 0,08 1, 4 0,80 ± 0,03 1, 5, 6 | 2,00 ± 0,04 1,10 ± 0,02 2, 4 0,40 ± 0,05 2, 3, 5, 6 |
Примечание: этапы исследования: I – до лечения, II – через 3 месяца, III – через год. 1 различия между аналогичными показателями в 1-й и 2-й группах статистически достоверны; 2 различия между аналогичными показателями в 1-й и 3-й группах статистически достоверны; 3 различия между аналогичными показателями в 2-й и 3-й группах статистически достоверны; 4 различия между аналогичными показателями на этапах I и II статистически достоверны; 5 различия между аналогичными показателями на этапах I и III статистически достоверны; 6 различия между аналогичными показателями на этапах II и III статистически достоверны.
При исходном обследовании на этапе I установлен тахикардиальный синдром. Усиленный автоматизм отражает появление нового участка деполяризации в миокарде желудочков, что может потенциально привести к возникновению внеочередного (экстрасистолического) желудочкового комплекса. Во всех группах в процессе этапного динамического исследования наблюдалась редукция ЧСС, однако она происходила с разной интенсивностью. Замедление ритма сердца явилось отражением хронотропного влияния амиодарона и БАБ. Более интенсивное ритмоурежение отмечено в группах 2 и 3. Максимум снижения среднесуточной ЧСС наблюдалось в группе 3, а минимум – в группе 1. Во всех группах межэтапное сравнение ЧСС показало статистически достоверные различия (р < 0,05), однако, если разница в группе 1 между этапами I и III составила 15,3, то во 2-й группе – 26,9, а в 3-й – 41,3 удара в минуту.
Механизм риентри лежит в основе запуска желудочковых нарушений ритма высоких градаций. Этот феномен, как правило, возникает в зоне прилегания медленно проводящих тканей ишемизированного миокарда к здоровой (неизмененной) ткани. Следовательно, проведение противоишемической терапии позволяет уменьшить частоту желудочковых нарушений ритма.
При анализе суточного количества эпизодов депрессии сегмента ST, сопровождавшихся прекардиальной болью оказалось, что частота этого проявления в группе 1 не претерпела значимых изменений (р > 0,05). В группе 2 при сравнении этапов 1 и 2 также не отмечено достоверного (р > 0,05) изменения суточного количества болевых эпизодов депрессии сегмента ST. В группе 3 болевая депрессия сегмента ST не фиксировалась, начиная с этапа 2, что указывает на более раннее наступление противоишемического эффекта, чем в группе 2. Сравнение результатов между группами 2 и 3 указывает на присутствие противоишемического влияния метаболитотропных средств с преобладанием эффективности триметазидина.
Среднее суточное количество безболевых эпизодов депрессии сегмента ST по результатам исходного холтеровского мониторирования ЭКГ составило 13,1. Оказалось, что численность безболевых ишемических эпизодов с депрессией сегмента ST в группах уменьшилась, но с разной интенсивностью. Так, если в группе 1 различия между этапами 1 и 2 составили 2,9 (р < 0,05), между этапами 2 и 3 – 3,9 (р < 0,05), а между этапами 1 и 3 – 9,2 (р < 0,05) соответственно. Различия частоты безболевых проявлений между этапами 1 и 3 в группах больных составили 4,8 (р < 0,05); 5,9 (р < 0,05) и 9,2 (р < 0,05) соответственно. Следовательно, терапия в группе 1 без использования метаболитотропных средств статистически достоверно (р < 0,05) понижала частоту безболевых эпизодов депрессии ST, однако включение в лечебный комплекс мельдония (группа 2) приводила к дополнительному сокращению данного показателя, а терапия с триметазидином усиливала позитивные результаты лечения при сравнению как с обычным лечением в группе 1, так и с использованием мельдония в группе 2. Только использование триметазидина в комплексе лечебных мероприятий приводило к достоверному (р < 0,05) снижению продолжительности одного эпизода депрессии сегмента ST.
Суммарная длительность безболевых ишемических проявлений на ЭКГ статистически достоверно (р < 0,05) сократилась между этапами 1 и 2, 2 и 3 во всех группах. В группах 1 и 2 это происходило не только за счет сокращения продолжительности одного ишемического эпизода. В группе 3, напротив, наблюдалось достоверное (р < 0,05) сокращение как частоты ишемических изменений сегмента ST, так и их продолжительности.
Исходно во всех группах регистрировался негативный зубец Т глубиной до 2,0 мм. При исследовании в динамике установлено статистически значимое (р < 0,05) уменьшение его глубины во всех группах больных. В группе 2, но в особенности в группе 3, его восстановление происходило более интенсивно. Различия глубины негативного зубца Т между группами 1 и 2 на этапе 3 составили 0,2 мм (р > 0,05), между группами 1 и 3 – 0,7 мм (р < 0,05), между группами 2 и 3 – 0,4 мм (р < 0,05).
Считается, что главными факторами, лежащими в основе каскадной общности патогенеза желудочковых нарушений ритма при диабете, являются болевая и безболевая ишемия миокарда как проявление мультисосудистого атеросклероза и диабетической автономной кардиомиопатии, гипогликемия и ее чередование с гипергликемией, инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, гиперкатехолемия, оксидативный стресс [2, 8]. Именно под их влиянием манифестируются и/или интенсифицируются такие процессы, как аномалии вхождения кальция в клетку, кардиальный фиброз, дисфункция калиевых каналов, извращение внутриклеточных сигналов, что в совокупности приводит к формированию механизма риентри, удлинению процессов клеточной реполяризации, повышению триггерной готовности [3].
По данным, полученным при исходном обследовании (этап 1), было установлено присутствие тахикардиального синдрома, который наиболее вероятно является одним из проявлений кардиальной автономной кардиомиопатии [9]. Опасность устойчивой тахикардии может рассматриваться в качестве одного из потенциальных факторов формирования вторичной дилатации полостей сердца с последующим снижением контрактильной функции левого желудочка [7, 10]. Стойкая синусовая тахикардия и, как следствие, сокращение продолжительности диастолы, приводит к уменьшению диастолического наполнения желудочков и снижению коронарного кровотока, что в совокупности с мультисосудистым атероматозным процессом существенно ухудшает кровоснабжение миокарда и проявляется соответствующими ишемическими изменениями на ЭКГ.
Как свидетельствуют табличные данные, исходный тахикардиальный синдром на 1-м этапе довольно эффективно подавлялся комбинацией БАБ + амиодарон. Включение в лечебную программу мельдония в группе 2 усиливало интенсивность ритмоурежения. Максимальный эффект замедления ЧСС отмечен при добавлении триметазидина к базисной терапии амиодароном и БАБ.
Присутствие болевых эпизодов, сопровождающихся депрессией сегмента ST, является клинически значимым отражением дефицита коронарного кровотока. Эти проявления эффективно нивелировались применением кардиометаболиков с максимальным эффектом в группе триметазидина уже через 30 дней от начала его приема.
Доминирование безболевых эпизодов депрессии сегмента ST является одним из патогномоничных проявлений кардиальной автономной невропатии [8]. Стандартная терапия в группе 1 приводила к статистически достоверному (р < 0,05) постепенному снижению частоты данного проявления. Включение мельдония в лечебный комплекс способствовало более интенсивному, чем только традиционное лечение, уменьшению безболевых эпизодов, но только на этапе 3. Комплексная терапия в группе 3 продемонстрировала троекратное уменьшение безболевых признаков по сравнению с исходным значением и двукратное по сравнению с этапом 2. Суточное количество безболевых эпизодов в группе 3 оказалось значимо меньше (р < 0,05), чем в группах 1 и 2. При этом именно такое лечение позволило получить достоверное (р < 0,05) уменьшение продолжительности одного ишемического эпизода.
Суммарная продолжительность безболевых эпизодов депрессии сегмента ST снизилась во всех группах по сравнению с исходными показателями. Минимально – в группе 1 на 8,8 минут (р < 0,05), умеренно – в группе 2 на 11,4 минут (р < 0,05) и максимально – в группе 3 на 17,9 минут (р < 0,05). При этом различия между группами 1 и 2 на этапе 3 составили 1,9 (р > 0,05), между группами 1 и 3 – 8,1 (р < 0,05) и между группами 2 и 3 – 6,2 минут (р < 0,05).
Глубина негативной полярности зубца Т на этапе 3 по сравнению с исходной достоверно (р < 0,05) снизилась во всех группах. В группе 1 – на 1,0, в группе 2 – на 1,2, в группе 3 – на 1,6 мм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У больных СД 2-го типа с желудочковыми нарушениями ритма III–IV классов по результатам суточного кардиомониторирования выявлены тахикардиальный синдром, болевая и безболевая ишемия миокарда, являющиеся проявлениями кардиальной автономной невропатии и ИБС. Ишемический и аритмический синдромы у больных СД 2-го типа с желудочковыми нарушениями ритма представляют собой взаимосвязанные и взаимозависимые причинно-следственные состояния. Желудочковые нарушения ритма при исходном тахикардиальном синдроме оказывают дополнительное воздействие на системную и интракоронарную гемодинамику, усугубляя дефицит венечного кровотока, вызванный мультисосудистым атероматозным процессом. Возникновение желудочковых аритмий высоких градаций на фоне исходной синусовой тахикардии, индуцированной ишемией миокарда и кардиальной автономной диабетической невропатией у больных СД 2-го типа, повышает риск внезапной аритмической смерти.
Медикаментозная коррекция ишемических проявлений при использовании метаболитотропных средств наряду с применением амиодарона и БАБ, понижает триггерную аритмогенную активность. Триметазидин по сравнению с мельдонием продемонстрировал больший эффект потенцирования базисной антиаритмической терапии амиодароном с БАБ. Добавление к лечебной программе триметазидина при длительном приеме усиливает ритмоурежающие эффекты амиодарона и БАБ за счет противоишемического воздействия, улучшения интракоронарной микроциркуляции и, возможно, кровоснабжения синусового узла.
About the authors
Igor V. Mukhin
Donetsk State Medical University named after M. Gorky
Author for correspondence.
Email: zambezi29@mail.ru
Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Internal Diseases No. 4
Russian Federation, DonetskKirill S. Zubritsky
Donetsk State Medical University named after M. Gorky
Email: amitriptilinum@gmail.com
Postgraduate student of the Department of Internal Diseases No. 4
Russian Federation, DonetskReferences
- Tan Yi., Zhang Z., Zheng Ch.et al. Mechanisms of diabetic cardiomyopathy and potential therapeutic strategies: preclinical and clinical evidence. Nature reviews. Cardiology. 2021;2:11–13.
- Tancredi M., Rosengren A., Svensson A-M. et al. Excess mortality among persons with type 2 diabetes. The New England journal of medicine. 2015;373:1720–1732.
- Ignatenko G.A., Mukhin I.V., Dzyuban A.S. et al. Cardioprotective therapy in patients with painless myocardial ischemia in conditions of cardio-metabolic comorbidity. Vestnik neotlozhnoi i vosstanovitel’noi khirurgii = Bulletin of Emergency and Reconstructive Surgery. 2019;1:55–60. (In Russ.).
- Statsenko M.E., Turkina S.V., Shilina N.N., Kosivtsova M.A. Differentiated administration of cytoprotectors in patients with chronic heart failure and type 2 diabetes mellitus. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta = Journal of Volgograd State Medical University. 2017;14(1):23–26. (In Russ.) URL: https://journals.eco-vector.com/1994-9480/article/view/119065.
- Garipova A.F., Saifutdinov R.G., Vagapova G.R. Ventricular arrhythmias associated with a prolonged QT interval as a predictor of sudden cardiac death in patients with coronary heart disease and type 2 diabetes. Kazanskii meditsinskii zhurnal = Kazan Medical Journal. 2016;6:854–860. (In Russ.).
- Al-Khatib S.M., Stevenson W.G., Ackerman M.J. et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Journal of the American College of Cardiology. 2018;72(14):1677–1749.
- Ignatenko G.A., Mukhin I.V., Zubritsky K.S., Palamarchuk Yu.S., Belevtsova E.P. Influence of different regimens of therapy on the manifestations of arrhythmic syndrome in patients with type 2 diabetes mellitus. Mediko-sotsial’nye problemy sem’i = Medico-social problems of the family. 2021;4:49–56. (In Russ.).
- Pappachan J.M., Varughese G.I., Sriraman R., Aruna-girinathan G. Diabetic cardiomyopathy: Pathophysiology, diagnostic evaluation and management. World journal of diabetes. 2013;4(5):177–189
- Agarwal G., Singh S.K. Arrhythmias in Type 2 Diabetes Mellitus. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. Metab. 2017;21(5):715–718.
- Subbotin A.K., Tarlovskaya E.I., Mazalova M.E. Results of long-term ECG monitoring depending on the type of antihyperglycemic therapy in patients with type 2 diabetes mellitus. Neotlozhnaya kardiologiya i kardiovaskulyarnye riski = Emergency Cardiology and Cardiovascular Risks. 2019;1:526–531. (In Russ.).
Supplementary files