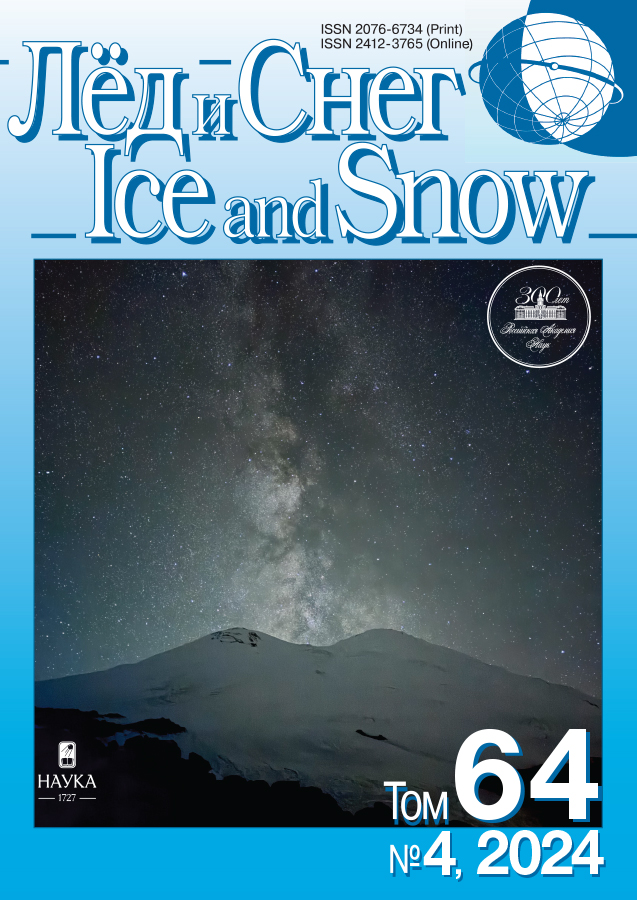The history of the second Russian polar station “Sagastyr” in persons and circumstances
- Authors: Aleksandrov E.V.1
-
Affiliations:
- Moscow State University
- Issue: Vol 64, No 4 (2024)
- Pages: 658-670
- Section: Reviews and chronicles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2076-6734/article/view/684225
- EDN: https://elibrary.ru/SIVGXG
- ID: 684225
Cite item
Abstract
Less than half of the total number of polar stations that once encircled the northern coast of Russia are currently operating. Regardless of how justified were the decisions to close them, in due time their creation seemed to be necessary both for the country and for the people, on whose shoulders lay extremely difficult conditions for the fulfillment of the task. The fates of each station are individual, and the restoration of the circumstances of their organization and existence can be compared to the addition of lost fragments to the chronicle of scientific exploration of the most difficult for living part of the Earth’s surface. The purpose of the article is to reconstruct an episode related to Russia’s participation in the program of the First International Polar Year. In addition to the Malye Karmakuly station, which had already operated earlier on Novaya Zemlya, it was urgent to organize the second polar station in the delta of the Lena River, which was named after the Sagastyr Island. The chosen place was one of the most understudied, difficult to access and uninhabitable on the Siberian coast of the Arctic Ocean. Nevertheless, in extremely limited time and under the most difficult conditions the station was organized on the specified date and successfully operated in 1882–1884, a year longer than planned according to the program regulations. A comparison of information from various sources and a brief account of the main characters of this event and of those who directly or indirectly influenced the events allow us to look from the perspective of the present time at the circumstances and historical context in which the polar explorers had to operate in the late 19th century.
Full Text
About the authors
E. V. Aleksandrov
Moscow State University
Author for correspondence.
Email: eale@yandex.ru
The Earth Science Museum
Russian Federation, MoscowReferences
- Andreev A.O., Dukalskaya M.V., Frolov S.V. The first international polar year. Problemy Arktiki i Antarktiki. Problems of the Arctic and Antarctic, 2007, 75: 7–17. [In Russian].
- Antonov Yu.K. On Sagastyr Island – 130 years ago. Nauka i tekhnika v Yakuti. Science and technology in Yakutia, 2012, 2 (23): 34–37. [In Russian].
- Belov M.I. Po sledam polyarnykh ekspeditsiy. Chast’ II. Na arkhipelagakh i ostrovakh. In the footsteps of polar expeditions. Part II. On archipelagos and islands. Leningrad: Hydrometeoizdat, 1977: 132 p. [In Russian].
- Bolshiyanov D.Yu., Makarov A.S., Schneider V., Shtof G. Proiskhozhdeniye i razvitiye del’ty reki Leny. Origin and development of the Lena River delta. St. Petersburg: AARI, 2013: 268 p. [In Russian].
- Bunge A.A. Opisaniye puteshestviya k ust’yu r. Leny 1881–1884 gg. Description of the journey to the mouth of the Lena River. 1881–1884. St. Petersburg, 1888: 96 p. [In Russian].
- Velmina N.A. At the grave of De-Long. Nauka i tekhnika v Yakutii. Science and technology in Yakutia. 2018, 2 (35): 110–116. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/u-mogily-de-longa (Date of access: 04/18/2023) [In Russian].
- Melville G.W. V del’te Leny. Istoriya poiskov kommander-leytenanta DeLonga i yego sputnikov. In the Lena delta. The story of the search for Lieutenant Commander DeLong and his companions. New York: The Riverside Press, Cambridge, 1896: 355 p. [In Russian].
- Mostakhov S.E. Russkiye puteshestvenniki-issledovateli Yakutii (XVII – nachalo XX v.). Russian travelers-researchers of Yakutia (XVII-early XX centuries). Yakutsk, Yakut book publishing house, 1982: 191 p. [In Russian].
- Nordenskiöld A.E. Plavaniye na “Vege”. Sailing on the Vega. Moscow, Paulsen, 2019: 559 p. [In Russian].
- Oboimov A. Po zovu Bol’shoy Medveditsy. Yakutskiye motivy. Prodolzheniye. At the call of Ursa Major. Yakut motives. Continued. Alexander Oboimov, 2022: 406 p. Retrieved from: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=56556947 Date of access: 02/14/2022. [In Russian].
- Payer J. 725 dney vo l’dakh Arktiki: avstro-vengerskaya polyarnaya ekspeditsiya 1871–1874. 725 days in the Arctic ice: the Austro-Hungarian polar expedition of 1871–1874. Moscow: Paulsen, 2024: 392 p. [In Russian].
- Parygina D.V. International Polar Year: origins, expeditions, results (based on materials from the Presidential Library collection). Polyarnyye chteniya na ledokole “Krasin”. Polar readings on the icebreaker “Krasin”. 2022: 143–152.
- Suleymanov A.A. “An example of the heroism of Russian polar explorers”: from the history of the formation of systematic scientific study of the Arctic regions of Yakutia (late XIX – early XX centuries). Sovremennaya nauchnaya mysl’. Modern scientific thought. 2023: 5. P. 189–195. [In Russian].
- Sukhova N.G. Russian Geographical Society and polar research in the 19th century. Polyarnyye chteniya na ledokole “Krasin”. Polar readings on the icebreaker “Krasin”. 2020: 523–541. [In Russian].
- Jürgens N.D. Ekspeditsiya k ust’yu reki Leny s 1881 goda po1885 god. Predvaritel’nyy otchet nachal’nika ekspeditsii N.D. Yurgensa (chitan v obshchem sobranii Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo Obshchestva 6 marta 1885 g.). Expedition to the mouth of the Lena River from 1881 to 1885. Preliminary report from the head of the expedition N.D. Jürgens (read at the general meeting of the Imperial Russian Geographical Society on March 6, 1885) St. Petersburg: Publishing house printing house A.S. Suvorin, 1885: 54 p. [In Russian].
- Berger F., Besser B.P., Krause R.A. Carl Weyprecht (1838–1881) Seeheld, Polarforscher, Geophysiker. Wissenschaftlicher und privater Briefwechsel des оsterreichischen Marineoffiziers zur Begr. undung der internationalen Polarforschung. Wien, 2008: 543.
Supplementary files