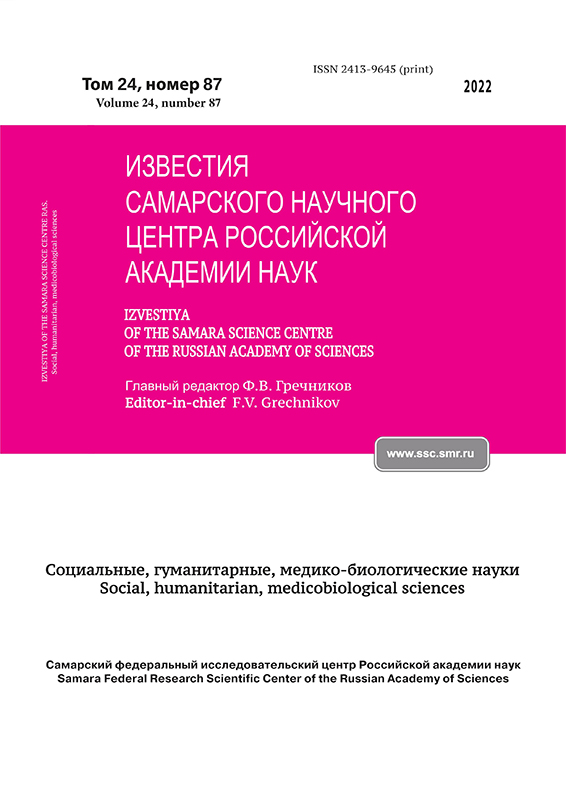Pushkin’s Presence in S.A. Yesenin’s Creative Work: a Culturological Commentary
- Authors: Dudareva M.A.1
-
Affiliations:
- Peoples' Friendship University of Russia
- Issue: Vol 24, No 6 (2022)
- Pages: 62-70
- Section: HUMANITIES SCIENCES
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/120113
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2022-24-87-62-70
- ID: 120113
Cite item
Full Text
Abstract
The object of the article is the archetype of the Moon in the Russian culture. The subject of the article is the variable images of the crescent and full Moon in the Russian poetry. The material of the article is represented by two poems – “The Demons” by A.S. Pushkin and “Through fields of virgin snow I roam” by S.A. Yesenin. The cultural and philosophical analysis focuses on the interrelation of two types of reality, the phenomenal and the noumenal, the rational and the spontaneous in art. Much attention is paid to the problem of transformation of the Moon image in poetry; the Moon’s hypostatic nature is analysed. The author traces the change in depiction of the Moon’s image within a single literary text. The author examines the text describing the blizzard and the demonic myth associated with the Moon’s archetype in the Russian literature. The research methodology represents a holistic ontological hermeneutic analysis of poetic texts by Pushkin and Yesenin aimed at highlighting the cultural potential of the problem of dualism in the Russian national world image, which makes it possible to describe the material from ontological positions and gain an insight into the poetic word. The work results can be of interest to philologists who include literature in the space of the great dialogue of cultures. The findings can also be used in teaching cultural studies and Russian philosophy courses.
Full Text
Введение. Мужское и женское, черное и белое, день и ночь, солнце и луна, или то, что Вяч. Иванов определил как чет и нечет, — эти оппозиции пронизывают мировую культуру, без них невозможна жизнь человека [8]. Однако среди них есть неочевидные для людей цифровой эпохи, трансцендентное отношение к бытию которых угасает. Например, месяц и луна в повседневном профаном сознании воспринимаются как нечто единое, в то время как это разные ипостаси одного светила, выступающие культурологическими априори для мировой культуры. Показательна в этом отношении поэзия, которая уловила чутким ухом это различие и большое значение его для человеческого бытия. Так, в стихотворении Валерия Брюсова «Творчество» находим такие апофатические, то есть темные для комментирования строчки:
Это место в стихотворении вызывало негодование у критиков и недоумение даже у опытных литературоведов (О. Лекманов дает развернутый комментарий к стихотворению в цикле видеопрограмм о литературе на интернет-радио «Арзамас» [13]). Однако даже с точки зрения русской фольклорной традиции, с которой В. Брюсов хорошо был знаком, поскольку занимался собиранием фольклора (находясь под влиянием дружбы с А.М. Добролюбовым [24, с. 29]), месяц и луна выражают мужское и женское начало в свадебной обрядности. Но дело даже не в эротическом подтексте, который нивелируется самим процессом мистериального характера, происходящего в культуре с луной. На это обратил внимание М. Элиаде: «Подобно человеку, Луна встречает на своем пути трагедии, ибо ее “ослабление” (уменьшение размеров и формы по фазам), как и ослабление человека, кончается смертью. Три ночи звездное небо лишено Луны. Но за этой “смертью” следует возрождение: новолуние. Угасание Луны в “смерти” никогда не окончательно»» [30, с. 117]. Принимая это культурологически точное наблюдение во внимание, укажем на мифологему вневременности, возникающую при столкновении дня и ночи, света вечернего и невечернего, луны в двух ее ипостасях, начальной и конечной (см. подробно о явлении света вечернего и невечернего в статье Н.В. Брагинской и А.И. Шмаиной-Великановой «Свет вечерний и свет невечерний» [2, с. 73]). Именно в такой пограничный апофатический час человеку открывается Иерофания, то есть сакральная, божественная реальность. В такой момент рождается творчество, возникает поэзия у В. Брюсова: «Звуки реют полусонно // Звуки ластятся ко мне» [3, с. 35].
История вопроса. Пограничные состояния, или лиминальные, выражаясь языком В. Тернера [28], характерны и для поэзии А.С. Пушкина, и проявляются они в том числе и в оппозиции или парадигме (ставим вопрос) «месяц — луна», на что обращали свое внимание и философы, и филологи. Так, И. Ильин указывает на соединение во вселенной А.С. Пушкина нижнего мира с верхним, демонического — с божественным, цитируя стихотворение 1830 г. «Бесы»: «Всемирная отзывчивость <…> связывает поэта со всей вселенной. И с миром ангелов, и с миром демонов…» [9, с. 333]. Фольклорист Д.Н. Медриш, анализируя указанный текст, тонко подмечает, что в поэтике А.С. Пушкина как сходятся в пределах одного художественного пространства, так и противостоят друг другу месяц и луна [14, с. 325]. Но эта проблема требует, думается, отдельной проработки, поскольку стихотворение «Бесы» является итоговым для восприятия творчества поэта болдинского периода. В чем же апофатика этого текста? Почему исследователи в разные периоды нашей гуманитарной науки продолжают возвращаться к нему?
Методы исследования. В данной работе, посвященной сопоставлению двух ипостасей ночного светила — луны и месяца — в русской фольклорной и литературной традиции, а именно в стихотворениях «Бесы» А.С. Пушкина и «Я по первому снегу бреду…» С.А. Есенина, проведен целостный онтогерменевтический анализ указанных текстов, направленный на высвечивание фольклорной, философской парадигмы данных художественных произведений, что позволяет онтологически подойти к вопросам самого творческого процесса, углубиться в понимание феномена света вечернего, мифологемы вневременности, связанных с апофатической традицией в мировой культуре.
Результаты исследования. С одной стороны, «Бесы» одним своим заглавием настраивают нас на метафизику русской литературы, заставляют подумать о присутствии духовного мира в жизни человека и встраиваются аксиологически и онтологически в один ряд с произведениями В. Жуковского, в которых представлена пограничная ситуация сна / яви, опасная для героя (баллада «Двенадцать спящих дев», 1812 г., переводная вещь из Гете «Лесной царь», 1817 г.). С другой стороны, стихотворение также вписывается в «метельный» зимний цикл и самого автора («Зимняя дорога»), о чем развернуто в своей статье написала Г.П. Козубовская [10], и общий «метельный» текст русской словесной культуры (Б. Пастернак, С. Есенин, А. Блок, Б. Корнилов, В. Высоцкий), о котором в последнее время все чаще пишут филологи [22; 25].
Человека Нового времени, и особенно конца Нового времени, для которого смерть стала дальней, то есть отодвинута в угол дальний, как нечто неудобное и посредственное, по наблюдениям историка и философа Ф. Арьеса [1], можно отрезвить только смертью — разговором о ней, художественным проживанием ее, что возвращает этому событию онтологический, сакральный статус. А.С. Пушкин, помещая своего героя в неудобные условия — открытое поле, — тем самым его посылает на встречу с неизведанным, то есть потенциально со смертью. Это одна из любимых его ситуаций, в которой путник в пороговый момент оказывается ближе к Богу (см. комментарий В.П. и Ж.Л. Океанских о «Зимней дороге» [17]). Само состояние героя в дороге всегда потенциально опасно, поскольку «дорога — место, где проявляется судьба, доля, удача человека при его встречах с людьми, животными и демонами» [26, с. 124]. Судьба / доля, по общеславянским представлениям, всегда связаны с жизнью и смертью.
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин! [21, с. 167]
Литературоведы удивляются: почему страшно герою, страх остается до конца непонятным [12, с. 228]. Но сама теография русской равнины с ее апофатизмом, непостижимостью, на что обращали внимание и культурологии, и философы, сводит человека с судьбой, эта ситуация онтологическая; В.П. Океанский обозначает это как проблему «человек и тотальность» [18]. Интересно, что в первой строфе задана вертикаль — луна в небе, освещающая невидимкой снег, это верхняя крайняя точка, и путник среди неведомых равнин, это нижняя точка. А между ними — непостижимое. Дважды здесь А.С. Пушкин применяет языковое отрицание — невидимкою луна, неведомые равнины, погружая путника и читателя вместе с ним в состояние на грани «было / не было». Принято думать, что бричка встала, сбилась со следа, но в том-то и дело, что в этом Апейроне русской равнины (Г.Д. Гачев определил именно так характер нашего национального космоса [4, с. 213]) неважно, едешь ты или стоишь на месте, поскольку русская равнина теографична, она и путь, и беспутье одновременно:
«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам». [21, с. 167]
Ямщик, как и в стихотворении «Зимняя дорога» (там ямщик смолкнул), выпадает из линейного пространства, перестает быть просто ямщиком, поскольку глаза его залепил снег, он ничего не видит, а значит, бесполезен как вожатый. Но он начинает видеть в имагинациях мир духовный, нижний мир, где все наоборот, перевернуто, что А.С. Пушкин очень точно изобразил во фразе — «пень иль волк», которая наполнена семантикой невыразимого:
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали... «Что там в поле?» —
Кони чуткие храпят;
Вот уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;
Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают? [21, с. 168]
И нам не понять этой подмены, если мы культурологически не обратим внимание на два момента.
Во-первых, среди картин неведомого, безобразных бесов появляются духи, которые, конечно, есть не одно и то же, что и представители нижнего мира. Духи появились «средь белеющих равнин» — впервые в стихотворении происходит прояснение цвета. До этого момента с точки зрения цвета было трудно описать пушкинское художественное пространство. От чего равнины побелели? Не от света ли духов, которые гонят, прогоняют бесов, стонущих жалобно в беспредельной вышине? Если вначале небо было ограничено луной и тучами, то теперь перед нами открылась бездна, мир не подлунный, а надлунный:Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне... [21, с. 168]
По мнению В.А. Грехнева, финал стихотворения трагичен, заканчивается «…безысходным зрелищем неисчерпаемости зла. Бесы у Пушкина “бесконечны”» [5, с. 48]. Но стоит обратить внимание на то, что А.С. Пушкин с большой вероятностью был знаком с картинами художников раннего Нового времени, с сюжетами на демонологическую тему (свержение сатаны, падших ангелов). В комнате в Тригорском, где часто бывал поэт, висела картина, изображающая искушение св. Антония, мучимого демонами, которая близка по своей эстетике и семантике босховскому миру [11]. На этих полотнах (Иеронима Босха, Питера Брейгеля Старшего, Йоса ван Клеве) Архангел Михаил поражает ангелов-отступников, демонов, которых всегда бесконечно больше, по законам средневековой демонографии. А.Е. Махов указывает на непредсказуемость, то есть своего рода апофатичность тел демонов, которая создает в некоторых случаях и эффект бесконечного множества этих существ. «В иконографии же раннего Нового времени мы находим немало примеров, дающих нам повод предполагать, что скрывание части дьявольского тела и превращение его в частично непредсказуемое использовано как сознательный прием» [15, с. 10]. Здесь автор исследования «Diabolus absconditus: непредсказуемость, неопределенность и невидимость демонического тела в иконографии и текстах раннего Нового времени» обращается к работе Доменико Беккафуми «Архангел Михаил поражает ангелов-отступников» и к картине неизвестного верхнерейнского мастера «Св. Антоний, мучимый демонами». Ученый отмечает: в обоих случаях представлена визуальная редукция, но Беккафуми решает это с помощью светотеневой игры, а другой мастер — с помощью композиционных средств. Однако в любом случае «прочитать» эту невидимость, невидимые части, у нас нет возможности [Там же, с. 11]. Кроме того, и в древнерусской визуальной демонологии и иконографии преисподней мы также сталкиваемся с апофатизмом в изображении демонических существ, который выражается, например, в редукции демонического тела до одной головы, что отражается на количественной неопределенности изображаемых демонов. Так, на фрагменте, посвященном «прениям» ангелов и бесов у одра умирающей Феодоры, из жития Василия Нового, бесы прячутся за колонной, и мы доподлинно не знаем, сколько их пришло, чтобы забрать душу умирающей. В этом контексте также стоит обратить внимание на то, что здесь пушкинские бесы плачут, визжат, а не хохочут и шумят, как, например, в сцене сна Татьяны из романа «Евгений Онегин», значит, их попирают, прогоняют духи. Но важна реакция героя, сердце которого надрывается, плачет при виде страданий бесов. Это вполне укладывается в святоотеческую традицию «милующего сердца», о великом назначении которого писал преподобный Исаак Сирин в «Словах подвижнических» (Слово 48. О различии добродетелей и о совершенстве всего поприща).
Во-вторых, такая ситуация приоткрытия сакральной реальности, или Иерофании, не возникает повседневно и повсеместно. И в этом случае и стоит обратить внимание на появление месяца при луне, что может указывать на апофатику ситуации, свет вечерний и невечерний, заря вечерняя и утренняя, жизнь (месяц нарождается) и смерть (луна на увядании) сходятся. А.С. Пушкин соединил начало и конец, уместил в одном небольшом тексте большой жизнецикл — от рождения к смерти и снова к рождению, но уже в новом качестве. Это своего рода дантовская вселенная, от низа до верха, путешествие по которой начинается всегда с низа.
Вхождение в иной мир, по законам русской сказки, для которой характерен поиск «иного царства», всегда связано с преодолением препятствий, всегда нас поджидает ситуация на грани «было / не было», а у А.С. Пушкина это изначальная данность: мутное небо, бескрайнее поле, бескрайняя высь, бездна. Превращение месяца в луну не поддается однозначной литературоведческой интерпретации, но культурологически, мифологически А.С. Пушкин здесь предельно точен, соединяя жизнь и смерть, что, собственно, свойственно его зимнедорожному циклу [10].
Интересно то, что в начале некалендарного XX века в своем раннем стихотворении «Я по первому снегу бреду...» 1917 г. С.А. Есенин отозвался на эту пушкинскую ситуацию, и причем не столько обыграл «бесовский» сюжет, как В. Наседкин («Ночная дорога») и Б. Корнилов («Лес»), сколько точно уловил корневую необходимость для русского человека поиска «иного царства», формулы порога: «Я не знаю — то свет или мрак? // В чаще ветер поет иль петух?» [7, с. 125]. У А.С. Пушкина — пень или волк, у С.А. Есенина — ветер или петух. Неживое становится живым, границы между мирами становятся максимально тонкими, размытыми. Эта ситуация оборотная по своей природе, и ее также можно наблюдать на архетипическом уровне в романе «Евгений Онегин». Так, В.И. Пимонов в своей новой работе «Что сталось с Онегиным? Поэтика финала пушкинского романа», посвященной онтологическим вопросам произведения, пишет о скульптурном мифе, суть которого состоит в следующем: происходит символическая инверсия «живого и мертвого» [20, с. 81].
Показателен и выбор времени года: у обоих поэтов представлен зимний путь, что уже само по себе ритуально значимо, поскольку зима, явления снега, ветра связаны с иномиром (особенно продуктивны для изучения в этом отношении записи обмираний, где описывается путешествие души по тому свету, представленному снежным пространством [19, с. 363]). Конечно, у С.А. Есенина зимний путь обогащается дополнительными коннотациями, связанными с явлением первого снега, который в русской поэзии наделен особым символическим смыслом. Так, в лингвокультурологических работах, посвященных этому образу, отмечается по поводу этого стихотворения: поэт воссоздал «картину темной земли, неравномерно покрытой белым снегом» [16, с. 133]. Однако исследователь указывает также и на эстетическое значение образа первого снега и связанное с ним эмоциональное состояние у С.А. Есенина. Но так ли прост этот образ и связан ли он только с пейзажной зарисовкой и эмоциональным настроением? Не является ли он онтологическим, знаком потустороннего? В этой связи интересен и семантически насыщен образ ландыша, неожиданно возникающего на фоне «метельного», зимнего текста:В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил. [7, с. 125]
О лесная, дремучая муть!
О веселье оснеженных нив!
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив. [7, с. 125]
Что предвещает эта муть? Что сулит она герою? Во-первых (что отличает эти стихотворения друг от друга), важно проявление лесостепного топоса, перед нами не только заснеженная пушкинская равнина, где не видно ничего, но и чаща, лес, который также связан, по фольклорным представлениям, с краем, с тем светом. Во-вторых, есенинская муть еще менее физически проявлена, чем пушкинская, мы можем понять этот образ имагинативно, когда будем говорить об аурном взгляде в искусстве. Филолог В.П. Раков в своих работах о поэтике М. Цветаевой пишет об аурном и аретном взгляде в искусстве, которые были известны еще в античности [23].
Аурный взгляд направлен на восприятие картины в целом, в полутонах, в полусвете, с которыми любил работать еще Леонардо да Винчи. Такое восприятие действительности характерно для эстетики и поэтики авторов Серебряного века [6]. Древесная муть — символ-знак апофатики судьбы героя, которую он принимает. Не случайно у С.А. Есенина возникают дендронимы в этом стихотворении, которые вообще играют большую роль в его художественной системе [27, с. 48]. Береза, по законам мирового алфавита деревьев, дерево начала, а ива — иномирное дерево, соединяющее этот мир и тот свет. В трактате «Ключи Марии» поэт пишет: «все от древа», дерево наш ориентир, наша мировая ось, вертикаль в горизонтальном космосе России. Лирический есенинский герой приник к дереву, даже слился с ним, что семиотически выражено в объятиях героя ивы (руки сомкнуть над древесными бедрами ив).
Выводы. Для русской словесной культуры онтологически важен поиск «иного царства», который проявился и в народном искусстве, и в поэтическом авторском слове. Этот поиск обусловлен характером нашего горизонтального космоса, апейронностью русской равнины, которую русскому человеку необходимо принять и преодолеть. Движение, перемещение по такой равнине приравнивается к инициационному пути, который всегда связан со стремлением героя к Мировой оси, такова архитектоника архаической культуры. У А.С. Пушкина эта точка остановки в зимнем поле и есть кульминация, точка перехода, в которой начинается новая судьба в ее апофатичности, непостижимости, в восхождении по вертикали. Необходимо встать и подумать, осмотреться в этой метели, мути, воспринять ее на имагинативном уровне, то есть как высший образец и Абсолют. Пушкинский ямщик оказывается без глаз («вьюга мне слипает очи», «следа не видно»), есенинский герой тоже мир воспринимает аурно («я не знаю — то свет или мрак?»), но его мировая ось воплощена конкретно в модели мирового древа, березы, ивы. Стихотворения «Бесы» и «Я по первому снегу бреду…» обладают мощным культурным потенциалом для изучения особенностей русского национального образа мира, понимания феномена русского поиска «иного царства», который аксиологически и онтологически важен.
Представляется бесспорным сопоставление есенинского текста с пушкинским в свете разговора о трансформации национального мифа бесовства: бесы побеждены, когда они становятся проявленными, видимыми для героев-духовидцев, который начинает им сострадать «сердцем милующим». Такая Иерофания, сакральная реальность открывается в поворотный момент годового цикла — у обоих поэтов это происходит в зимнее время года, что весь показательно с точки зрения национальной топики.
About the authors
Marianna A. Dudareva
Peoples' Friendship University of Russia
Author for correspondence.
Email: marianna.galieva@yandex.ru
PhD in Philology, Doctor of Culturology, Docent of the Department of Russian Language No. 2 of the Institute of the Russian language
Russian Federation, MoscowReferences
- Ar'es, F. Chelovek pered licom smerti (Man in the face of death). — M.: Progress — Progress-Akademija, 1992. — 528 s.
- Braginskaja, N. V., Shmaina-Velikanova, A. I. Svet vechernij i svet nevechernij (Evening light and non-evening light) // Dva venka: Posvjashhenie Ol'ge Sedakovoj. — M.: Russkij fond sodejstvija obrazovaniju i nauke, 2013. — S. 73–92.
- Brjusov, V. Tvorchestvo (Creativity) // Brjusov V. Sobr. soch.: V 7 T. — M.: Hud. lit., 1973. — T. 1. — S. 35.
- Gachev, G. D. Mental'nosti narodov mira (Mentality of the peoples of the world). — M.: Algoritm; Jeksmo, 2008. — 544 s.
- Grehnev, V. A. Boldinskaja lirika A.S. Pushkina (1830 god) (Boldino lyrics by A.S. Pushkin (1830)). — Gor'kij: Volgo-Vjatskoe kn. izd-vo, 1980. — 159 s.
- Dudareva, M. A. Apofatika russkogo jazyka i kul'tury v tvorchestve N.S. Gumileva (na primere stihotvorenija «Zhiraf») (Apophaticism of the Russian language and culture in the work of N.S. Gumilyov (on the example of the poem “Giraffe”)) // Nasledie vekov. — 2020. — № 1. — S. 98–104.
- Esenin, S. A. Sobr. soch. v 7 t. (Collected works in 7 volumes). — M.: Nauka; Golos, 1995. — T. 1. — 672 s.
- Ivanov, Vjach. Vs. Chet i nechet: Asimmetrija mozga i znakovyh system (Even and odd: Asymmetry of the brain and sign systems). — M.: Sov. radio, 1978. — 184 s.
- Il'in, I. Prorocheskoe prizvanie Pushkina (Pushkin's prophetic vocation) // Pushkin v russkoj filosofskoj kritike: konec XIX — pervaja polovina XX v. — M.: Kniga, 1990. — S. 328–355.
- Kozubovskaja, G. P. Pushkinskij zimnedorozhnyj cikl: balladnyj plast (Pushkin’s winter road cycle: ballad layer) // Kul'tura i tekst. — 2017. — № 1 (28). — S. 98–124.
- Kosjakova, V. Chto vyshlo, kogda Pushkin «uvidel» Bosha, a Dostoevskij — Rafajelja? (What happened when Pushkin “saw” Bosch, and Dostoevsky - Raphael?) [Jelektronnyj resurs]. — URL: https://blog-russia.storytel.com/vspomnit-klassiku/chto-vyshlo-kogda-pushkin-uvidel-boskha-a-dostoevskiy-rafaelya (data obrashhenija: 5.08.2022).
- Koshelev, V. A. «Besy razny…» (“Demons are different…”) // Pushkin: istorija i predanie. — SPb.: Akademicheskij proekt, 2000. — S. 195–237.
- Lekmanov, O. Brjusov. «Tvorchestvo» (Bryusov. “Creation”). [Jelektronnyj resurs]. — URL: https://arzamas.academy/courses/22/1 (data obrashhenija: 5.08.2022).
- Medrish, D. N. Luna ili mesjac? (Iz nabljudenij nad pojetikoj A. S. Pushkina) (Moon or month? (From observations on the poetics of A. S. Pushkin)) // Pushkin v XXI veke: sb. v chest' V. S. Nepomnjashhego. — M.: Russkij mir#, 2006. — S. 321–330.
- Mahov, A. E. Diabolus absconditus: nepredskazuemost', neopredelennost' i nevidimost' demonicheskogo tela v ikonografii i tekstah rannego Novogo vremeni (Diabolus absconditus: unpredictability, uncertainty and invisibility of the demonic body in iconography and texts of the early modern period) // In Umbra: Demonologija kak semioticheskaja sistema: Al'manah № 7. — M.: RGGU, 2018. — S. 9–36.
- Morozova, N. S. Obraz pervogo snega v russkoj pojeticheskoj modeli mira (The image of the first snow in the Russian poetic model of the world) // Nauchnyj vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel'nogo universiteta. — 2013. — № 9. — S. 131–136.
- Okeanskij, V. P., Okeanskaja Zh. L. «Mlechnaja doroga» — ot Pushkina k Bal'montu (“The Milky Road” — from Pushkin to Balmont) // Solnechnaja prjazha: nauchno-populjarnyj i literaturno-hudozhestvennyj al'manah. — Shuja: Izd-vo Shujskogo filiala IvGU, 2020. — Vyp. 14. — S. 16–22.
- Okeanskij, V. P. Chelovek i total'nost': pojetika prostranstva i ee krizis (Man and totality: the poetics of space and its crisis). — Ivanovo: ShGPU, 2010. — 358 s.
- Petruhin, V. Ja. Zagrobnyj mir. Mify o zagrobnom mire: mify raznyh narodov (The afterlife. Myths about the afterlife: myths of different peoples). — M.: AST: Astrel', 2010. — 416 s.
- Pimonov, V. I. Chto stalos' s Oneginym? Pojetika finala pushkinskogo romana (What happened to Onegin? Poetics of the fi-nale of Pushkin's novel) // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. Social'nye, gumanitarnye, mediko-biologicheskie nauki. — 2022. — T. 24, № 85. — S. 78–83.
- Pushkin, A. S. Poln. sobr. soch.: v 10 t. (Complete works: in 10 volumes). — L.: Nauka, 1977. — T. 3. — 495 s.
- Pjatkin, S. N. «Koni snova poneslisja…»: o vozmozhnom mifomotive v «Besah» A. S. Pushkina (“The horses raced again... ”: about a possible mythomotive in “Demons” by A. S. Pushkin) // Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. Jaroslava Mudrogo. — 2005. — № 33. — S. 62–69.
- Rakov, V. P. «Neizrechennoe» v strukture stilja M. Cvetaevoj (“Inexpressible” in the structure of the style of M. Tsvetaeva) // Voprosy ontologicheskoj pojetiki. Potaennaja literatura: Issledovanija i materialy. — Ivanovo: Ivanovskij gosudarstvennyj universitet, 1998. — S. 87–101.
- Satretdinova, A. H. Intertekstual'nost' pojezii V. Brjusova: dis. … kand. filol. Nauk (Intertextuality of V. Bryusov's poetry: dis. … cand. philol. Sciences.). — Astrahan', 2004. — 197 s.
- Skorospelova, E. B., Chaglyjan, Sh. K. Semantika i funkcii motiva meteli v romane B. Pasternaka «Doktor Zhivago» (Semantics and functions of the blizzard motif in B. Pasternak’s novel “Doctor Zhivago”) // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. — 2016. — № 4 (58). — V. 3 ch. Ch. 2. — C. 41–44.
- Slavjanskie drevnosti: Jetnolingvisticheskij slovar' (Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary) / pod red. N. I. Tolstogo: v 5 t. — M.: Mezhdunarodnye otnoshenija, 1999. — T. 2. — 688 s.
- Sokolova, M. G. Sopostavitel'naja harakteristika obraznyh polej «topol' — chelovek» i «klen — chelovek» v russkoj pojezii (Comparative characteristics of figurative fields “poplar - man” and “maple - man” in Russian poetry) // Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2020. — T. 42. — № 7. — S. 45–53.
- Terner, V. Simvol i ritual (Symbol and ritual). — M.: Nauka, 1983. — 277 s.
- Tolstaja, S. M. Magicheskie funkcii otricanija v sakral'nyh tekstah (Magic functions of negation in sacred texts) // Obraz mira v tekste i rituale. — M.: Russkij fond sodejstvija obrazovaniju i nauke, 2015. — S. 343–348.
- Jeliade, M. Ocherki sravnitel'nogo religiovedenija (Essays on Comparative Religion). — M.: Ladomir, 1999. — 488 s.
Supplementary files