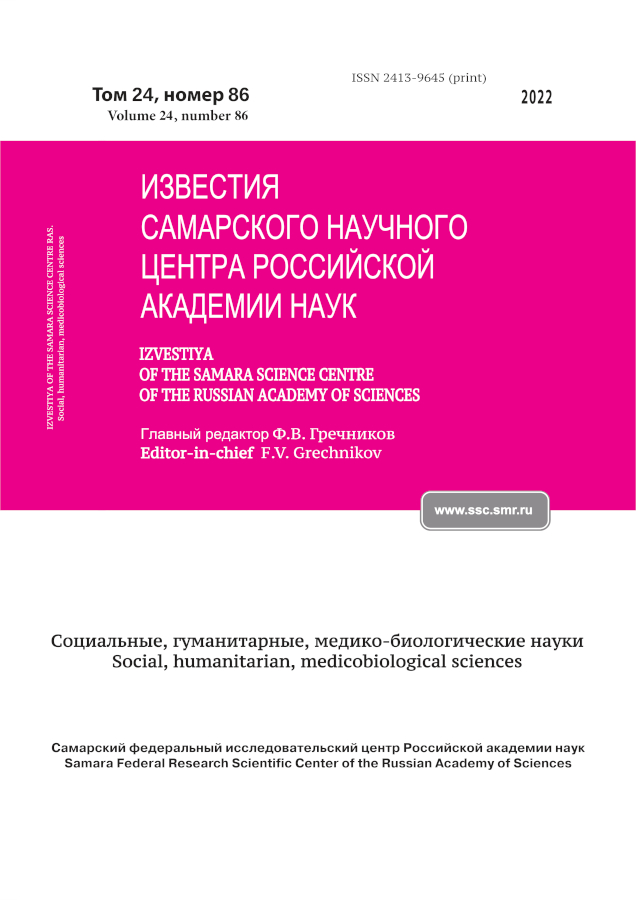Intertextuality in family context: Kramayov’s citing Shiller
- 作者: Khalikov M.M.1
-
隶属关系:
- Samara State Transport University
- 期: 卷 24, 编号 5 (2022)
- 页面: 105-113
- 栏目: HUMANITIES SCIENCES
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/121282
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2022-24-86-105-113
- ID: 121282
如何引用文章
全文:
详细
The article is devoted to the discursive-linguistic analysis of the phenomenon of intertextuality on the example of the functioning of quotation and allusive borrowings from the works of F. Schiller in the artistic space of F.M. Dostoevsky's novel "The Brothers Karamazov". When reading the work, it is easy to find that all four Karamazovs show interest in the work of the classic of German romanticism and sporadically include extracts from his works in their speech parts. On the basis of this empirical observation, a hypothesis is expressed about the non-accidental nature of the appearance of Schiller's intertextualisms in the speech fabric of the titular characters and about the possibility of their individualized functional load in the text of the novel. A consistent analysis of the speech parties of the father and brothers Karamazov showed that the use of artistic and poetic elements borrowed from Schiller's texts in the verbal and communicative practice of family members is characterized by both the general features of their functioning and individually specific features that to a certain extent correspond to their socio-psychological and mental-linguistic type, subjective communicative strategy and pragmatic the intentionality of the speech utterance at this point in the unfolding of the plot. The observations made testify to the deep functional and symbolic harmony of Dostoevsky's artistic and textual substance, which contrasts with the long-noted external stylistic carelessness of his works and determines, in interaction with it, their unique linguistic colour.
全文:
Введение. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» примечателен во многих отношениях. Значительный интерес представляет он, в частности, в аспекте языковой организации своего содержания, т.е. с точки зрения того, какие единицы, формы и структуры языка писатель использует для художественно-текстового воплощения идейно-тематического, философского и сюжетно-событийного содержания своего произведения. Это значимо не только для идентификации и типологической репрезентации авторского идиостиля (выявления техники письма в аспекте ее литературной образцовости) как явления уникального и эстетически-релевантного в художественно-речевой системности данного языка. Художественный текст в той или иной степени обладает свойством автореферентности, т.е. не только изображает по законам эстетики определенные стороны внеязыковой действительности, но и передает значимую информацию об интеллектуальной, мировоззренческой и языковой личности автора. Поэтому описание вербально-субстанциональной основы произведения не следует трактовать только как эпистемологическую задачу определения качественной специфики исследуемого литературного текста, рассматриваемого в своей структурно-смысловой завершенности и функциональной автономии; в этой работе возникает необычный вопрос: об обусловленности художественно-текстовой субстанции произведения явлениями, связанными с событийной и духовной биографией писателя, по существу – вопрос о связи между художественным вымыслом и документальной правдой о жизни и личности автора. В романе Ф.М. Достоевского к числу текстовых феноменов, непосредственным образом отражающих важную сторону мировоззренческой и интеллектуальной личности создателя, можно отнести интертекстуальные включения из произведений Ф. Шиллера, духовную близость с которым писатель не раз отмечал.
В структуре художественного произведения могут быть выделены лингвистические элементы двоякого рода – субстанционально-релевантные, существенно необходимые для реализации художественно-повествовательного замысла автора, формирующие корневую содержательную и стилистическую индивидуальность произведения, и релевантные по случаю, не определяющие художественно-повествовательного своеобразия литературного текста. К явлениям первого рода, ярко и рельефно характеризующим идейно-содержательное своеобразие произведения и художественного мира писателя, в романе «Братья Карамазовы» можно отнести присутствие в тексте большого количества интертекстуальных включений из произведений Ф. Шиллера.
История вопроса. В литературе о Ф.М. Достоевском об этом писали не раз (см., например, работы: [2, 3, 7, 8, 11]), в основном – с позиций теории диалога литературно-художественных процессов, рассматривая это явление с точки зрения его роли и места в организации идейно-художественного ландшафта произведения и социально-психологического портретирования его персонажей. Лингвистические аспекты этого феномена, связанные с формированием языкового функционального пространства текста, предметом специального рассмотрения не стали.
Методы исследования. Для данного исследования был выбран наиболее рельефно выраженный аспект шиллеровской интертекстуальности в последнем и самом значительном произведении великого русского писателя – дискурсивно-стилистические особенности актуализации заимствований текстовых фрагментов и мотивов из произведений классика немецкого романтизма в речевых партиях главных действующих лиц. Существенной композиционно-стилистической особенностью этих включений является, во-первых, то, что к ним прибегают все четыре члена изображаемого семейства, и, во-вторых, все шиллеровские интертекстуализмы актуализованы либо в речевых партиях титульных персонажей, либо в контекстно-референционной связи с ними – в вербальной субстанции других персонажей. Такая функциональная спецификация не может быть случайной: яркие, колоритные, экзотические цитатные и аллюзивные вставки из текстов Ф. Шиллера адаптированы к решению основной задачи художественно-образного изображения действительности – создания психологически достоверного портрета скандального семейства. В связи со сказанным возникает вопрос: нет ли определенной корреляции между ментально-психологическим портретом персонажей, членов семьи Карамазовых, и характером употребления ими интертекстуализмов? Попытка найти ответ на этот вопрос и является предметно-целевой задачей данной публикации.
Результаты исследования. Можно предположить, что для писателя значим не только выбор тех или иных текстовых фрагментов из произведений Ф. Шиллера, т.е. семантико-прагматические и текстообразующие аспекты заимствованных включений, но также их локализация, порядок появления в тексте. Есть определенные элементы интенциональности в хронологии актуализации исследуемых объектов в романе: они появляются сначала – компактно и концентрированно – в речевой партии отца семейства Федора Павловича (и больше они его не интересуют); затем они вводятся в текстовую субстанцию старшего сына Дмитрия и представлены в ней единственным сюжетным эпизодом; уже после этого указанные интертекстуализмы имплементируются в прямую и косвенную речь младших сыновей – Ивана и Алексея. Такое композиционное решение вряд ли можно считать случайным, оно провоцирует мысль о существовании первоначального замысла (возможно – стихийного, неартикулированного, имплицитного): представить всех членов семейства знатоками творчества Ф. Шиллера и раскрыть их индивидуальность через призму гуманистических идеалов великого немца.
Сохраняя указанную выше последовательность, будут обрисованы ниже речевые портреты главных героев романа – с преимущественным вниманием к индивидуальной специфике применения ими интертекстуального материала.
Федор Павлович Карамазов. Как уже отмечалось, шиллеровские текстовые вкрапления впервые появляются в художественном пространстве романа в речевых партиях отца «семейки», Федора Павловича Карамазова; их всего четыре, они локализованы в пределах одного сюжетного события – пребывания семейства в монастыре, у старца Зосимы («Книга вторая. Неуместное собрание») и образуют, если исходить из задачи персонологической конкретизации рассматриваемой здесь группы интертекстуальных феноменов, компактную и композиционно-завершенную дискурсивную целостность. Они разноплановы по лингвистической текстовой субстанциональности, различна и мера очевидности их интертекстуальной природы. Начинается серия с эпизода, в котором Федор Карамазов представляет старших сыновей и себя самого отцу Зосиме; здесь он прибегает к приему пародийно-игровой референции, в театральном жесте отождествляя всех троих с литературными героями: Иван аттестован как Карл Моор, Дмитрий назван Францем Моором («…оба из “Разбойников” Шиллера, а я, я сам в таком случае уж Regierender Graf von Moor [Владетельный граф фон Моор]»). Таким образом, первое появление шиллеровской интертекстуальной художественно-текстовой субстанции в романе маркировано в предельно эксплицитной форме. Этот же прием иронически-игровой многосмысловой прагматики реализован повторно при описании сцены отъезда из монастыря; Федор Карамазов, прощаясь с сыном Иваном, говорит ему:
«– А Алешку-то я все-таки из монастыря возьму, несмотря на то, что вам это очень неприятно будет, почтительнейший Карл фон Моор.
Иван Федорович презрительно вскинул плечами…».
Иной характер эксплицитности интертекстуального повествовательного элемента в речевой субстанции старшего Карамазова находим в сцене скандальной размолвки между ним и сыном Дмитрием, когда отец в театрально-пафосной манере говорит о невозможности, ввиду родственных связей, дуэли «на пистолетах, на расстоянии трех шагов…через платок». Здесь текстуально близко воспроизводятся сюжетные мотивы драмы Шиллера «Коварство и любовь», но отличие этого примера – в отсутствии метатекстовых индикаторов интертекстуальности (ср. в первом примере – название пьесы, фамилия автора, немецкий текст). Идентифицировать этот повествовательный ход как прием заимствования может только читатель, внимательно читавший Ф. Шиллера.
Ф. Шиллер существенным образом повлиял на формирование интеллектуальной, нравственной и творческой личности Достоевского, немецкий классик дорог ему – и как личность, и как творец. Вот примечательный фрагмент из его письма к брату Михаилу: «…Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им ˂…˃ имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний» [4, с. 69]. В сложной семиотике текстов Ф.М. Достоевского знаки актуализации этой духовной близости появляются с определенной регулярностью, поразительно многочисленны и способы художественно-смысловой адаптации текстовой субстанции Ф. Шиллера в его произведениях. Вполне определенно можно утверждать, что писатель целенаправленно экспериментирует в области заимствования художественно-речевых форм, которые в новых контекстных условиях получают нехарактерные оригиналу коннотации. Примечателен в этом отношении интертекстуальный фрагмент, взятый из речевой партии Федора Карамазова, в которой он обвиняет старцев в ханжестве и лжи: «… Знаем мы эти поклоны! “Поцелуй в губы и кинжал в сердце”, как в “Разбойниках” Шиллера». У Ф. Шиллера эти слова произносит благородный Карл Моор, в устах распущенного и циничного старика Карамазова они звучат как антитеза высокой прагматике оригинального текста.
Интертекстуальный дискурс отца «семейки» пронизан антитезными креативными мотивами, интенциями транспонирования содержания оригинальных текстов в область противоположных смыслов. Начнем с того, что обращение этого персонажа к творчеству Ф. Шиллера само по себе можно трактовать как прием парадоксального и комически-разоблачительного сближения противоположностей (оксюморон). В этом же ключе можно трактовать и ложное отождествление им сыновей с персонажами «Разбойников»; старик полагает, что Иван – это благородный и честный Карл Моор, а Дмитрий – коварный и склонный к предательству Франц. В действительности же дело обстоит наоборот: предателем оказался Иван. Та же игра противоположностями имеет место в немаркированном интертекстуализме из «Коварства и любви»: старик идентифицирует себя как молодого и благородного Фердинанда, а пышущему здоровьем и экспансивному сыну Дмитрию отводит роль немощного и боязливого гофмаршала.
Таким образом, в качестве характерной особенности актуализации интертекстуализмов из произведений Шиллера в речевой субстанции Федора Карамазова можно отметить интенцию их преувеличенно-театрализованного применения (в аспекте создания интонационно-прагматической атмосферы гротесково-фантасмагорического повествования) и установку на поляризацию семантики, экспериментально-игровое, иронически и комически окрашенное, антонимическое преобразование заимствованных художественно-речевых фрагментов. Примечательной отличительной чертой шиллеровских вкраплений в речь этого персонажа является и то, что они выступают как средства саморазоблачения, вовлечены в интенсивно разрабатываемый художественными методами дискурс нравственных оценок.
Дмитрий Карамазов. Символично, что Дмитрий Карамазов вдохновляется поэтическими шедеврами Шиллера в переломный момент своей жизни («Теперь мир на новую улицу вышел»), когда он, в отчаянном презрении к своему прошлому, размышляет о возможности через любовь возродиться в человекоподобии. Существенный для раскрытия образа персонажа и этической философии самого писателя смысл интертекстуальности в этом случае акцентирован в архитектонике и семантической структуре текста: герой анонсирует важность предстоящего разговора («Я бы хотел начать…мою исповедь…гимном к радости Шиллера»); в сюжетной линии Дмитрия данное интертекстуально маркированное коммуникативное событие является единственным (больше он к творчеству Ф. Шиллера не обращается); уникальна и его культурологическая масштабность (такой концентрации интертекстуальности нет ни в одном другом месте романа: в одной сюжетной точке сходятся цитаты и мотивы из Евангелия, произведений А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, А.Н. Майкова, А.А. Фета, И.-В. Гете и Ф. Шиллера, а по существу – и переводчиков немецкой поэзии, величайших поэтов Жуковского и Тютчева); фигура и творчество Ф. Шиллера выделены особым образом среди выдающихся имен (только он представлен в анализируемом фрагменте эксплицитно, в прямом фамильном именовании; ср. метатекстовую реплику героя по поводу воспроизведенной им же строчки из Гете: «Чей это стих?»; только тексты Ф. Шиллера цитируются в таком репрезентативном количестве). Чрезвычайно важно и то, что массированно цитируются идеологически-нагруженные произведения немецкого классика: стихотворение «Элевзинский праздник», в котором провозглашается вера в возможность гармонично обустроенного мира и гуманистического прогресса человечества, и гимна «К радости», насыщенного жизнеутверждающим оптимистическим смыслом. Здесь формируется резонансный концептуально-смысловой узел произведения – со множеством импликаций, имеющих значение для развития корневой идеологии романа, в частности – для развертывания дискурса о феноменологии зла – важнейшего конструктивного элемента философии Достоевского. Цитируемые тексты по нравственной, понятийной и коннотативно-символической интонированности как будто находятся в кричащем противоречии с образом персонажа (сладострастным «насекомым», как он себя аттестует, используя термин Шиллера), но они созвучны его глубинной человеческой сущности, им же порушенному миру своих идеалов. Весьма показательно, что, согласно подготовительным записям к роману, Достоевский планировал включить в выступление Дмитрия на суде фразу: «Я Шиллера любитель, я идеалист. Кто решил, что я пакостник, – тот меня еще не знает» [5, c. 297].
Обширные поэтические цитаты из произведений Шиллера служат, с одной стороны, необходимым семантическим и идеологическим фоном для нюансировки драматически-противоречивого образа персонажа, а с другой – в своем полифоническом звучании они реализуют авторефлексивную функцию повествования, раскрывают важнейший аспект личности писателя – его увлеченность философией и творчеством Ф. Шиллера. (Мотивы гимна «К радости» рекуррентны в произведениях писателя.) В текстовой материи романа слились три голоса – Ф. Шиллера, Ф.М. Достоевского и Дмитрия Карамазова.
В аспекте лингвистической рецепции интертекстуальной словесно-текстовой субстанции анализируемого фрагмента следует отметить, что цитируемый здесь материал не претерпевает каких-либо изменений по сравнению с оригиналом: не появляются новые смысловые и стилистические акценты на словесном уровне; не создаются особые контекстные условия для формирования иных, генерируемых автором повествования, возможностей трактовки поэтических образов. Дмитрий демонстрирует почти научный подход к выстраиванию своего дискурса: точное цитирование, обрамленное смысловыми комментариями и нравственно-мировоззренческими рефлексиями персонажа. Возможно, это не случайный элемент повествования – академически-стилизованная чистота и аккуратность обращения персонажа с оригиналом, проведенная им четкая метаязыковая граница между своим и заимствованным текстом характеризуют его как человека прямолинейного, не склонного к ухищрениям.
Суммируя сказанное, можно выделить в качестве существенных особенностей функционирования интертекстуализмов из Ф. Шиллера в речевой субстанции Дмитрия Карамазова их значимую роль для обрисовки психологического портрета персонажа, их созвучность нравственным и гуманистическим идеалам самого писателя, а также сохранение их аутентичной семантико-стилистической нагруженности в тексте романа.
Можно отметить в качестве частной особенности и то, что Дмитрий – единственный из Карамазовых, о котором эксплицитно известно, что он оперирует исследуемым здесь интертектуальным материалом в русском переводе («…я по-немецки не знаю»).
Иван Карамазов. В речевой субстанции Ивана Карамазова интертекстуализмы из произведений Шиллера представлены в разнообразии коммуникативно-смысловых реализаций и форм взаимодействия с авторским повествовательным контекстом. Надо сразу отметить, что они количественно доминируют над аналогичными вкраплениями в вербальных партиях каждого из остальных членов семейства.
Первый по времени появления шиллеровский интертекстуализм в устах Ивана воспринимается как значимый характерологический штрих к его портрету; в сцене прощания с Катериной Ивановной он воспроизводит по-немецки строчку из баллады «Перчатка»: Den Dank, Dame, begehr ich nicht [«Благодарности, сударыня, я не требую»], произнесенную рыцарем де Лоржем в момент возвращения им перчатки, брошенной Кунигундой на арену с тиграми и львами, чтобы испытать его чувства к ней. Примечательно, что это единственный в романе пример синтаксически полновесного цитирования Ф. Шиллера на языке оригинала. Но пример интересен прежде всего происшедшей в нем существенной транформацией семантико-прагматической контекстуальности. Важный сигнал содержится в речи от автора, сопровождающей словесно-цитатный жест героя: «Прибавил он с искривленною улыбкой…». Эпитет искривленный метонимически определяет направление семантической интерпретации речевого сигнала: этому верить нельзя, это игра уязвленного самолюбия, знак растерянности. Указанный эпитет точно отражает контекстную ситуацию параллелизма по контрасту между текстом оригинала и его цитатным воспроизведением: де Лорж реально рисковал жизнью, у Ивана – банальная бытовая коллизия; твердость и безусловная необратимость поступка рыцаря противостоит лукаво-двусмысленной позиции Карамазова (ср. его же слова здесь «Потом прощу, а теперь не надо руки»). Семантические и модально-оценочные импликации очевидны: попытка рыцарской самоидентификации Ивана пародийна, театрально-артикулирована, комична. Как видим, в цитируемой строке произошли серьезные изменения в денотативном содержании (референция события) и коннотативной семантике (оценочное восприятие читателем).
И в дальнейших эпизодах употребления цитатного материала из произведений Ф. Шиллера проявляется амбивалентная антропологическая сущность этого персонажа. Касаясь, в разговоре с Алексеем, вопроса о его отношении к богу, Иван прибегает к приему интертекстуального развертывания дискурса, отвечая в словесно-текстовой манере Франца Моора, но в отличие от последнего, заявившего вполне категорично «Нет бога», он избегает такой откровенности: «…Ну представь же себе, может быть, и я принимаю бога, – засмеялся Иван, – для тебя это неожиданно, а?». Здесь вполне тривиальный глагол засмеялся выступает как важнейший фактор, определяющий семантическую субстанцию высказывания и модус его оценочной рецепции – в значительном дистанцировании от прототекста. Пластичность позиции персонажа акцентирована и вводной конструкцией может быть.
Следующее, по сюжету, включение шиллеровского интертекстуализма в речевой дискурс Ивана представляет собой этимологически неэскплицированную аллюзию на стихотворение «Резиньяция»: «…Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это я и делаю. Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю». Нарратив о возвращения билета в романе отличается от прототекста иным составом элементов референтной ситуации (в последнем – обращение души усопшего к вечности, вместо билета –Vollmachtbief zum Glücke «письмо, гарантирующее счастье») и дискурсивной модальностью (у Ф. Шиллера – прямая речь), но самым важным в аспекте прагматики речи отличием является существенно более низкая контекстно-семантическая подготовленность упоминания самого возвращаемого предмета в романе, что, по-видимому, можно трактовать как элемент общей повествовательной стратегии – придания образу персонажа ореола таинственности. Текстовые феномены подобного рода обладают свойством реинтерпретируемости [6, c. 217], предполагают возможность постоянного открытия новых смыслов и горизонтов прочтения, доступность и полнота которых в значительной степени определяются интертекстуальным тезаурусом личности [9, c. 186], подготовленностью читателя к восприятию сложноорганизованных типов информации.
В этом же семантическом ключе, с интенцией создания атмосферы интеррогативности (Что это – откуда и о чем?) выступает цитата из Ф. Шиллера, включенная в сюжет о великом инквизиторе (текст в тексте; сочинение Ивана Карамазова, навеянное образом Grossinquisitor из драмы «Дон Карлос»); ср.: «…ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залоги с небес человеку:
Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес.
И только одна лишь вера в сказанное сердцем!».
Процитированный отрывок из стихотворения «Желание» (в переводе В.А. Жуковского) появляется без ссылки на его источник, причем повествовательный контекст организован таким образом, что в его структуре в принципе нет такой возможности. Примечательным моментом является также вариативное удвоение приема интертекстуальности – сначала в повествовательном тексте от автора, затем в виде цитаты.
Важным композиционно-стилистическим приемом усложнения идейно-семантического ореола образа Ивана Карамазова и акцентирования демонически-мистической его сущности в романе является эпизод, когда он, после свершившегося убийства отца, впадает в состояние болезненного ментального кризиса, фигуративно раздваивается и появляется в собственных видениях в виде черта и ведет с ним дискуссию. Примечательно, что в речевой партии двойника Ивана также появляются интертекстуальные включения из Шиллера: два раза упоминается дискурсивная формула «великое и прекрасное» из трагедии «Разбойники», выражающая идеалы романтизма, довольно популярная в просвещенных кругах России того времени и рекуррентно встречающаяся в текстах Достоевского.
Таким образом, наиболее заметной индивидуально-стилевой особенностью включения интертекстуализмов из Ф. Шиллера в речевую ткань Ивана Карамазова является интенция создания эффекта семантического рассеяния его образа, сгущения дискурса зловещей деструктивной неопределенности, в эпицентре которого находится эта фигура.
Алексей Карамазов. Есть очевидное противоречие между декларированной в предисловии к роману первостепенной ролью Алексея как идеального героя и центрального персонажа эпического повествования и относительно скромным, минимальным по сравнению с остальными домочадцами, удельным весом его речевых партий – он мало говорит, много слушает. В редуцированной речевой активности героя вполне органично проявляются важнейшие его личностные характеристики – свойственная истинно верующему человеку рефлексивность, сосредоточенность на проблематике нравственного и духовного облика человека, нерасположенность к самоактуализации. Сказанное в полной мере относится и к особенностям употребления исследуемого здесь материала для дискурсивно-речевого представления персонажа. Оно предельно ограничено; в прямой речи Алексея текстуально точного цитирования произведений Ф. Шиллера нет, а в виде трансформированной цитаты – не маркированной ни графически, ни указанием на источник – шиллеровский текст в его речевой партии впервые появляется в насыщенной драматизмом реплике, обращенной к брату Дмитрию: «…не убивай себя отчаянием, не убивай!». Это дискурсивная интертексуальная цитата – из трагедии «Разбойники», где старый граф Моор просит Франца быть сдержанным в письме к брату: «…не доводи его до отчаяния!» Идентификация интертекстуализма в данном случае – явление вероятностного характера, целиком зависящее от того, знаком читатель с творчеством немецкого классика или нет. Усиление семантики не доводи → не убивай путем лексической замены можно объяснить требованиями синтаксиса, вытекающими из различий в предметно-референтных ситуациях, или же свойственной творчеству Ф.М. Достоевского установкой на максимализацию эмоциональной действенности речи. Примечательно, что здесь транспозиция вербально-эмоционального жеста из одного произведения в другое выступает как часть сложного художественно-повествовательного приема: параллелизм словесных форм актуализован на фоне совпадения других существенных аспектов содержания произведений немецкого и русского классиков – персонологического (Дмитрий Карамазов – Карл Моор), диспозиционного (трагический разлад между отцом и сыном) и сюжетно-событийного (герои в момент сильнейшего психологического кризиса).
В прямой речи Алексея шиллеровский интертекстуализм появляется еще один раз – в беседе с братом Иваном: «…Ведь ты вчера у отца провозгласил, что нет бога, – пытливо поглядел на брата Алеша». Мотив богоотрицания, выраженный в короткой фразе «Нет бога», также заимствован из «Разбойников; по существу, здесь воспроизводятся из прототекста все значимые детали повествования: тип коммуникации – диалог, субъекты дискурса Франц Моор (протагонист Ивана Карамазова) и его собеседник пастор Мозер (Алеша верующий). Пример полифонии: Одна и та же реплика актуализована в трех исполнениях: Франц Моор, Иван Карамазов, Алексей Карамазов.
Как уже отмечалось, цитатно-интертекстуальный статус включений из произведений Ф. Шиллера в двух проанализированных примерах ни вербально, ни текстотехнически не обозначен. Их природа понятна только для знатоков творчества гения немецкого романтизма, искренне и страстно почитаемого Ф.М. Достоевским. В этом плане Алексей оказывается единственным из Карамазовых, кто никаким образом в своей речи не указывает на цитатный характер высказывания. Между тем, для писателя важно включение всего семейства в художественный и мировоззренческий дискурс Шиллера, значимо для него и соответствующее восприятие читателем романа, прежде всего – при трактовке образов главных действующих лиц. Чтобы сделать эксплицитной релевантность шиллеровский сюжетов, мотивов и персонажей для интеллектуальной и коммуникативной личности Алексея, писатель прибегает к приемам косвенной индикации. Всего их два, и связаны они с интерпретацией упомянутого выше эпизода прощания Ивана Карамазова с Катериной Ивановной. Во фразе «…что и он может читать Шиллера до заучивания наизусть, чему прежде не поверил бы Алеша» синкретично выступают два голоса – автора (повествователя) и персонажа (Алексея); такая формулировка не была бы возможна, если бы Алексей не был основательно знаком с текстами Ф. Шиллера. Второй раз подобная актуализация происходит в речевой партии госпожи Хохлаковой; характеризуя поступок Ивана и его самого, она говорит Алексею: «…И этот стишок немецкий сказал, ну точно как вы!» Отметим в качестве дополнительного штриха, что в обоих примерах заметна ироничность, которая составляет «в интертекстуальности очень важную категорию» [1, c. 367].
Характерными приметами актуализации шиллеровских интертекстуализмов в речевом дискурсе и контексте художественно-образного представления Алексея Карамазова можно считать их дескриптивно-иконический характер, неотягощенность эксцентрикой и коннотативными приращениями, лаконичность и сдержанность.
Выводы. Подводя итог проведенного анализа, нельзя не подчеркнуть, что роман «Братья Карамазовы» интертекстуален в целом, как монументальный литературно-художественный проект. В его концепции, идеологии и вербальной субстанции явственно обнаруживаются знаковые параллели с трагедией Ф. Шиллера «Разбойники»: брутальная семейная коллизия, тема отцеубийства, проблематизация феномена зла.
Интертекстуальность в романе выступает как комплексный автореферентный знак, сигнализирующий об особом, идеологически-релевантном отношении Ф.М. Достоевского к личности и творчеству великого немецкого романтика. Рекуррентность любого текстового феномена свидетельствует о его личностно-смысловой или идеостилевой значимости, поэтому пронизывающие весь повествовательный корпус романа текстовые включения из произведений Шиллера характеризуют самого писателя как носителя и творца определенных духовно-мировоззренческих ценностей.
К этой общесимптоматической примете, определяющей характер использования шиллеровских цитат и мотивов в романе, следует добавить еще две. Первая связана с таким значимым для творчества писателя явлением, как диалог автора с читателем. Не все интертекстуальные включения снабжены вербальными индикаторами, эксплицирующими источник их происхождения; и не все читатели готовы к их идентификации в качестве литературного заимствования. Автор по существу ставит перед читателем особую когнитивную задачу, вступает с ним в диалог, опосредованный сюжетно-событийным развертыванием текста. Модальность этого диалога определяется провокативной интенцией («узнаешь – не узнаешь»), установкой на коммуникативную игру с читателем, предметно-ориентированной не только на определение источника литературной цитаты или аллюзии, но и на отслеживание того, как в новых условиях контекста трансформируется семантика и прагматика интертекстуальной вставки, приобретая несвойственные оригиналу референтно-смысловые и коннотативно-экспрессивные окраски.
И, наконец, в качестве общей характеристики всех заимствованных из произведений Ф. Шиллера элементов повествования в романе «Братья Карамазовы» необходимо отметить, что они функционально не связаны с субстанциональным содержанием текста, не определяют его сюжетно-событийную динамику; они, главным образом, используются в характерологической функции, для акцентирования тех или иных сторон личности героев.
На фоне указанных общих особенностей актуализации исследуемого материала в речевой субстанции титульных персонажей романа обнаружена также индивидуально-речевая специфичность его применения ими, в существенной степени коррелирующая с социально-психологическим типом личности каждого из Карамазовых и набором коммуникативных интенций, которыми определяется развертывание художественного повествования ими в конкретной точке движения сюжетного повествования.
Художественно-образная обусловленность лингвистического качества и функции интертекстуальных включений в речи персонажей позволяет говорить об их детерминированности глубинным творческим замыслом и интенциональной установкой писателя.
Интертекстуализм, знаково-диалогически актуализованный в интеллектуальном (творческом) пространстве межкультурной коммуникации, выступает как полифонически структурированный, семиотически усложненный элемент сообщения, который в повышенной степени «обостряет момент игры в тексте» [10, c. 66], стимулирует «удовольствие активного чтения» [1, c. 439].
作者简介
Magomed Khalikov
Samara State Transport University
编辑信件的主要联系方式.
Email: magomed_samara@mail.ru
Doctor of Philological Sc., Professor, Head of Department of Linguistics
俄罗斯联邦, Samara参考
- Arnold, I. V. Semantika. Stilistika. Intertetexual’nost’ (Semantics. Stylistics. Intertextuality). – М.: Knizhniy dom LIBROKOM, 2010. – 448 s.
- Vilmont, N. N. Dostoevskiy i Schiller (Dostoevskiy and Shiller). – М.: Sov. Pis., 1984. – 284 s.
- Gerik, H.-J. Dostoevskiy i Schiller. Predvaritelniy opyt poetologicheskogo sravneniya (Dostoevskiy and Shiller. A Preliminary Experience of Poetical Comparison) // Dostoevsky. Materials and research. – №19. – 2020. – P. 5-15.
- Dostoevskiy, F. M. Polnoye sobraniye sochineniy v 30 tomakh (Complete works in 30 volumes). V. 28. – L.: Nauka, 1990. – 554 s.
- Dostoevsky. Materialy I issledovaniya (Materials and research). – L., 1935. – 604 s.
- Karaulov, Y. N. Russkiy yazyk I Yazykovaya lichnost (Russian language and linguistic personality). – М.: Nauka, 1987. –264 s.
- Kasatkina, T. A. Schiller u Dostoyevskogo: Elevsinskiye mysterii v “Bratyakh Karamazovykh” (Shiller in Dostoyevskiy: The Eleusinian Mysteries in The Brothers Karamazov) // Dostoevskiy i mirovaya kultura (Dostoevskiy and world culture) // Philological Journal. – 2019. – № 4(8). – P. 68-89
- Krinizyn, A. B. Dostoevskiy i Schiller (Dostoevskiy and Shiller). Part 4. Shiller’s motives and ideas in “The Brathers Karamazov”; “Robbers”. – URL: https://www.portal-slovo.ru/ philology/46077.php#_ednref12 (Reference date: 20.06.2022).
- Kuzmina, N. A. Intertext: tema s variatsiyami. Phenomeny yazyka I kultury v intertextual’noy inbterpretatsii (Intertext: theme with variations. Phenomena of language and culture in intertextual interpretation). – М.: Knizhniy dom LIBRO-COM, 2011. – 272 s.
- Lotman, Y. M. Semiosfera (The Semiosphere). – SPb.: Iskusstvo, 2004. – 704 s.
- Reizov, B. G. Bor’ba literaturnykh traditsiy v “Bratyakh Karamazovykh” (The Struggle of Literary Traditions in The Brothers Karamazov)/B.G.Reizov. Iz istorii evropeyskikh literature (From the history of European literatures). – L.: Leningradskiy universitet. 1970. – P. 139-158.
补充文件