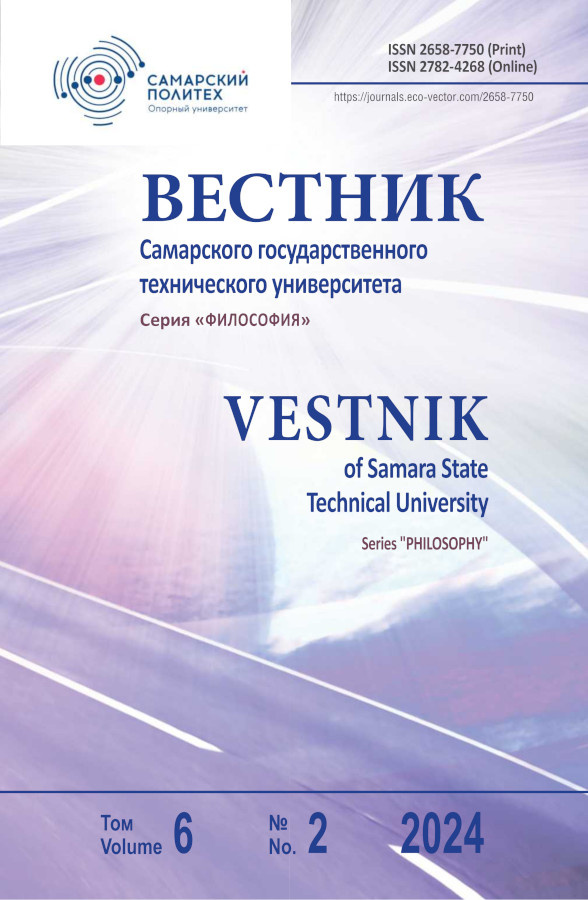Methodological field of the history of daily occurrence as a basis for studying the Cossack everyday
- Authors: Godovova E.V.1
-
Affiliations:
- Orenburg State Pedagogical University
- Issue: Vol 6, No 2 (2024)
- Pages: 36-43
- Section: ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/693074
- ID: 693074
Cite item
Full Text
Abstract
The article presents the author’s reflection on the possibility of using the methodological field of the history of everyday life in the study of the phenomenon of the Cossacks. The study of this issue made it possible to offer the author’s interpretation of the term “everyday life”, to determine the facets of the study of the everyday life of the Cossacks.
Full Text
В своих работах, посвященных исследованию казачества, В.В. Глущенко определяет его как «казачий феномен» и доказывает правомочность использования такого термина.
Во-первых, казачество сложилось как своеобразная социальная организация, имеющая определённые черты: оригинальный вариант общины с элементами казачьей демократии; военизированный характер этой общины с соответствующей иерархией служилых людей; одновременно – отсутствие общероссийской социальной структуры, однородность, целостность казачьего сообщества.
Во-вторых, экономика казачества отличалась своеобразием хозяйственного уклада, экономических условий жизни в виде определённых привилегий, налоговых льгот, наличием значительных земельных ресурсов (войсковые земли), позволяющих, с одной стороны, иметь значительно большие, чем в России, участки, а с другой – получать доход от сдачи земли в аренду.
В-третьих, казаки имели оригинальные духовные и культурные традиции [1, с. 13].
Исходя из того, что казачество является сложной этносоциальной системой, формировавшейся в течение нескольких веков и вобравшей в себя многообразные этнические, социально-экономические, культурно-исторические, политические элементы [2], при его изучении можно использовать не только традиционные методологические основы, но и новые подходы, позволяющие выявить социальные особенности повседневной жизни казачьих регионов.
«История повседневности» (everyday life history, Alltagsgeschichte, histoire de la vie quotidienne) – отрасль исторического знания, предметом изучения которой является сфера человеческой обыденности во множественных историко-культурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных контекстах [3, с. 7]. Н.Л. Пушкарёва к категории повседневности относит: событийную область публичной повседневной жизни, прежде всего мелкие частные события, пути приспособления людей к событиям внешнего мира; обстоятельства частной, личной жизни, быт в самом широком смысле; эмоциональную сторону событий и явлений, переживание обыденных фактов и бытовых обстоятельств отдельными людьми и группами людей [4].
По мнению С.В. Любичанковского и В.А. Любичанковского, на субъект повседневности (в данном случае это казачество – Е.Г.) влияют «условия его протекания», т. е. всё то, что влияет на повседневность субъекта, разрушает или ускоряет его устойчивость [5, с. 31].
К.Н. Любутин и П.Н. Кондрашов отмечают, что, проводя анализ повседневности, необходимо базироваться на предложенном ими сущностном понимании повседневности как формы непосредственной человеческой деятельности, которая осуществляется в конкретной фактичности событийных ситуаций и представляет собой совокупность повседневного бытия (то есть того, чем занимаются люди в своей обыденности в целях удовлетворения обычных потребностей) и обыденного сознания (то есть того, в виде каких мыслей и эмоциональных переживаний это бытие отражается в психической деятельности людей) [6, с. 260].
Итак, с одной стороны, повседневность – это пространство, на котором протекает человеческая жизнь, обогащенная опытом предков, где события частного бытия соприкасаются с историческим процессом, взаимопроникают и отражаются в восприятии их самим человеком [7]. С другой стороны, повседневность – это сфера человеческой обыденности, реальность, в которую погружен человек с рождения; реальность, которая ощущается как естественное состояние, как собственная, частная сфера жизни, наполненная будничными событиями [8, с. 12–13]. Согласимся с М.М. Кромом, отмечающим, что повседневность представляется субъективной реальностью, которая для самих людей кажется чем-то само собой разумеющимся и образует целостный жизненный мир [9, с. 173].
Осмысление повседневных практик поведения человека в разных сферах его жизнедеятельности, анализ стратегий его выживания в постоянно трансформирующемся мире способствуют прояснению самого механизма существования общества, глубинных структур и социальных сетей его поддержания. Именно в пространстве повседневной жизни происходит усвоение и переработка либо неприятие нормативных практик, продуцируемых властью, вырабатываются механизмы взаимодействия или противостояния власти и общества [10, с. 6].
Важную роль при изучении повседневной жизни казачества играет категория времени, являющаяся внутренним стержнем этой жизни, включающая значимые для данного человека события. Категория времени в исторической картине казачьего мира строится по двум основным моделям – мифологической и исторической, организуя события в постоянно повторяющийся и причинно-следственный ряды. Огромную роль здесь играют эмпирические представления, семейное и сакральное время, а также темпоральные представления, складывавшиеся под влиянием устной и письменной исторической традиции [11, с. 45].
Пограничное расположение казачьих территорий и сложившийся на них социально-экономический уклад позволяют нам определить зоны казачьего расселения как пограничную, колонизируемую территорию с подвижными границами и полиэтническим составом населения, т. е. фронтир [12, с. 12]. Концепция фронтира была сформулирована в начале 1890-х гг. американским исследователем Фр. Дж. Торнером [13]. По его мнению, «границе» было присуще единство жизненного стиля, отличавшего фронтирный жизненный уклад от жизни в старых поселениях. Характерным признаком «фронтирных» территорий, по мнению И.В. Побережникова, является их заметная милитаризация, проявлявшаяся в размещении фортификационных сооружений, регулярных воинских частей, поселенных иррегулярных формирований (Донское, Кубанское, Терское, Астраханское казачество на юге европейской России, Яицкое (Уральское), Оренбургское казачество, Башкиро-мещерякское войско на Урале; Сибирская, Семиреченская, Забайкальская, Амурская, Уссурийская казачьи войсковые организации – в Сибири и на Дальнем Востоке), установлении особых военизированных форм администрации (военный губернатор, генерал-губернатор, наместник) [14, с. 7]. Казаковед Д.В. Сень считает, что «казачьи фронтиры» были не только «контактными зонами», но и относились к числу «горячих точек» евроазиатских границ, сложных пограничных зон [15, с. 49].
Государство номинально сделало казаков собственниками войсковых территорий, а само казачество представляло собой хорошо организованную военную силу, отдаленную от центра, находящуюся в иноэтничном окружении [16]. На казачьих территориях формируется фронтирная повседневность, т. е. определённый социально-экономический уклад, к которому приспосабливались казаки, система психологического восприятия действительности. Во второй половине ХIХ – начале ХХ века наблюдаются изменения в повседневной жизни казаков под воздействием модернизационных процессов. Причём для России в целом и для казачьих регионов в частности была характерна фронтирная модернизация, т. е. модернизация в условиях незавершенного освоения. Во второй половине ХIХ века продолжается присоединение новых территорий: Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Дальнего Востока. Для охраны и развития новых земель здесь размещают казаков. Так правительство создаёт Семиреченское (1852 г.), Амурское (1858 г.) и Уссурийское (1865 г.) казачьи войска. Колонизация тормозила переход от экстенсивных методов освоения пространства к интенсивным, закрепляла низкотехнологичные уклады в центре страны, транслировала их на периферию, ослабляя, таким образом, целый ряд модернизационных по своей природе процессов, таких как урбанизация, индустриализация и т. д. [14, с. 5].
Переселение казаков в другие регионы с целью освоения новых земель способствовало распространению казачьих обычаев и традиций на новых территориях, тем самым формируя казачью идентичность. Именно поэтому, несмотря на отдаленность друг от друга казачьих территорий, различные годы возникновения казачьих войск и особенности их формирования («снизу» стихийно или «сверху» правительством), мы наблюдаем схожесть повседневной жизни и объединяем всех казаков термином «казачество». В.Г. Короленко отмечает: «Казак – человек особенный. Нет других таких… У него и речь, и поведение, и даже выходка другая, отличная от прочих. Да, казачий строй выработал свой особенный человеческий тип» [17, с. 130].
Характеризуя пространство повседневной жизни казаков, следует отметить, что казаки, являясь военным сословием, выполняли важную функцию – несение военной службы. Естественно, походная жизнь отличалась от жизни дома. Опасность столкновений в сочетании с экстремальностью повседневного военно-полевого быта образуют военно-походную повседневность. Причём для казаков как представителей военного сословия характерен особый тип личности с психологией комбатанта (с фр. «воин, борец, сражающийся»). По определению Е.С. Сенявской, психология комбатанта – это психология человека на войне, вооруженного человека, принимающего непосредственное участие в боевых действиях. Формируясь и наиболее ярко проявляясь в ходе войны, эта психология продолжает своё существование и после её окончания, накладывая характерный отпечаток на жизнь общества в целом [18, с. 10]. Казак-воин обладал «боевыми» качествами: храбростью, отвагой, умением приспосабливаться к различным климатическим условиям, был воспитан на понятиях долга, чести и с верой в Бога. Казак был одновременно и колонизатором окраин государства, и охранником границ последнего, и защитником русской национальной самобытности, и борцом за православие, и творцом оригинальных форм народного быта [19, с. 44]. Воинское начало и идеи служения Родине оказали большое влияние на формирование казачьего менталитета.
Понятие «менталитет» выступает как некая интегральная характеристика людей, живущих в конкретной культуре, которая позволяет описать своеобразное видение этими людьми окружающего мира и объяснить специфику их реагирования на него [20, с. 47]. По определению Л.Н. Пушкарёва и Н.Л. Пушкарёвой, менталитет (ментальность) (от лат. mens, mentis – ум, мышление, рассудительность, образ мыслей, душевный склад) – совокупность социально-психологических установок, автоматизмов и привычек сознания, формирующих способы видения мира и представления людей, принадлежащих к той или иной социально-культурной общности [21].
Исторический подход представляет структуру менталитета как сочетание «картины мира», «стиля мышления» и «кодекса поведения», поле пересечения которых определяется как «парадигма сознания» [20, с. 46]. Исследователь кубанского казачества О.В. Матвеев отмечает, что мировоззрение, психологию и поведение казака определяли воинский мир и представления о героическом прошлом. На жизненный уклад, традиции, систему ценностей и идеологию казачества ярко выраженное влияние оказала военная деятельность. Благодаря этому из поколения в поколение и воспроизводился тот специфический военный дух, который закреплялся в сакральных ценностных нормах, атрибутах, символах, воплощался в исторических представлениях казачества [22, с. 8] и в самоидентификации казака – сознательном отождествлении себя с какой-либо социальной группой [23, с. 22]. Особенно ярко это проявляется в концепте «свой – чужой», а именно – в восприятии казаками лиц невойскового сословия. Ю.Н. Степанов в своём исследовании подчёркивает неразрывную связь концептов «свой – чужой» с самосознанием народа и самим понятием народа [24, с. 23]. Данные лексемы категоризуют мир, выделяя «своих», представителей казачьего сословия, и «чужих», т. е. тех, кто не относился к этому сословию, но проживал на войсковой территории, так или иначе участвуя в жизни станицы. Словарь «Славянские древности» показывает нам и цепочку связей, организующих пространство «своего» и «чужого». К ним относятся кровно-родственные, семейные (род, семья), этнические (народ, нация), языковые (язык, диалект), конфессиональные (вера), социальные (сообщество, сословие) [25, с. 581–582]. Итак, казаки с чётко определённой системой прав и обязанностей, со своими традициями, культурой и мировоззрением осознавали себя своеобразным социумом – «казачьим обществом», система ценностей которого базировалась на службе Царю, Отечеству и православной вере.
Итак, под повседневностью казачества мы понимаем регулярно происходящие в обыденной жизни казаков явления действительности, восприятие их и отношение к ним, меняющееся под воздействием внешних факторов. В качестве граней повседневности определяем две: военно-походную и «мирную», или станичную. При этом в структуре повседневности гражданской жизни рассматриваются взаимоотношения казаков с властью, экономические и трудовые отношения, быт, религиозно-культовые действия, формы будней, досугов и праздников.
About the authors
Elena V. Godovova
Orenburg State Pedagogical University
Author for correspondence.
Email: godovova@mail.ru
SPIN-code: 1311-7047
Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Russian History
Russian Federation, OrenburgReferences
- Glushchenko VV. Cossacks and state. Ed. 2. Rostov-on-Don: Molot, 1999. 126 p. (In Russ.)
- Nikolayenko IN. Historical aspect of formation of the Cossacks as ethnosocial system. Available from: http://www.pglu.ru/lib/publications/University_Reading/2008/XIV/uch_2008_XIV_00017.pdf
- Pushkareva NL, Lyubichankovsky SV. Understanding of history of daily occurrence in a modern historical research: from School of Annals to the Russian philosophical school. Bulletin of the Leningrad State University of A.S. Pushkin. – 2014;1(4):7–22.
- Pushkareva NL. “History of daily occurrence” as direction of historical researches. Available from: https://www.perspektivy.info
- Lyubichankovsky SV, Lyubichankovsky VA. Methodological regulatives of the concrete historical analysis of daily occurrence. Daily occurrence of the Russian province of the XIX-XX centuries: materials of the All-Russian scientific conference (Perm, November 5–6, 2013). Vol. II. Perm, 2013. Pp. 26–31.
- Lyubutin KN, Kondrashov PN. Dialectics of daily occurrence: methodological approaches. Yekaterinburg: IIFIP OURO RAHN; RFO, 2007. 295 p. (In Russ.)
- Timofeeva TYu. Daily occurrence and its history in scientific knowledge: coexistence in confrontation: scientific report. Available from: https://omega.hist.msu.ru
- Carlson YuV. Structures of daily occurrence: social and philosophical analysis (theoretical and methodological aspects): monograph. Pyatigorsk: PGLU, 2011. 111 p. (In Russ.)
- Krom MM. Historical anthropology: manual. The 3rd edition. Moscow: Publishing house of the European university in St. Petersburg; Quadriga, 2010. 214 p. (In Russ.)
- Krinko EF, Hlynina TP. From height of bird’s flight or What involves the modern researcher in the daily world of the Soviet person of 1920–1940th. The Daily world of the Soviet person of 1920–1940th: collection of scientific articles. Rostov-on-Don: YuNC RAS publishing house, 2009. Pp. 5–8. (In Russ.)
- Matveev OV. Historical picture of the world of the Kuban Cossacks: features of military and class representations (the end of XVIII – the beginning of the 20th century). Abstract of Ph. D. Thesis. Stavropol, 2009. 54 p.
- “Finding of the homeland”: society and the power on average the Volga region (the second half of XVI – the beginning of the 20th century). Part I. History essays: the monograph. Ed. by P.S. Kabytov, E.L. Dubman, O.B. Leontyeva. Samara: Samara University publishing house, 2013. 360 p. (In Russ.)
- Turner FJ. The frontier in American history. N.Y., 1920. 304 p.
- Poberezhnikov IV. Frontier modernization in the Russian civilization context. Regional aspects of civilization development of the Russian society in the XX century: problems of industrialization and urbanization: materials of an interregional scientific conference. June 6–7, 2013. Novosibirsk: Parallel, 2013. Pp. 3–10.
- Seng DV. Borderland in the history of the Black Sea Cossacks: some factors of development of space. Cultural life of the South of Russia. 2009;4:49–51.
- Sopov AV. Concept of the frontier and Cossacks. Questions of the Cossack history and culture: Release 8 / Ed. by M.E. Galetsky, N.N. Denisova, G.B. Luganskaya; Kuban association “Regional Festival of the Cossack Culture”; Department of the Slavic-Adyghe Cultural Ties of the Adygei Republican Institute of Humanitarian Researches of T. Kerashev. Maykop: O.G. Magarin publishing house, 2012. Available from: https://www.slavakubani.ru/content/detail.php? ID=5529
- Korolenko VG. At Cossacks. Complete works. Saint Petersburg, 1914. Vol. 6. Pp. 130–258.
- Senyavskaya ES. Man at war: historical and political essays. Moscow, 1997. 231 p. (In Russ.)
- Bogatyreva VV. Sources of formation of legal mentality of the Kuban Cossacks. Bulletin of the Adygei State University. Series 1: Regional studies: philosophy, history, sociology, law, political science, cultural science. 2014;1(135):44–47.
- Orlov BD. “The historical person” in the system of humanitarian knowledge. Moscow: Prod. house of Higher School of Economics, 2012. 191 p. (In Russ.)
- Pushkarev L, Pushkareva N. Mentalities. Online encyclopedia. Available from: https://encyclopaedia.biga.ru
- Matveev OV. A historical picture of the world of the Kuban Cossacks (the end of XVIII – the beginning of the 20th century): categories of military mentality. Krasnodar, 2005. 417 p. (In Russ.)
- Burlutskaya (Bannikova) EV. Everyday life of provincial merchants (on materials of the provinces of the Urals of the prereform period): monograph. Saint Petersburg: Poltorak, 2014. 440 p. (In Russ.)
- Konstantinova AA. Conceptualization of the space of ethnonyms “the mine – the stranger”. Magister Dixit. 2011; 4 (12):21–30.
- Slavic antiquities. Ethnolinguistic dictionary: in 5 vol. / Ed. by N.I. Tolstoy. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 2009. Vol. 4: P (Water Crossing) – S (Sito). Pp. 581–582.
Supplementary files