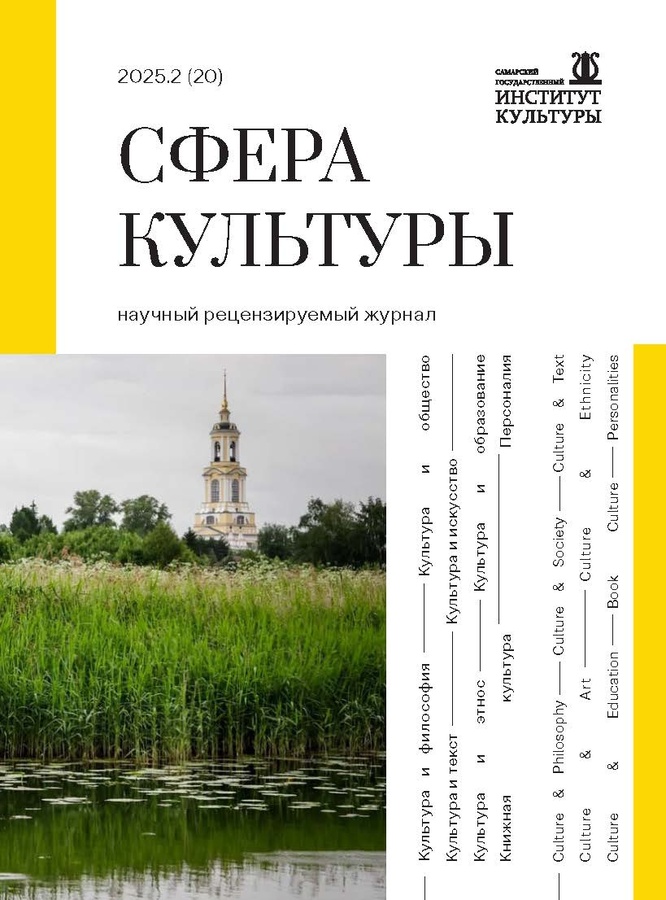«Придворная утонченность»: специфика ряда женских портретов школы фонтенбло
- Авторы: Русских Д.П.1
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургская академия художеств им. Ильи Репина
- Выпуск: Том 6, № 2 (2025)
- Страницы: 91-99
- Раздел: Культура и искусство
- Статья опубликована: 05.07.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/686749
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2025_20_91
- ID: 686749
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Группа мастеров, трудившаяся при дворе французского короля Франциска I и его преемников, оставила яркий след в изобразительном искусстве эпохи Возрождения. Объектом настоящего исследования является женский обнаженный портрет как часть наследия школы Фонтенбло. Прослеживаются итальянские истоки данного жанра, предпринимается попытка объяснить причины его особой популярности во Франции в XVI столетии; определяются источники иконографии, анализируются стилистические особенности отдельных портретов и их связь с традицией искусства готики и раннего французского Возрождения. Автор предлагает рассмотреть женские портреты, выполненные мастерами школы Фонтенбло, с точки зрения принадлежности к придворной, и в том числе праздничной культуре.
Ключевые слова
Полный текст
Словосочетание «придворная утончённость»1, позаимствованное из пассажа Андре Шастеля об искусстве времен правления французского короля Генриха III, отражает два аспекта портретной живописи школы Фонтенбло, о которых пойдет речь в настоящей статье. С одной стороны, рассматриваемые портреты являются характерным проявлением придворной культуры, изображениями галантных дам, королевских фавориток, образы которых стали своеобразными вехами французского искусства XVI столетия. С другой – понятие «утонченность», толкуемое как в прямом, так и переносном смысле, может отражать стилистические особенности этих портретов и специфику трактовки мастерами Фонтенбло человеческого тела: «Россо, Приматиччо, Никколо дель Аббате и Челлини, – писал Кеннет Кларк, – …выйдя из-под сдерживающего влияния классической традиции, стали создавать обнаженные фигуры фантастически тонких и вытянутых форм» [2, c. 163].
Точкой отсчета школы Фонтенбло послужил приезд ко французскому двору в 1530-х гг. двух итальянцев, упомянутых выше – флорентинца Россо Фьорентино (1494–1540) и болонца Франческо Приматиччо (1504–1570), призванных создать из небольшой охотничьей резиденции близ Парижа подобие «нового Рима» [3, c. 1144]. На стенах дворца и в особенности галереи Франциска I выкристаллизовался и широко распространился благодаря печатной графике новый тип человеческой фигуры – фигуры женской, с маньеристическим искажением пропорций и «до нелепости неклассический» [2, c. 383]. Несмотря на это отступление от античного идеала, для маньеризма Фонтенбло, как и маньеризма флорентийского, был свойственен культ объема человеческого тела [4, p. 9]. У некоторых мастеров данной школы анатомия предельно гипертрофировалась, как у Микеланджело (например «Венера, ласкаемая Амуром» Луки Пенни из Музея Берри в Бурже), у иных, напротив, сглаживалась до простых, обтекаемых, геометрических форм, как в случае «Купающейся дамы» Клуэ из Национальной галереи искусств в Вашингтоне или «Сабины Поппеи» из Женевского музея искусства и истории, о которых речь пойдет ниже. Часто объем формировался за счет «внутреннего», приглушенного, как будто матового свечения бледной кожи, оттененного еле заметными полутонами. Этой стилистической особенностью, характерной для основательного пласта произведений Фонтенбло, фигуры придворных дам в образах нимф, Диан-охотниц и купальщиц отчасти близки к традиции изображения человеческого тела художниками времен раннего французского Возрождения. Еще Андре Фильбьен, пионер французского искусствознания, отмечал, что по-настоящему национальным искусством Франции являются витраж и деревянная скульптура [5, p. 228] – и, действительно, создается впечатление, что мастера при создании своих живописных произведений нередко ориентировались на готическую деревянную пластику, подражали ее угловатым формам, «окостенелости», слабому светоотражению и будто бы шершавой поверхности материала (в качестве характерных примеров приведем анонимный «Бульбонский алтарь» и «Пьету Вильнев-лез-Авиньон» Ангеррана Картона, находящиеся в собрании Лувра, «Ecce homo» Жана Эйя из Королевского музея изящных искусств в Брюсселе, произведения Мастера Святого Эгидия, портрет шута Гонеллы Жана Фуке из Музея истории искусств в Вене и др.). Со временем понимание способов передачи объема изменяется – возможно, причиной тому послужило широкое распространение мраморной скульптуры, в том числе произведений Мишеля Коломба, сумевшего под влиянием итальянского Возрождения переосмыслить традиции французской готики. Произведения Фонтенбло, в особенности анонимные работы школы, по-прежнему сохраняют скульптурность форм, соединившую в себе особенности средневековой пластики и тенденции ренессансного искусства.
Ил. 1. Мастерская Франсуа Клуэ(?). Дама за туалетом. Около 1570. Дерево, масло. 111,8х87,6. Вустер. Музей искусств
Новый вектор развития портретного жанра (и в целом изменение подхода к изображению человеческого тела) задал вкусовые предпочтения Франциска I, с чьим вступлением на престол французский двор вновь становится оплотом куртуазной культуры. Обычаи и условности придворной жизни определяли сюжетный репертуар, иконографические особенности и общую тональность, исполненную куртуазной поэтики. Так, к примеру, светскость сюжетов, эротизм образов, беспрецедентную распространённость мотива купания и купающихся среди произведений мастеров Фонтенбло можно объяснить в том числе и тем, что первая галерея короля, в которую входили произведения Леонардо да Винчи, портреты Рафаэля Санти, Себастьяно дель Пьомбо, копия «Леды и лебедя» Микеланджело, произведения фламандских мастеров [6, p. XXI], находились в помещении, именуемом L’appartement des Bains. Обстановка этих купален и примыкающих к ним частных покоев была поручена Россо, знакомому с римскими термами; свой вклад внес и Приматиччо, недавно вернувшийся из Мантуи, где в Палаццо Те уже были построены похожие комнаты. Разумеется, большинство произведений тематически соответствовало интимности помещения, подразумевающего некоторую вольность, в том числе и несохранившиеся фрески Приматиччо с аналогичной тематикой, по эскизам которых будет выполнено немалое количество гравюр, например лист Антонио Фантуцци «Марс и Венера в купальне».
Ил. 2. Франсуа Клуэ. Купающаяся дама. Около 1571. Дерево, масло. 92,3х81,2. Вашингтон. Национальная галерея
Вероятно, появление этой галереи послужило в некоторой степени поворотным моментом в истории французского светского искусства. До этого времени нагота, тем более в портретной живописи, была явлением крайне редким и едва ли не единственной попыткой частичного обнажения женской фигуры явилась Меленская Мадонна Жана Фуке, в образе которой был запечатлён облик Агнес Сорель.
В Италии к тому периоду жанр обнаженного портрета уже давно вошел в моду. Дабы оправдать обнаженность, портретируемые нередко изображались в образах мифологических, легендарных или исторических персонажей, для которых нагота являлась естественным состоянием: так, к примеру, Аньоло Бронзино пишет аллегорические портреты адмирала Андреа Дориа в образе Нептуна (Пинакотека Брера, Милан) и Козимо Медичи в образе Орфея (Художественный музей Филадельфии). С другой стороны, нагота является элементом образа Прекрасной Дамы, продиктованного поэтической традицией, утвердившейся в произведениях Франческо Петрарки, Пьетро Бембо, Серафино Аквилано и др. Этот идеал получил воплощение в картине Джованни Беллини «Молодая дама за туалетом» из венского Музея истории искусств, «Форнарине» Рафаэля (Палаццо Барберини, Рим), переиначившего на современный лад античный тип Venus Pudica, многочисленных интерпретациях «Donna Nuda» или «Mona Vanna» Леонардо. Джулио Романо, очевидно, вдохновляясь произведением Рафаэля, написал свой вариант «Форнарины» – «Даму за туалетом» (ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва), и именно данный сюжет – молодая обнаженная дама, сидящая перед зеркалом на фоне роскошных покоев, – слившись с иконографией «Моны Ванны», стал во Франции наиболее популярным.
«Линию» Джулио Романо продолжили такие композиции, как «Дама за туалетом» из Музея искусств в Вустере2 и анонимная реплика из Музея изящных искусств в Дижоне. Художники воспроизвели композиционную схему Романо в зеркальном отображении, при этом в фигуре наклонившейся к сундуку служанки на заднем плане можно усмотреть персонажа «Венеры Урбинской» Тициана. Однако существенным отличием является подход художников к трактовке лиц: в отличие от Романо, наделившего изображаемую живым выражением и индивидуальными чертами, дамы на произведениях французских живописцев обладают как будто обезличенным, идеально симметричным и неподвижным лицом маски с «пустым», ни на что не направленным взглядом, что является характерной особенностью ряда живописных и графических произведений школы Фонтенбло.
«Купающаяся дама» Франсуа Клуэ (ок. 1571 г.) (ил. 2) из Национальной галереи искусств в Вашингтоне – одна из немногих работ мастера, атрибуция которой неоспорима – является продолжением немного иной иконографической традиции, а именно интерпретацией «Обнаженной Джоконды» Леонардо. Но стилистически и в некоторых деталях иконографии произведение следовало, скорее, «Моне Ванне» Йоса ван Клеве (Национальная галерея в Праге), чем оригиналу круга да Винчи. Клуэ сохранил такую находку нидерландского мастера, как собранные на манер театрального занавеса тяжелые драпировки (которые впоследствии станут практически неотделимым атрибутом подобных композиций). При этом он ввел дополнительных персонажей, помещая их в изысканный интерьер, изобилующий символическими деталями, и мастерски балансировал на грани бытовой сцены и аллегорического портрета [7, c. 425].
Ил. 3. Неизвестный мастер школы Фонтенбло. Сабина Поппея. Около 1550–1560. Дерево, масло. 82,5х66. Женева. Музей искусства и истории
В историографии было предпринято множество попыток определения личности изображенной, чаще всего звучали имена Дианы де Пуатье и Марии Туше [8, p. 94]. Любопытной оказалась теория Рожера Тринке, согласно которой это не кто иная, как Мария Стюарт, а картина является своеобразной политической аллегорией [9, p. 107-119], указывающей на двусмысленное в плане замужества положение шотландской королевы. Однако данная композиция впоследствии практически дословно воспроизводилась множество раз с сохранением всех элементов, несущих, согласно Рожеру Тринке, смысловую нагрузку и указывающих на имя центрального персонажа (изображение единорога, цветок гвоздики, двойное перекрещивание лент на пеленках младенца и т. д.). При этом сам персонаж будет кардинально меняться: так анонимный мастер создаст вариант с портретом Габриэль д’Эстре (Музей де Шантии) – женщины, чье положение и судьба коренным образом отличались от жизни Марии Стюарт. Избрание в данном случае аналогичной композиционной модели может говорить о том, что современники не считывали всех отсылок и желали воспроизводить в первую очередь прекрасный в своей поэтичности образ, а не политическое «высказывание».
Некоторые стилистические особенности живописи Клуэ, усвоенные, видимо, из более ранних его произведений, позаимствовал анонимный мастер Фонтенбло, создатель «Сабины Поппеи» (ил. 3). На плечи женщины, в чертах которой угадываются черты Дианы де Пуатье3, накинута прозрачная струящаяся ткань, напоминающая будто бы влажные драпировки некоторых античных статуй и уже виденная нами в произведении Джулио Романо. В данном случае эффект «статуарности» утрирован до предела, а мраморный картуш лишь подчеркивает белизну кожи, осязаемость и монументальность форм.
Пожалуй, наиболее знаковым и узнаваемым произведением с изображением купальщиц является картина неизвестного художника Фонтенбло «Габриэль д’Эстре с сестрой, принимающие ванну» (Лувр, Париж)4 (ил. 4).
Ил. 4. Неизвестный мастер школы Фонтенбло. Габриэль д`Эстре с сестрой, принимающие ванну. Последняя четверть XVI. Дерево, масло. 96х125. Париж. Лувр
Герцогиня, фаворитка Генриха IV, уже была запечатлена в аналогичном образе. Теперь эта композиция (все еще с похожими алыми кулисами-драпировками, служанкой у камина) будто бы отзеркаливается: у купальщицы появляется двойник, наделенный практически теми же физиологическими характеристиками, за исключением цвета волос. По сравнению с созданными Клуэ и его последователями портретами, наполненными живописными натюрмортами и многочисленными подробностями, отличительной особенностью данного произведения школы является лаконизмо, строгость локальных цветов (кажется, их всего три: белый, изумрудный и алый) и совершенной гармонией обобщённых форм обнаженной натуры. Подобные колористические приемы и специфика пластической трактовки человеческого тела как будто являются прямым продолжением искусства Жана Фуке, а именно стилистических особенностей правой створки Меленского диптиха.
Как уже было сказано, рассмотренные портреты зачастую неотделимы от поэтической традиции эпохи Возрождения, в случае же искусства школы Фонтенбло мотивы, символы и метафоры нередко черпались из произведений Плеяды, приближенного к французскому двору поэтического объединения, и в первую очередь стихотворений Пьера де Ронсара, устроителя королевских торжеств. В его сочинениях мы найдем тот же образ холодной красоты, неприкрытый эротизм, символику цветов, мотив зеркала и туалетного столика, являющегося своеобразным алтарем [11, p. 432].
Праздничная культура, в XVI столетии переживавшая при дворе Валуа пору расцвета, также наложила свой отпечаток на целый пласт произведений школы, в том числе и на жанр портрета. Одними из самых популярных увеселений являлись костюмированные балы и маскарады, в которых придворные дамы также принимали непосредственное участие, выступая в костюмах и масках, нередко созданных по эскизам художников Фонтенбло. Возможно, утвержденные на таких празднествах образы могли переноситься на полотна. А.В. Степанов называет «Диану-охотницу» (Лувр, Париж) (ил. 5), вольный портрет Дианы де Пуатье, «пикантным маскарадом, в котором зрителю предложено сыграть роль Актеона, случайно оказавшегося на пути богини-девственницы» [7, c. 421]. Подобное упоминание о маскараде может быть применимо и в отношении других портретов, на которых нагота дамы с молчаливого одобрения зрителя является своего рода маскарадным костюмом, перевоплощающим земного человека в мифологического, божественного персонажа.
Ил. 5. Неизвестный мастер школы Фонтенбло. Диана-охотница. Около 1540–1560. Холст, масло. 183х89. Париж. Лувр
Итак, рассмотренный нами ряд женских портретов школы Фонтенбло можно назвать, употребляя выражение М.А. Демидовой, относящееся к дворцу Фонтенбло в целом, всё еще «неразгаданным культурным феноменом» [13, c. 9]. И в настоящее время ведутся научные дискуссии об авторстве произведений и личностях изображенных женщин, ставится под вопрос утверждение, были ли они портретами в прямом смысле слова либо же поэтическими обобщениями, сложными аллегориями, временами политическими аллегориями. Так или иначе, данные работы являлись продолжением сложившейся на территории Италии традиции. Она приобрела во Франции свой собственный колорит и сделала из весьма распространенного в европейском искусстве поджанра едва ли не негласную эмблему школы. Предположим, что именно специфика придворной жизни, её нарочитая театрализованность, стиравшая грань между реальностью и маскарадным лицедейством, литературные влияния, тематический репертуар королевской коллекции живописи и скульптуры и, разумеется, наследие искусства готики и раннего французского Возрождения способствовали формированию совершенно особенного типа обнаженной женской натуры, который едва ли возможно спутать с произведениями других школ. Его отличительной чертой являлся специфический подход северных мастеров к трактовке человеческого тела, далекий от образцов классического искусства. Женские фигуры наделялись вытянутыми пропорциями, наследующими традиции готической скульптуры, рельеф тела предельно нивелировался и сводился к простым геометрическим формам, что как будто шло вразрез с тенденциями итальянского маньеризма со свойственной ему «гипертрофированной» анатомией. Истоки колористических особенностей ряда портретов Фонтенбло, а именно строгость локальных цветов, холодный оттенок кожи, напоминающей своей однотонностью каменную скульптуру, мы также найдем во французском искусстве XV столетия, в первую очередь среди произведений Жана Фуке.
Гаспар де Со Таванн, маршал Франции, вспоминая годы, проведенные при дворе, писал: «Женщины были всюду, даже в чинах генералов и капитанов» [12, p. 111]. Эта особенность французской придворной жизни не могла не отразиться на тематическом репертуаре школы Фонтенбло, характере сюжетов и образов. Вдохновленные итальянскими образцами, увлеченные модой на аллегорический портрет, но воспитанные на образцах фламандских, французские портретисты смогли объединить две традиции и создать череду произведений с изображениями купающихся дев и обнаженных дам, где, по тонкому наблюдению Анри Зернера, особая атмосфера, поэтичность и all’antica помогли полностью избежать ощущения непристойности [10, p. 478].
1 ”Préciosité”, the endemic sickness of French culture, took hold, benefiting from fashion and courtly refinement [1, p. 99].
2 Возможно, копия поврежденного оригинала Франсуа Клуэ (ил. 1), не являвшегося в полной мере представителем школы Фонтенбло, но хорошо знакомого с ее произведениями, в свою очередь повлиявшего на представителей второй школы.
3 Sabina Poppaea / MAH Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. Legs Jean Jaquet, 1839. URL: https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/sabina-poppaea/1841-0001 (дата обращения: 20.04.2025).
4 История создания картины и ее символический подтекст были подробно описаны Анри Зернером [10, p. 213-215].
Об авторах
Дарья Павловна Русских
Санкт-Петербургская академия художеств им. Ильи Репина
Автор, ответственный за переписку.
Email: Desessient@gmail.com
аспирант 3-го курса, младший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного Эрмитажа
Россия, Университетская наб., 17, Санкт-Петербург, 199034Список литературы
- Chastel A. French Renaissance Art in a European Context // The Sixteenth Century Journal. 1981. Vol. 12, no. 4. P. 77-103.
- Кларк К. Нагота в искусстве. Исследование идеальной формы / пер. с англ. М.В. Куренной, И.В. Кытмановой, А.В. Толстовой и др. Санкт-Петербург: Азбука-Классика, 2004. 480 с. (Художник и знаток).
- Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: полное изд. в одном томе / пер. с итал. А.Г. Габричевского, А.И. Венедиктова. Москва: Альфа-Книга, 2008. 1278 с.
- Friedlaender W. Mannerism and anti-mannerism in Italian painting. New York: Schocken books, 1965. XXII, 89 р.
- Chastel A. French Art: The Renaissance, 1430–1620. Flammarion, 1995. 336 p.
- L’École de Fontainebleau, exposition. Catalogue. Réd. par William McAllister Johnson. Paris: Éd. des musées nat., 1972. 520 р.
- Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2009. 638 c.
- Béguin S. L’école de Fontainebleau, le maniérisme à la cour de France. Paris: Art Gonthier-Seghers, 1960. 153 p.
- Trinquet R. L’Allégorie politique au XVIe siècle: la Dame au Bain de François Clouet (Washington) // Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français. 1966. Paris: F. de Nobele, 1967. P. 99-119.
- Zerner H. Renaissance Art in France: The Invention of Classicism. Paris: Flammarion, 2003. 478 р.
- Goodman-Soellner E. Poetic Interpretations of the ‘Lady at Her Toilette’ Theme in Sixteenth – Century Painting // The Sixteenth Century Journal. 1983. Vol. 14, no. 4. P. 426-442.
- Wellman K. Queens and mistresses of Renaissance France. London: Yale univ. press, 2013. XIV, 433 р.
- Демидова М.А. Идеальная резиденция ренессансного правителя. Дворец Фонтенбло эпохи Франциска I: монография / М-во культуры РФ, Гос. ин-т искусствознания. Москва: Прогресс-Традиция, 2010. 351 с., [24] л. цв. ил.
Дополнительные файлы