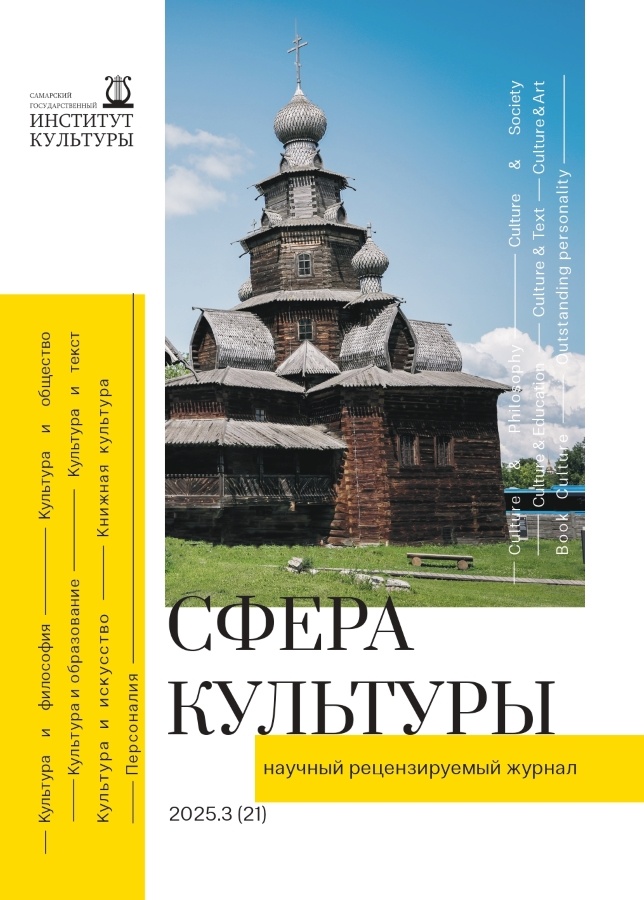The сrisis of Christian сulture and ways to overcome it: C.G. Jung and F. Nietzsche
- Authors: Faritov V.T.1
-
Affiliations:
- Samara State Technical University
- Issue: Vol 6, No 3 (2025)
- Pages: 13-24
- Section: Culture & Philosophy
- Published: 10.10.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/692618
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2025_21_13
- ID: 692618
Cite item
Full Text
Abstract
The analysis of the reception of F. Nietzsche’s doctrine in K.G. Jung’s analytical psychology makes it possible to tell about the origins of the crisis of Christian culture in the modern world. The article provides a brief overview of K.G. Jung’s theological views and substantiates the thesis according to which, in a situation of crisis of traditional Christianity, Nietzsche’s attempt to return to the traditions of apophatic theology failed due to the erroneous identification of the divine and the human in the doctrine of the overman. It is revealed that, on the one hand, in the doctrine of the overman, an attempt was made to revive Christian symbolism, and on the other, there was a substitution of the question of the divine in man with the idea of deification of man.
Full Text
Современная постметафизическая философия по праву именуется постницшеанской [1] ввиду значительного влияния и большого количества рецепций и интерпретаций наследия мыслителя. «Свой» Ницше есть у таких авторитетных фигур западной неклассической философской мысли, как М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. Делёз, Ф. Юнгер, А. Данто, Л. Клагес, П. Слотердайк. М. Фуко указывает на наследие Ницше как на основной источник формирования своего образа мыслей: «Все мое становление как философа было обусловлено моим прочтением Хайдеггера. Но признаю, что Ницше одержал над ним верх. Хайдеггера я знал недостаточно, я практически не был знаком ни с “Бытием и временем”, ни с вещами, опубликованными недавно. Мое знакомство с Ницше гораздо основательнее, нежели знакомство с Хайдеггером; тем не менее оба знакомства относятся к моему основополагающему опыту. Вероятно, если бы я не прочел Хайдеггера, я не читал бы Ницше. Я пытался читать Ницше в пятидесятые годы, но Ницше сам по себе ничего мне не говорил! Тогда как Ницше вместе с Хайдеггером произвели настоящий философский шок! Но я никогда ничего не писал о Хайдеггере, а о Ницше написал совсем небольшую статью; однако же двух этих авторов я читал больше всего» [2, c. 280].
Не обошел Ницше и Карл Густав Юнг. В отличие от основоположника психоанализа, швейцарский психолог никогда не скрывал влияния Ницше: «Я пришел из психиатрии, будучи с помощью Ницше хорошо подготовлен для восприятия современной психологии» [3, c. 123]. Еще студентом Юнг изучал труды А. Шопенгауэра и И. Канта. Уже в зрелые годы, будучи авторитетным и всемирно известным ученым, Юнг в течение пяти лет проводил семинары по «Так говорил Заратустра», отчасти осуществив предсказание самого Ницше, который был убежден, что для толкования его «Заратустры» когда-нибудь откроют специальные кафедры [4, т. 6]. Книгу Ницше Юнг анализировал как профессиональный психолог, опираясь на свои собственные концептуальные разработки и методы. Вместе с тем в центре внимания семинаров часто оказывались не только и не столько вопросы психологии, сколько проблемы кризиса христианской культуры и религиозного сознания. Данный тематический срез на семинарах Юнга задавался как самим предметом (учение Ницше, исходным пунктом которого выступает идея смерти Бога), так и современной духовной ситуацией, в частности кризисом традиционного богословия [5].
В своих работах Юнг неоднократно обращался к проблемам религиозного опыта, однако стремился не выходить за пределы исследовательского поля психологических наук. По этой причине богословские воззрения швейцарского психолога не получили выражения в самостоятельной теологической системе и требуют специальной реконструкции [6]. В психологической концепции Юнга сфера божественного соотнесена с областью коллективного бессознательного. При этом Юнг неоднократно подчеркивал, что онтологический статус Бога не отрицается посредством сведения к психическому феномену. Божественное дано нам в том числе как феномен психического, но это обстоятельство не подразумевает редуцирования Бога к психике. Бог и бессознательное не являются у Юнга тождественными понятиями. Бог трансцендентен, коллективное бессознательное скорее трансперсонально. Но если говорить о проявлении божественного в человеческой психике, то наиболее соответствующей областью будет именно коллективное бессознательное. Попытки сведения божественного к идеям сознания или комплексам личного бессознательного неизбежно ведут к обесцениванию религиозной сферы.
Язык психологии имеет определенные преимущества перед языком классической метафизики и классического богословия, поскольку ближе стилю мышления современного человека, у которого научные понятия вызывают больше доверия, чем устаревшие философско-богословские категории. Так, Юнг дает психологическое определение феномена откровения: «Эта трансформация коллективного бессознательного в коллективное сознание называется откровением» [7, т. 1, с. 205]. Божественное мыслится им в категориях, близких традициям апофатического богословия: «Мы притязаем на власть, давая имена. Мы говорим, что вещи таковы и думаем, что уловили чистейшую сущность вещи, когда дали ей имя. Но не забывайте, что за всеми именами стоит безымянное и невыразимое» [7, т. 1, с. 415]. Апофатически же определяет Юнг феномен духа: «Дух – это, в сущности, громадное, динамическое проявление, но чего именно, мы не знаем» [7, т. 3, с. 25]. Иногда Юнг делает высказывания мистического толка, сближаясь уже не с Дионисием Ареопагитом, но с Мейстером Экхартом: «Совершенное сознание – это полное отождествление с божеством. Мир – это определенность божественной проекции» [7, т. 1, с. 142]. Религия, в свою очередь, представляет собой систему символов, посредством которых безымянное и невыразимое может получить некоторое выражение и стать тем самым доступным для сознания: «Если у вас есть такая система для выражения бессознательного, то оно поймано, оно выражено, оно живет с вами» [7, т. 4, с. 132]. Отсюда следует, что религия в системе воззрений Юнга – феномен крайне необходимый и жизненно важный, поскольку служит наиболее эффективным способом интеграции содержания коллективного бессознательного в сознание. Однако системы религиозных символов не являются абсолютными и вечными, характер религиозного символизма сильно обусловлен спецификой конкретной цивилизации и подвержен изменениям с течением исторического времени. Религиозные учения могут деградировать и вырождаться, следствием чего станет нарушение координации между сознанием и бессознательным: «Но как только система расстраивается, ваше бессознательное начинает искать новое выражение. Тогда оно поднимается к сознанию как хаотическая лава. Поскольку для бессознательного нет уже никакой формы, оно затопляет сознание» [7, т. 4, с. 132]. Здесь мы уже вплотную подходим к той проблеме, которая занимает центральное место в философии Ницше: кризис христианства и восхождение нигилизма.
Идея кризиса христианства и христианской культуры, представленная у Ницше в лаконичной и провокационной формулировке «Бог мертв», в ХХ столетии получила максимально широкое распространение среди философов и богословов. М. Хайдеггер будет писать о завершении западной метафизики и европейском нигилизме, О. Шпенглер провозгласит закат Европы, а Т. Альтицер представит теологию мертвого Бога. Юнг неоднократно обращался к проблеме кризиса современного христианства в своих психологических исследованиях, а на семинарах по Ницше эта тема становится для него центральной. Мы живем в эпоху, когда привычные метафизические и религиозные формы утрачивают свою значимость для сознания, все больше выхолащиваются: «Когда метафизическая форма теряет сущность, человек никак не может вложить ее искусственно. Идея Бога истощилась» [7, т. 1, с. 284]. Такова духовная ситуация нашего времени: «Сейчас сравнительно мало людей мыслят метафизическими понятиями, это все в прошлом. Идею Бога как высшей реальности Средневековья заменила теория относительности Эйнштейна, которую понимает дюжина человек во всем мире. А все остальные люди пусты» [7, т. 2, с. 356].
Здесь следует отметить, что подобная ситуация не является исключительной особенностью нашего времени. Смерть Бога или богов – это скорее закономерный и регулярно повторяющийся процесс цивилизационного цикла. Время от времени в истории цивилизаций наступают такие периоды, когда старые формы религиозного опыта разрушаются. В большинстве случаев подобные процессы означают начало конца: цивилизация вступает в фазу заката, движется в направлении собственной гибели. Аналогичные события происходили в Античности, где смерть греческих и римских богов предшествовала закату Древнего мира и становлению христианской цивилизации: «Старые боги были не совсем уничтожены христианством: они умерли еще до прихода Христа. Поэтому Август был вынужден вернуться к старым латинским обрядам и церемониям, чтобы как-то восстановить старую религию, которая уже сдала позиции» [7, т. 4, с. 286]. Эту заранее обреченную на неудачу попытку реставрации умирающей религии О. Шпенглер охарактеризовал как период «второй религиозности»: «От скептицизма путь ведет к “второй религиозности”, религиозности умирающих мировых городов, той болезненной задушевности, идущей не впереди, а вслед за культурой, согревая дряхлеющие души, как это делали восточные культы в Риме» [8, c. 643]. Вслед за Шпенглером Юнг отмечает аналогичные процессы в современном мире европейской цивилизации: «Как и в Античности, схожее явление происходит в наши времена, когда средневековый христианский мир начинает исчезать» [7, т. 4, c. 286].
Смерть Бога наступает тогда, когда религиозные формы утрачивают символическое измерение и превращаются в абстрактные интеллектуальные конструкции. Символ всегда обращен к невыразимым и непостижимым содержаниям коллективного бессознательного, поэтому как таковой он неисчерпаем, не поддается до конца рациональному объяснению и истолкованию. Не являясь рациональным конструктом, символ обладает жизненной силой, поскольку через него бессознательное содержание оказывает воздействие на сознание. Благодаря символу сознание получает возможность вступить в отношения с тем, что его превосходит, что не является его собственным содержанием и творением. Это и есть религиозный опыт, описанный с помощью психологических понятий. Религиозный символ рождается из некоторого события, движения в коллективном бессознательном. Само это событие нам никогда не известно, не дано в своей сущности, если использовать язык апофатического богословия. Нам известны только энергии, исходящие из глубины, но не сама суть того, что собственно произошло. Сознание оказывается затронуто недоступными для его уразумения процессами, которые рождают соответствующий символизм. Символ, таким образом, это мост между сознанием и коллективным бессознательным. Символ жив и действенен лишь до тех пор, пока он наполнен этим бессознательным содержанием, находится в непосредственном отношении с архетипами. Но так не может продолжаться вечно. Энергия, исходящая из события в бессознательном, постепенно угасает подобно тому, как со временем на воде исчезают круги от брошенного камня. Символ теряет свою жизненную силу, утрачивает глубинное содержание и все больше превращается в понятие разума, в рациональный конструкт, который соотнесен исключительно с содержанием сознания.
Нечто подобное произошло с христианским символом, место которого заняло слово: «Слово – это всего лишь то, что осталось от духа, когда дух ушел. Современное развитие привело сначала к нисхождению духа в ум, а из ума в слова, и так духа совсем не осталось» [7, т. 1, с. 351]. Первоначальный импульс, ставший источником христианского символа, уже не доступен современному человечеству – как по причине значительной удаленности во времени, так и по причине ряда трансформаций, которые пережило христианское учение за время своего существования. Первые христиане были захвачены новым духом, который был призван вдохнуть новую жизнь в уже исчерпавшие и изжившие себя формы иудаизма: «Новый Завет – это еврейская реформация Ветхого Завета – это был еврейский протестантизм. Евреи глубоко придерживались страха божьего и законопослушного поведения, и потому реформатор должен был настаивать, что Бога нужно не только бояться» [7, т. 3, с. 28]. Однако вскоре христианство стало распространяться среди образованных представителей гибнущего античного мира, которые находились в иной духовной и культурной ситуации по сравнению с представителями иудаизма: «Сравните оригинальный смысл учения Христа с тем, что с ним стало в последующие столетия. Когда христианству научили высокообразованную аудиторию, оно стало философией» [7, т. 2, с. 345]. Произошла эллинизация христианства, когда новые религиозные символы стали осмысляться в категориях позднеантичной философии. Новое вино было влито в старые мехи: «Когда этой религии научили язычников, они вынуждены были оторвать Новый Завет от Ветхого. Тогда появилось синкретическое, эллинистическое христианство» [7, т. 3, с. 30]. Следующая трансформация христианского символизма была связана с распространением новой религии среди северных варварских народов: «Однако те же евангелия, проповеданные варварам, стали чем-то совершенно иным» [7, т. 2, с. 346].
Средневековая схоластика продолжила движение в направлении рационализации христианских символов. Фома Аквинский развил линию Аврелия Августина: божественное начало было фактически отождествлено с умом, что привело к подрыву и опустошению символа. Бог умирает, когда живой и действенный символ заменяется метафизической и догматической абстракцией. В этой ситуации Ницше приходит к осознанию задачи ре-абстракции божественного, возвращения ему статуса живого символа: «Наречение именем создает некую абстракцию; вы устраняете вещь из жизни, абстрагируя ее. Тогда, чтобы вернуть ее к жизни, нужно отменить попытку наречения именем, и это будет ре-абстракция. Ницше пытается растворить абстракцию дифференцированных представлений в безымянных переживаниях» [7, т. 1, с. 417-418]. Если здесь от психологического дискурса перейти к теологическому, то сказанное будет подразумевать попытку возврата к апофатическому богословию. Европейская метафизика отказалась от апофатизма, отождествив Бога с разумом. У Гегеля дух становится осуществленным разумом, а Бог – системой логических понятий. Но Гегель лишь подвел итог длительному пути западного богословия, начало которого следует искать в теологических учениях Августина и Фомы Аквинского. Вслед за Гегелем европейская метафизика вступает в кризисный период, который у Ницше осмысляется через идею смерти Бога. Но умирает лишь превратившийся в интеллектуальную абстракцию бог рационалистической философии.
Бог и христианство выступают в качестве главной проблемы философского учения Ницше. Основной вопрос его философии можно сформулировать следующим образом: возможен ли в настоящее время подлинный религиозный опыт, возможна ли встреча с живым Богом, не умерщвленным схоластическими и метафизическими абстракциями? Ницше вовсе не является ни безбожником, ни язычником, ни антихристом. Истинный исток его образа мысли следует искать по соседству с Дионисием Ареопагитом и Мейстером Экхартом, а не с материалистами и позитивистами Нового времени [9]. Преимущественно религиозный и христианский характер мышления Ницше был в большей степени понят и раскрыт в русской религиозной философии [10]. В частности, Н.А. Бердяев отмечает, что главная проблема Ницше состоит в вопросе, как пережить божественное, когда Бог мертв: «Можно было бы так определить основную тему жизни и творчества Ницше: как пережить божественное, когда Бога нет, как пережить экстаз, когда мир и человек так низки, как подняться на высокую гору, когда мир так плосок?» [11, с. 386].
Рецепция наследия Ницше Юнгом движется в аналогичном направлении. На своих семинарах швейцарский психолог делает парадоксальное, на первый взгляд, заявление: «Ницше – куда лучший христианин и более нравственный человек, чем христиане до и после него» [7, т. 1, с. 86]. Данный тезис способен вызвать некоторый когнитивный диссонанс, если учесть, что «лучшим христианином» именуется автор «Антихриста», провозгласивший, что Бог умер. Но анализ текстов Ницше позволяет эксплицировать преимущественно религиозный характер его мысли: «Однако забавно, что по всему “Заратустре” у вас чувство, будто бог, которого он называет мертвым, совсем не мертв. Он словно скрывается где-то на заднем плане как великий непостижимый, о котором нельзя говорить: он слишком опасен, чтобы его упоминать» [7, т. 1, c. 86]. Здесь Юнг снова обращается к апофатической традиции. Западная метафизика слишком много высказывалась о Боге в позитивном ключе, так что, в конце концов, неведомый и непостижимый Бог был заменен логическим конструктом, превратился в предмет позитивного знания. Но доступный логическому анализу, известный и постижимый Бог – уже не Бог. Поэтому Ницше, как благочестивый христианин и сын священника, в конце концов, заявляет: «Прочь от такого бога!» («Fort mit einem solchen Gotte!») [15, т. 4, c. 286].
Подвергая деструктивной критике безжизненные рационалистические и метафизические конструкции, Ницше движется к области апофатического богословия. В «Заратустре» практически не встречаются схоластические и философские категории, но много христианского символизма. Так, первая часть заканчивается провозглашением «великого полдня» (der grosse Mittag). Юнг, комментируя это место, замечает: «Это, конечно, христианский символизм. Это parousia, возвращение Христа и новое примирение, единение с Агнцем; это апокалиптическое видение, в котором все исполняется, когда Христос устанавливает царство небесное на земле и наступает вечное единение с ним» [7, т. 2, c. 352].
Вместе с тем речь в данном фрагменте идет не о Христе, а о сверхчеловеке: «Великий полдень – когда человек стоит посреди своего пути между животным и сверхчеловеком и празднует свой путь к закату как свою высшую надежду: ибо это есть путь к новому утру» [15, т. 4, c. 82]. Идея сверхчеловека характеризуется амбивалентностью, допускающей принципиально противоположные толкования. С одной стороны, это в своей основе христианское учение о воплощении Бога. В этом самая суть благой вести: Бог стал человеком и в человеческом теле победил смерть. Юнг указывает на этот аспект: «Создавая сверхчеловека, Ницше просто продолжает путь христианства, развивая нашу до сих пор действенную форму христианства в философию, идущую немного дальше» [7, т. 1, c. 426]. Ницше ищет не просто опыта переживания божественного, но стремится утвердить то понимание Бога, которое уже было представлено в христианстве. Он ищет Бога, который не был бы только трансцендентным началом всего сущего, но сам был бы живым человеком, из плоти и крови. Он ищет божественное, воплощенное в самом человеке: «Вот что пришло к нему вместо утраченного Бога. Бог мертв, но появляется снова в идее сверхчеловека. Ницше использует здесь язык, показывающий нечто такое, что можно назвать ключевым переживанием, и мы видим, что сверхчеловек на самом деле значит для него. Это проявление Бога в человеке, Бог рождается из человека и это мистерия трансмутации или пресуществления, а именно, Бог рождается и продолжается во плоти» [7, т. 3, c. 60]. Но, с другой стороны, сверхчеловек представляет собой некий эрзац, некую замену и подмену христианской идеи. Действительно ли христианское послание настолько себя исчерпало, настолько было искажено всевозможными толкованиями, что нам не остается ничего, кроме изобретения новых идей и нового послания? Действительно ли некогда новое вино христианства стало настолько старым, что требует столь радикального обновления? Вопреки риторике самого Ницше, сверхчеловек не является подлинно новым символом, идущим из глубин коллективного бессознательного. Это во многом изобретение самого Ницше, базельского профессора в отставке. Это не новый символ, но лишь новое именование того символа, который известен как минимум две тысячи лет.
Идея сверхчеловека таит в себе опасность, что божественное в человеке будет заменено обожествленным человеческим. Тогда уже не Бог будет проявляться в человеке, но сам человек станет возвышаться до уровня Бога. Юнг характеризует подобное состояние с помощью понятия «инфляция».
Юнг уделяет достаточно много внимания психологическому анализу случая Ницше. Каким должен быть человек, написавший книгу под названием «Так говорил Заратустра»? Что происходит в душе у человека, которому в голову приходят подобные мысли, из каких внутренних переживаний рождаются идеи такого масштаба? Здесь вспоминается история, как Георг Брандес оказался разочарован фотографическим портретом Ницше: «Вы должны выглядеть по-другому; на лице того, кто написал Заратустру, должно быть написано гораздо больше тайн» [12, c. 317]. Знакомый с Ницше только по его текстам датчанин ожидал увидеть на фотографии по меньшей мере ветхозаветного пророка или хотя бы языческого жреца. А увидел обыкновенного наумбургского немца. В своей человеческой ипостаси Ницше действительно не соответствовал тем амплуа, которые примерял на себя в своих сочинениях: «Видите ли, из контекста вы могли бы сделать вывод, что говорит condottiere из эпохи Ренессанса. Тогда как в действительности вы обнаружите приятного, очень нервного, полуслепого человека, страдающего от головных болей и никак не соприкасающегося с миром. Он сидит в углу домика в Энгадине и мухи не обидит» [7, т. 4, c. 234]. Брутальные и эпатажные высказывания Ницше в духе «падающего подтолкни» представляют собой лишь фантазматическую компенсацию комплекса неполноценности: «Бедный, симпатичный, полуслепой профессор Ницше не имеет с этим ничего общего, так что ему кажется, что было бы к лучшему, если бы ему удалось заполучить красную бороду Чезаре Борджиа, или немного прожорливости и силы льва, или сексуальной грубости быка» [7, т. 4, c. 232].
Однако случай Ницше не исчерпывается проблемами сугубо частного характера. Здесь мы имеем дело не просто с больным профессором, страдающим от мании величия и сходящим под конец с ума. В личной драме Ницше отразился кризис целой цивилизации. Христианство, долгое время служившее духовной основой западного мира, вступило в кризисную фазу своего существования. Выражение и переживание божественного в христианских символах становится все более проблематичным, люди сталкиваются с задачей поиска иных символов. Ницше отчаянно искал этот новый символизм то в музыкальной драме Вагнера, то в мистических культах Античности, смысл которых был основательно забыт уже самими греками в период эллинизма, а возможно и еще раньше. Под конец утомленный бесплодными поисками профессор классической филологии обращается к фигуре древнего (древнее, чем древние греки) персидского пророка Заратустры. И отождествляется с ним. На языке юнгианской психологии подобное сопоставление с архетипом означает инфляцию: «Ницше в инфляции из-за регрессии образа Бога в бессознательное, и это заставляет его искать равновесия в новой проекции в форме Заратустры. Но Заратустра – это сам Ницше» [7, т. 4, c. 297].
Сравниваясь с Заратустрой, Ницше в конечном итоге отождествляется с Богом, что, в свою очередь, с фатальной неизбежностью приводит к краху человеческого в его собственной личности: «Никакой человеческий ум не способен быть вселенским, Всем. Только ум Бога – это Все. Так что когда Ницше растворяется в уме Бога, он уже не человек» [7, т. 4, c. 143]. Человеческое начало в Ницше приносится в жертву сверхчеловеческому: «И потому Ницше, будучи в инфляции из-за этого архетипа Заратустры, потерял человечность; человек, ассимилированный таким архетипом, непременно потеряет человечность. Он сверхчеловек. Так архетип использует человека просто как инструмент. Архетип будет стараться выразить только себя. Заратустра говорит свои наставления, пользуясь телом Ницше, а обычный человек Ницше не существует. Он просто исчез» [7, т. 1, c. 204].
Когда обычный человек предпринимает попытку расширить свое сознание до уровня божественного, он сам подготавливает условия для собственного падения. Действенный путь достижения единства божественной и человеческой природы был указан в христианстве. Ницше следовало бы с большим вниманием отнестись к опыту христианских подвижников и увидеть в этом опыте нечто большее, чем волю к нигилистическому отрицанию мира и жизни. К соединению с божественным ведет путь смирения и покаяния, в то время как самовозвышение ведет только к гибели. То, что Юнг называет инфляцией, на языке христианской аскетики определяется как прелесть. Ницше впал в прелесть. Иначе бы он смог понять, что благодать или, в терминах Юнга, самость стяжается не через раздувание собственного эго до вселенских масштабов: «Самость не отождествляется ни с каким конкретным индивидуумом. Самость – это нечто инородное по отношению ко внешнему существованию. Это центр личности, центр тяжести, не совпадающий с эго, словно это нечто внешнее» [7, т. 2, с. 32]. Или то же самое, но на языке религиозного опыта: «Настоящий пророк не отождествляется с Яхве» [7, т. 1, c. 202].
Ницше отождествился с Заратустрой. Как с психологической, так и с религиозной точки зрения его состояние может быть охарактеризовано как одержимость: «Ницше – это обычный исторический человек, традиционный христианин, и его особая точка зрения в “Заратустре” связана с тем фактом, что он одержим архетипом Заратустры, который, конечно, будет говорить совершенно иным языком» [7, т. 3, c. 105]. Если бы христианские символы были живы, Ницше мог бы получить надежную защиту от подобного состояния одержимости. Но в его время христианство выродилось в безжизненные умозрительные построения, а психоаналитики еще не начали практиковать.
За подъемом неизбежно следует спуск. Крайность влечет за собой противоположную крайность: тот, кто мнил себя Богом, должен обязательно почувствовать себя самым жалким червем: «Депрессия означает, что человек был слишком высоко, в полном отчуждении, высоко в воздухе, и единственное, что может спустить его на землю, в собственную изоляцию, к человечности – это депрессия. Ему нужна депрессия, чтобы стать человеком. Он был так раздут, что нужен тяжелый вес, чтобы спустить его вниз» [7, т. 3, c. 263]. В тексте «Книги для всех и для никого» есть немало мест, когда после крайней экзальтации Ницше-Заратустра впадает в глубочайшую депрессию. Практически все, что было написано после «Заратустры» носит депрессивный характер. Экзальтация появляется лишь в «Ecce homo», последней книге, предвещающей наступление катастрофы на жизненном пути Ницше.
В итоге проведенный Юнгом психологический анализ позволяет наблюдать, как происходила в сознании Ницше трансформация понимания задачи его собственной философии и жизни. Сначала речь идет о том, чтобы найти божественное начало в современном мире и человеке. Затем эта задача меняется: как раз ко времени написания «Заратустры» основной проблемой для Ницше становится поиск средств и путей, позволяющих самому человеку стать Богом. Наконец, в период после «Заратустры» происходит еще одна, финальная и фатальная трансформация: теперь Ницше решает вопрос как непосредственно ему, полуслепому базельскому профессору, стать Богом. Уже в «Заратустре» можно найти предвосхищение этой трансформации: «Но я хочу совсем открыть вам свое сердце, друзья мои: если бы существовали боги, как удержался бы я, чтобы не быть богом!» («Aber dass ich euch ganz mein Herz offenbare, ihr Freunde: wenn es Götter gäbe, wie hielte ich’s aus, kein Gott zu sein!») [15, т. 4, c. 88]. Пока это сказано от имени Заратустры. Но в «Ecce homo» Ницше будет высказывать подобные идеи от себя лично.
Стиль «Так говорил Заратустра» соответствует основной задаче ницшевской философии: в условиях смерти Бога стать Богом самому. Ницше не всегда говорит об этой задаче открыто, возможно, не всегда осознает ее. Но характер письма выдает его с головой: «Ницше отождествляется с божественным на манер ветхозаветных пророков, и его стиль подражает языку пророков. Он естественно предпочитает несколько священнический стиль» [7, т. 4, c. 157]. Многочисленные отсылки к Ветхому и Новому Завету, цитаты и стилизации обнаруживают намерения Ницше: «Для него это было откровение. Он действительно думал, что создал нечто вроде новой религии» [7, т. 4, c. 256].
В целом стиль книги может быть охарактеризован как маниакально-депрессивный. Крайнее возбуждение, экзальтация сменяется глубочайшей депрессией. Когда Ницше в инфляции, он возбужден, его речи присущ возвышенный проповеднический пафос. Заратустре это вполне подходит, поскольку он – пророк, это его язык, его стиль. Вся беда в том, что Ницше не дистанцируется от фигуры Заратустры, но отождествлен с ним. Отсюда возникает некий комический и гротескный эффект: профессор XIX столетия, в костюме, в очках и в цилиндре, говорит как древний пророк… В интонации чувствуется неестественность, фальшивая натянутость, на что и указывает Юнг: «Как это бывало и раньше, я был впечатлен ненатуральностью стиля, ужасно раздутым, преувеличенным способом Ницше изъясняться» [7, т. 4, c. 157].
Однако экзальтация проходит, и Ницше оказывается буквально раздавлен осознанием несоответствия своей реальной личности и колоссального масштаба взятой на себя задачи. Время от времени Ницше понимает, что он совсем не Бог и даже никакой не пророк, а всего лишь обыкновенный человек и даже слишком человек. Тогда в тексте появляются мрачные страницы, в деталях описывающие состояние подавленности и утраты веры в себя и свою задачу. Но впоследствии Ницше-Заратустра «преодолевает» это состояние и возвращается к приподнятому настроению, снова впадает в инфляцию.
В главе «Выздоравливающий» («Der Genesende») представлено достаточно натуралистическое описание чередования маниакальной и депрессивной фазы. Сначала Заратустра впадает в крайнее возбуждение: «Однажды утром, вскоре после возвращения своего в пещеру, вскочил Заратустра с ложа своего, как сумасшедший, стал кричать ужасным голосом, махая руками, как будто кто-то лежал на ложе и не хотел вставать» [15, т. 4, c. 220]. Затем, почти сразу, наступает истощение, переходящее в оцепенение: «Но едва Заратустра сказал слова эти, как упал замертво и долго оставался как мертвый. Придя же в себя, он был бледен, дрожал, продолжал лежать и долго не хотел ни есть, ни пить. Такое состояние длилось у него семь дней» [15, т. 4, c. 220]. Здесь Ницше, очевидно, описал свой собственный опыт. Заратустра – архетипическая фигура, существующая вне времени, подобные переживания и состояния для него просто невозможны. В депрессию впадает Ницше, когда Заратустра его покидает, и он остается наедине с самим собой, каков он есть на самом деле – слабый и больной, оторванный от своего времени и окружения. Но вскоре Ницше «выздоравливает», то есть снова впадает в инфляцию, отождествляется с Заратустрой. Теперь говорит уже не он, но архетип в нем: «Заратустра направляет пишущую руку. Заратустра как река, текущая сквозь него, и Ницше лишь средство самовыражения для Заратустры. Порой это негодное средство – слишком узкое, зажатое, не вполне чистое» [7, т. 3, c. 145].
Таким образом, язык «Заратустры» своей гротескной возвышенностью выдает отчаянную и напряженную попытку раздуть человеческое эго до уровня божественного. Иногда Ницше удается удержаться на этой высоте достаточно долго, но падение неизбежно.
Вместе с тем у Ницше получается прикоснуться к подлинно божественному – в тех местах текста, где язык приобретает характер музыкального звучания: «В главе “Ночная песнь” он глубоко осознает природу духа. Когда такое происходит в “Заратустре”, его язык становится подлинно божественным; порой он бывает причудливым, часто блестящим и интеллектуальным, но потом он теряет такое качество и становится музыкальным» [7, т. 3, c. 232]. Здесь Ницше в языке приближается к тому, что невыразимо средствами языка: «Такой язык недостижим. Он, конечно, поэтический, но я бы сказал, что слово поэтический слабо, потому что он такой музыкальный, что выражает нечто от природы бессознательного, которое непереводимо» [7, т. 3, c. 233].
Таким образом, Ницше удается найти определенный способ соотнесения с бесконечным в ситуации, когда Бог мертв. Когда язык его текстов приобретает характер музыкального, тогда становится ощутимым переход к трансцендентному [13; 14]. Однако назвать это путем преодоления кризиса христианской культуры нельзя, поскольку здесь речь идет об эстетическом феномене. Притязания Ницше на создание чего-то такого, что могло бы послужить заменой христианской религии или даже выступить в качестве новой религии, следует признать необоснованными, что и показал психологический анализ К.Г. Юнга.
About the authors
Vyacheslav T. Faritov
Samara State Technical University
Author for correspondence.
Email: vfar@mail.ru
Doctor of Philosophy, Associate Professor, Professor at the Department of Philosophy and Social and Humanitarian Sciences
Russian Federation, SamaraReferences
- Gluxov, A.A. (2014) Perexlest volny`. Politicheskaya logika Platona i postniczsheanskoe preodolenie platonizma. [Wave Overlap. Plato’s Political Logic and Post-Nietzschean Overcoming of Platonism]. Moscow: The Higher School of Economics Publishing House. (In Russian).
- Foucault, M. (2006) Intellektualy` i vlast`: v 3 chastyax. Chast`3: Izbranny`e politicheskie stat`i, vy`stupleniya i interv`yu [Intellectuals and Power: in 3 Parts. Part 3: Selected Political Articles, Speeches and Interviews]. Transl. from French by B.M. Skuratov. Moscow: Praksis. (In Russian).
- Jung, K.G. (2001) Psixologiya bessoznatel`nogo [Psychology of the Unconscious]. Transl. from German by V. Bakusev, A. Krichevsky, T. Rebeko. Moscow: AST. (In Russian).
- Nietzsche, F. (2009-2013) Polnoe sobranie sochinenij: v 13 tomax. Tom 1–13 [Complete Works: in 13 Vols. Vols. 1-13]. Transl. from German by Yu.M. Antonovsky, Ya.E. Golosovker et al. Moscow: Kul`turnaya revolyuciya. (In Russian).
- Chernavskij, A.L. (2025) Krizis tradicionnogo bogosloviya i ego preodolenie [Crisis of Traditional Theology and its Overcoming]. Moscow; Saint Petersburg: Centr gumanitarny`x iniciativ. (In Russian).
- Daurli, D, Edinger, E, Zelensky, V.G. (1999) K.G. Yung i xristianstvo [Jung and Christianity]. Transl. from English by Yu. Donets, M. Zavyalova, V. Zelensky, A. Shurbeleva. Moscow: Gumanitarnoe agentstvo Akademicheskij proekt. (In Russian).
- Jung, K.G. (2024) «Zaratustra» Niczshe. Zapisi seminarov, provedenny`x v 1934-1939 gody: v 4 tomax. Tom 1–4 [Nietzsche’s Zarathustra. Records of the Seminars Held in 1934-1939: in 4 Vols. Vols 1-4. Transl. from English by I.V. Erzin. Moscow: Kastaliya. (In Russian).
- Spengler, O. (2000) Zakat Evropy` [Decline of the West]. Transl. from German by K.A. Svasyan. Minsk: Xarvest, Moscow: AST. (In Russian).
- Yannaras, X. (2014) Xajdegger i Areopagit, ili ob otsutstvii i nepoznavaemosti Boga [Heidegger and Areopagite, or about the Absence and Unknowability of God]. Transl. from Modern Greek by G.V. Vdovin. Moscow: Direkt-Media. (In Russian).
- Faritov, V.T. (2025) Puti russkoj filosofii v svete krizisa evropejskoj metafiziki [Ways of Russian Philosophy in the Light of the Crisis of European Metaphysics]. Saint Petersburg: Aletejya. (In Russian).
- Berdyaev, N.A. (2013) Opy`t e`sxatologicheskoj metafiziki: sbornik nauchny`x trudov 1937-1948: Dux i real`nost`; Opy`t e`sxatologicheskoj metafiziki; E`kzistencial`naya dialektika bozhestvennogo i chelovecheskogo; Czarstvo Duxa i czarstvo Kesarya [Experience of Eschatological Metaphysics: a Collection of Scientific Works 1937-1948: Spirit and Reality; The Experience of Eschatological Metaphysics; Existential Dialectics of Divine and Human; The Kingdom of the Spirit and the Kingdom of Caesar]. Moscow: Knizhny`j Klub Knigovek. (In Russian).
- Nietzsche, F. (2007) Pis`ma [Letters]. Transl. from German by I. Ebanoidze. Moscow: Kul`turnaya revolyuciya. (In Russian).
- Faritov, V.T. (2015) Temporal`nost` i transcendenciya kak gorizont diskursa o by`tii (ot Xajdeggera k Niczshe) [Temporality and Transcendence as a Horizon of Discourse about Being (from Heidegger to Nietzsche)]. In memoriam: Vladimir Il`ich Belozercev: sbornik pamyati Belozerceva V.I. [In Memoriam: Vladimir Ilyich Belozertsev: a Collection in Memory of Belozertsev V.I.]. Ulyanovsk: Ulyanovsk State Technical University, 21-33. (In Russian).
- Faritov, V.T. (2017) Ontologiya transgressii: Gegel` i Niczshe u istokov novoj filosofskoj paradigmy` [Ontology of Transgression: Hegel and Nietzsche at the Origins of a New Philosophical Paradigm]. Saint Petersburg: Aletejya. (In Russian).
Supplementary files