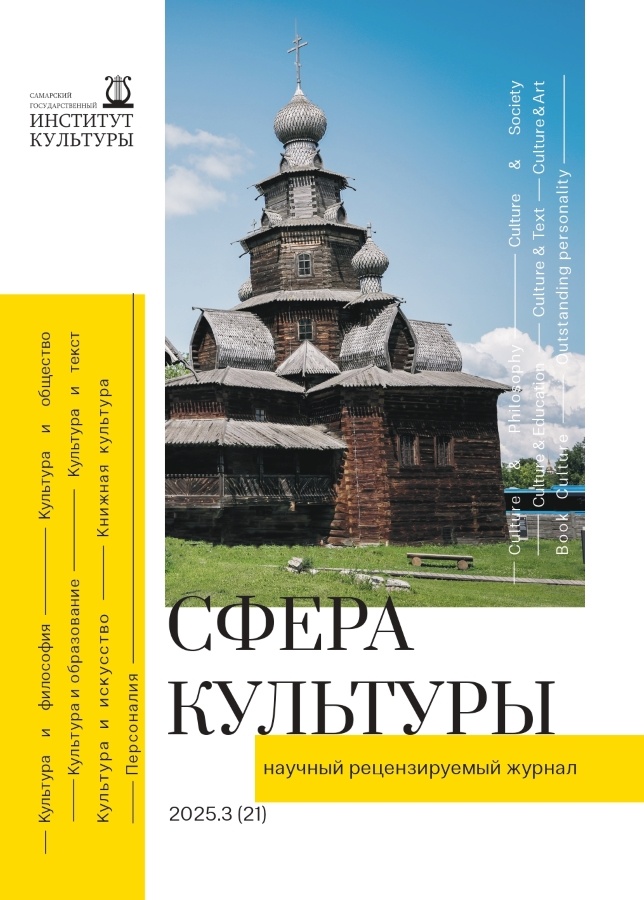A memorial metaphor: essence, genesis, typological diversity
- Authors: Shub M.L.1
-
Affiliations:
- Chelyabinsk State Institute of Culture
- Issue: Vol 6, No 3 (2025)
- Pages: 27-35
- Section: Cultura & Society
- Published: 10.10.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/692619
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2025_21_27
- ID: 692619
Cite item
Full Text
Abstract
A memorial metaphor is a kind of metaphor originated from the semantic, symbolic, structural, visual content of a memorial object. This kind of metaphor can be either an artificial (pre-planned), a natural (spontaneously originated) or a complex one. The present study presents a cultural conceptualization of the memorial metaphor. Its nature, typological diversity and functional potential are revealed. The author identifies various types of the memorial metaphor: spatial-static and spatial-temporal, simple and hidden, stable and variable ones. Arguments are presented which prove that regardless of the type of affiliation, a metaphor performs the most important functions of establishing an effective interaction between the memorial object and its recipient (mnemonic, reducing, manipulative and narrativization functions).
Keywords
Full Text
Метафоричность памяти в современной исследовательской традиции рассматривается, во-первых, чрезвычайно редко, во-вторых, чрезвычайно узко: либо в контексте когнитивных свойств памяти (как механизм операционализации воспоминаний) [1; 2], либо как маркер условности и терминологической размытости мемориальных явлений [3–5]. При этом от ученых довольно часто ускользает важное, на наш взгляд, свойство любого места памяти – внутренняя метафоричность, определяющая природу его функционирования.
Прежде чем перейти к непосредственному разговору о метафоричности мемориальных объектов, обозначим некоторые значимые для его продолжения позиции.
Во-первых, в тексте статьи мы будем использовать в качестве ключевого понятия категорию «места памяти», предложенную П. Нора. Напомним, что французский ученый трактовал места памяти предельно широко – как «всякое значимое единство, материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени превратили в символический элемент наследия памяти некоторой общности» [6, с. 79].
Придерживаясь общей стратегии понимания мест памяти П. Нора, мы позволим себе несколько заузить их смысловое содержание (исключительно для конкретизации предмета обсуждения) до любых мемориальных объектов, имеющих материально закрепленную и пространственно протяженную форму. К такого рода объектам могут относиться отдельные мемориалы, мемориальные комплексы, мемориальные ландшафты, мемориальные музеи и пр.
Во-вторых, под метафорой в самом общем виде мы предлагаем понимать когнитивный прием, основанный на сопоставлении двух (а иногда и более) явлений или объектов по принципу их визуального, смыслового, функционального и любого другого сходства.
В данном случае речь идет не о метафоре как литературоведческой категории и художественном приеме, а как о принципе восприятия реальности, о способе его мыслительной обработки. Это уточнение особенно важно в контексте разговора о мемориальной метафоре, то есть о метафоре, продуцируемой местом памяти.
Подчеркнем, что мемориальная метафора – это не метафора, имеющая некие темпоральные основания и так или иначе связанная с образами времени, прошлого, истории и пр. Точнее, она может быть таковой, но данными характеристиками не исчерпывается. Мемориальная метафора – это метафора, рождаемая смысловым, символическим, структурным, визуальным содержанием мемориального объекта.
В-третьих, мы различаем понятия «символ» и «метафора», хотя в риторике многих исследователей, даже П. Нора, эти категории нередко выступают в качестве синонимов. Вслед за В.И. Шуваловым мы полагаем, что специфика метафоры в сравнении с символом заключается в ее контекстности (зависимости от обстоятельств употребления), динамичности (изменчивости во времени), компаративности (основанности на сходстве явлений и объектов): «В символе, в отличие от метафоры, нет интеракции между главным и вспомогательным субъектами (терминология М. Блэка), т. е. нет элемента избирательного сходства, аналогии либо различия. Если метафора по сути своей контекстуальна, то символ скорее интерконтекстуален. Его стабильность выражается также и в том, что от многократного повторения он лишь выигрывает, в то время как метафора от него потенциально теряет свою образность, переходя со временем в разряд прямых наименований» [7, с. 352].
Значимость разговора о мемориальной метафоре продиктована тем, что Ш. Мейерс назвала «исчерпанностью ресурсов мест памяти» [1]. Под «исчерпанностью» она понимает снижение эффективности воздействия мест памяти на современного человека. Это сопряжено и с перефокусированием внимания людей на другие сферы жизни, связанные не столько с прошлым, сколько с настоящим; и в целом с ослабеванием аттрактивного потенциала мест памяти и общей усталостью от транслируемого ими контента: травматичного, ностальгического, назидательного, идеологического – любого. Выходом из сложившейся ситуации может стать либо «открытие» (и в буквальном, и в переносном смыслах) новых мемориальных локусов, либо переформатирование уже существующих. Последнее возможно, в том числе, за счет раскрытия их метафорического потенциала.
В данном случае речь идет именно об имманентной метафоричности мест памяти, а не о метафоризации языка, их описывающего (например, П. Нора использовал для обозначения мест памяти метафору «останков», а Д. Лоуэнталь – «реликтов», Г. Вейнрих для объяснения историко-культурной специфики памяти – метафоры восковой таблицы и архива).
Одна из актуальных проблем восприятия мест памяти заключается в стабильности и статичности транслируемых ими смыслов. Мемориальный музей «Аушвиц-Биркенау» призван сохранять и визуализировать память о страшных преступлениях нацистов против людей разных национальностей и, шире, человечности. Мемориальный музей 9/11 в Нью-Йорке – память о погибших при террористической атаке на башни-близнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Такая линейность посыла и алгоритмизированность его считывания как раз и приводят к тому, что Ш. Мейерс назвала «исчерпанностью ресурсов мест памяти».
П. Нора, автор понятия «места памяти», противопоставляя память истории, указывал на ее пластичную, эмоциональную, символическую, метафорическую природу [6, с. 75]. Он полагал, что места памяти помогают инкорпорировать в образы прошлого «максимум смысла в минимуме знаков». Л.М. Бондарева вслед за французским ученым назвала память «областью-донором, наиболее активно проявляющей себя в ходе образования концептуальных метафор» [8, с. 70].
На этом основании предположим, что «извлечение» метафорического содержания мест памяти и его интеграция в уже существующую стратегию их позиционирования может стать импульсом к новому витку взаимодействия человека с мемориальным объектом. Это связано, в первую очередь, с эмоциональностью и образностью самой метафоры и с высокой ролью реципиента, участвующего и в ее продуцировании, и в ее считывании.
Д. Дэвидсон наделял метафору свойствами «луча прозрения», который проникает в самую суть вещей и позволяет в формате образной коммуникации передать знания о мире, делая это не директивно, а «соучастливо» (привлекая к этому процессу человека) [9].
Как справедливо отмечает И. Смирнов, «для создания метафор не существует инструкций, нет справочников для определения того, что она означает или о чем сообщает. Метафора опознается только благодаря присутствию в ней художественного начала. Она с необходимостью предполагает ту или иную степень артистизма» [10, с. 81].
Эта мысль опирается на ключевую теоретико-методологическую концепцию метафоричности мемориальных объектов, которую в 2008 г. сформулировали О.Дж. Дуайер и Д.Х. Алдерман [11]. Они предположили, что взаимодействие места памяти и человека строится по принципу театральных подмостков и зрителя, а значит подразумевает игровой элемент, благодаря которому зашифрованные в месте памяти метафоры раскрываются, считываются, усваиваются, сливаются с другими метафорами и возвращаются в итоге к мемориальному объекту в формате его метафорического капитала.
Все метафоры, рождаемые местами памяти, ученые объединили в три группы: метафора текста, метафора арены и метафора перформанса [11, p. 116].
Метафора текста предполагает критическое, рациональное восприятие мемориалов, основанное на знании его истории, контента, социального контекста функционирования и пр.
Метафора арены апеллирует к возможностям социальных дискуссий относительно прошлого и идентичности.
Метафора перформанса связана с возможностями телесно-пространственного взаимодействия человека и мемориального объекта.
«Архив» метафор, заложенных в мемориальных объектах, может быть предельно разнообразным. Он далеко не всегда вписывается в те объемные категории, о которых мы упомянули выше. Однако, на наш взгляд, можно говорить о наиболее общих метафорических типах:
- С точки зрения процесса восприятия:
- пространственно-статичные (или метафоры пространственного хранения и поиска в риторике Г.Л. Роиджера) [2, p. 244]: метафоры, содержание которых считывается с исходной позиции наблюдателя (например, бетонные саркофаги в Мемориале жертв Холокоста в Берлине);
- пространственно-временные: метафоры, считывание которых предполагает освоение физического пространства мемориала (например, мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем, основная метафора которого – «продолжение жизни» – открывается только по завершению самого музейного маршрута выходом на площадку с обзорным видом на Иерусалим).
- С точки зрения очевидности содержания (тип, близкий к метафорам текста О.Дж. Дуайер и Д.Х. Олдерман):
- простые: метафоры универсального содержания, доступные как с точки зрения смыслового посыла, так и с точки зрения визуального считывания (например, метафора бесконечности горя, заложенная в образе уходящего внутрь земли на десятки метров мемориального бассейна музейного комплекса 9/11 в Нью-Йорке);
- скрытые: метафоры, требующие определенной интеллектуальной подготовки, знания контекста появления и функционирования мемориала, творческого почерка его создателя и пр. (например, форма здания Еврейского музея в Берлине в виде асимметричной зигзагообразной линии выступила метафорой страшной трагедии, которая единовременно перечеркнула жизнь Германии и Европы после массового уничтожения еврейского населения – эта метафора считывается только при просмотре здания с высоты птичьего полета и фактически не читается при нахождении внутри здания).
- С точки зрения темпоральной устойчивости:
- стабильные: метафоры с устойчивым содержанием, не меняющие его с течением времени (например, метафорическое содержание мемориального комплекса «Родина-мать» на Мамаевом кургане в г. Волгограде, заложенное изначально скульптором Е. Вучетичем и его коллегами, сохранила свое содержание и по настоящее время);
- изменчивые: метафоры, значение которых намеренно трансформируется в связи с меняющимся историческим и иным контекстом, либо меняется естественным путем вследствие деформации смыслов, ее наполняющих.
О.Дж. Дуайер и Д.Х. Алдерман полагают, что такие изменчивые метафоры представляют собой большинство в объеме всех мемориальных метафор. Такую динамическую природу мемориальной метафоры они называют символической аккрецией: «По аналогии с геологическими процессами осаждения, подъема и эрозии, мемориалы подвергаются символической аккреции с течением времени, когда на них наслаиваются различные символические смыслы, что ставит под сомнение представление о том, что метафоры имеют окончательное, устоявшееся значение. Символическая аккреция часто включает в себя приращение мемориала памятными темами, которые объединяются с его первоначальным значением или подтверждает его. Однако аккреция может использоваться и для добавления альтернативных, не заложенных изначально смыслов» [11, p. 169].
Одним из самых интересных примеров практического функционирования символической аккреции может стать кейс мемориала «Битва на Канал-стрит», изначально в 1891 г. установленного как символ победы Белой лиги1 над республиканскими силами штата. Однако сразу после установки этот памятник превратился в символ расового превосходства «белых над черными», а белый мрамор, из которого он был высечен, стал метафорой этого доминирования. В 1932 г. на памятнике появилась табличка, по сути закрепляющая данную метафору, – в ней говорилось о превосходстве белой расы. В 1974 г. табличку демонтировали, заменив новой, надпись на которой гласила, что данный мемориал отражает участие в определенном историческом событии обеих сторон конфликта. А в 2017 г. демонтировали и сам памятник, поскольку «искусственная» (инициированная властями) аккреция не смогла трансформировать содержание изначальной мемориальной метафоры.
Практически все ученые, занимающиеся проблемой мемориальной метафоры, отмечают ее динамический характер, многозначность (палимпсестность), вариативность и контекстуальность (способность реагировать на меняющиеся обстоятельства бытования). Эти характеристики, как мы отмечали выше, в целом свойственны метафоре как таковой – в случае мемориальной метафоры они приобретают несколько утрированное звучание. Так, например, Ф. Шафия в исследовании, посвященном изучению «физической конструкции мемориалов» (форм их материального воплощения), указывала на то, что даже явная, обозначенная, запрограммированная разработчиками метафоричность мемориальных объектов не является ограничением к ее дальнейшему изменению и продуцированию альтернативных расшифровок в сознании зрителей [12].
В данном исследовании обозначен еще один важный тезис: практически все мемориалы, попавшие в выборку, на стадии разработки визуального концепта содержали ключевую метафору – бесконечности, обрыва, бездонности, полета, могилы и пр. – и фактически выстраивались вокруг нее. Такая прочная связь мест памяти и мемориальных метафор во многом продиктована важнейшими функциями, которые такого рода метафоры выполняют.
- Мнемоническая функция.
Результаты многочисленных замеров позволяют говорить о корреляции метафоричности и качества запоминания воспринятой информации. Одним из наиболее известных в данной области стал эксперимент С. Рида и его коллег, которые изучали качество запоминания текстов, содержащего и не содержащего метафоры. Результат был однозначным: метафорически богатое повествование способствовало повышению качества запоминания текста на 90 % [13].
Оговоримся, что упомянутое выше и аналогичные исследования носили широкий тематический характер и не были связаны непосредственно с восприятием мемориальных объектов. Но нам в данном случае важен не сам контент, а роль метафоры в его усвоении.
- Редуцирующая функция.
Метафора способна переводить сложный язык фактов и понятий на язык образов, универсальных и понятных аудитории в большей или меньшей степени. С.Э. Кокс назвала это свойство мемориальной метафоры «магическим снижением интеллектуальной тревожности» [14, p. 3].
- Функция нарративизации.
Метафора служит основанием выстраивания мемориального нарратива – он формируется вокруг ключевого метафорического послания, наращивая на него факты, визуальный контент, динамические стратегии освоения мемориального объекта и пр. Т. Сарбин, родоначальник нарративной психологии, утверждал, что люди осмысливают и структурируют свой опыт через метафоры, и одна из самых фундаментальных среди них – метафора нарратива. Такая «корневая метафора» упорядочивает разрозненный человеческий опыт в относительно устойчивое и стройное повествование, согласуемое как с уже имеющимися представлениями о мире, так и с вновь получаемыми знаниями о нем [15].
- Манипулятивная функция.
Как было замечено выше, исследование Ф. Шафии и ее коллег позволило прийти к выводу о том, что изученными ими мемориальные объекты на стадии разработки имели в своем концептуальном оформлении некую центральную метафору. Во многом заложенный в места памяти метафорический потенциал позволяет заранее спрогнозировать и стратегии их восприятия, и схемы интерпретации, и характер эмоционального отклика. Как справедливо отмечает С.Е. Кокс, «метафоры формируют понимание проблемы и кодируют ее содержание, создавая определенную точку зрения для своих читателей, а точнее – считывателей» [14, p. 7].
Таким образом, мемориальная метафора имманентно заложена в содержательно-образной структуре каждого места памяти. Её объективация (как на визуальном уровне, так и на уровне нарратива) способна переформатировать сценарии взаимодействия аудитории с мемориальными памятниками, сделав их более аттрактивными, разнообразными и эффективными. Любое место памяти, на наш взгляд, не является «вещью-в-себе», а выступает «открытым произведением», в терминологии У. Эко. Этот переход от герметичности к открытости, от смысловой замкнутости к расширению интерпретативных ресурсов, от линейности мемориального нарратива к его ризоматичности возможен во многом благодаря корректной «работе» с мемориальной метафорой как образно-символическим потенциалом мемориального объекта.
В рамках данной статьи мы остановили свое внимание на вопросах теоретической концептуализации феномена мемориальной метафоры. Значимым и перспективным, как мы полагаем, является продолжение исследования в направлении анализа реальных кейсов функционирования мемориальных метафор различных мест памяти, анализа национальных, контекстуальных, событийных условий их бытования.
Отметим также, что современные memory studies все чаще апеллируют к понятию «метафора» с целью описания как природы самой памяти, так и социальных механизмов ее бытования. В актуальной мемориальной риторике для решения этих исследовательских задач чаще всего используются две предельно общих метафоры – хранилища (память как определенный объем накопленных знаний) и соответствия (в английских текстах она звучит как «correspondence metaphor»), подразумевающая совпадение воспоминаний с реальными событиями, имевшими место в далеком или недавнем прошлом. При очевидной значимости «расширения метафорического поля понятий, описывающих мемориальные явления» [16, p. 167], нам представляется важным смещение исследовательского внимания с изучения метафоры как инструмента описания памяти на изучение метафоры как инструмента трансляции памяти, то есть мемориальной метафоры. Именно такая добавочная оптика, на наш взгляд, может решить те злободневные задачи современной мемориалистики, о которых мы говорили в начале статьи.
1 Демократическое объединение «белого» населения штата Луизиана, ущемляющее политические права чернокожего населения.
About the authors
Maria L. Shub
Chelyabinsk State Institute of Culture
Author for correspondence.
Email: shubka_83@mail.ru
Doctor of Cultural Studies, Professor, Professor at the Philosophy and Cultural Studies Department
Russian Federation, ChelyabinskReferences
- Meyers, Ch. (2025) The conceptual metaphors of memory: Cases of interdomanial nomadism from computer science to quantum computing. Lexis Journal in English Lexicology. Words About, No. 1, 1-30. (In English).
- Roediger, H.L. (1980) Memory metaphors in cognitive psychology. Memory & Cognition. Psychonomic Society, Vol. 8 (3), 231-246. (In English).
- Golovashina, O.V. (2021) «Memorial`ny`e vojny`»: mezhdu metaforoj i konceptom [“Memorial Wars”: between Metaphor and Concept]. Tempus et Memoria [Tempus et Memoria], Vol. 2, No. 1, 43-52. (In Russian).
- Golovashina, O.V. (2022) Mesta pamyati: mezhdu metaforoj i konceptom [Places of Memory: between Metaphor and Concept]. Sociologiya vlasti [Sociology of Power], Vol. 34, No. 1, 18-38. (In Russian).
- Gur`yanov, V.G. (2015) Gorodskaya pamyat` kak metafora i kak oblast` issledovanij [Urban Memory as a Metaphor and as a Field of Research]. Artikul`t [Articult], No. 1 (17), 13-26. (In Russian).
- Nora, P. (1999) Franciya-pamyat` [France-Memory]. Transl. from French by D. Khapaeva. Saint Petersburg: Publishing House of the Saint Petersburg University. (In Russian).
- Shuvalov, V.I. (2017) Simvol i metafora v yazy`ke i rechi [Symbol and Metaphor in Language and Speech], Prepodavatel` XXI veka [A Teacher of the XXIst Century], No. 3, 349-355. (In Russian).
- Bondareva, L.M. (2009) K metaforike pamyati (staticheskij i dinamicheskij aspekty`) [To the Metaphor of Memory (Static and Dynamic Aspects)]. Voprosy` kognitivnoj lingvistiki [Questions of Cognitive Linguistics], No. 4 (21), 70-78. (In Russian).
- Davidson, D. (1990) Chto oznachayut metafory` [What Metaphors Mean]. Transl. from English by M.A. Dmitrovskaya. Teoriya metafory` [Theory of Metaphor]. The Introd. Art., Compl. by N.D. Arutyunova. Moscow: Progress, 172-193. (In Russian).
- Smirnov, I. (2016) Metafora kak ob``ekt nauchny`x issledovanij [Metaphor as an Object of Scientific Research]. International Journal of Humanities and Natural Sciences //International Journal of Humanities and Natural Sciences, Vol. 2, 80-83. (In Russian).
- Dwyer, O.J., Alderman, D.H. (2008) Memorial landscapes: analytic questions and metaphors. GeoJournal, No. 73, 165-178. (In English).
- Shafiei, F., Ghassemzadeh, H., Ashayeri, H. (2022) Effect of Conceptual Metaphors on Memory: A Preliminary Study on the Visual and Auditory. Recalling British Journal of Teacher Education and Pedagogy, Vol. 1, No. 1, 90-100. (In English).
- Read, S. J., Cesa, I. L., Jones, D. K., Collins, N. L. (1990) When is the federal budget like a baby? Metaphor in political rhetoric. Metaphor and Symbol, No. 5 (3), 125-149. (In English).
- Cox, S.E. (2016) Metaphor and Memory: How Metaphors Instantiate Schemas in and Influence Memory of Narrative. Oberlin College. Oberlin (USA). URL:https://digitalcommons.oberlin.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1226&context=honors (Accessed 12.06.2025). (In English).
- Sarbin, T. (1986) Narrative Psychology: The Storied Nature of Human Conduct. New York: Praeger Publishers. (In English).
- Koriat, A., Goldsmith, M. (1996) Memory metaphors and the real-life/ laboratory controversy: Correspondence versus storehouse conceptions of memory. Behavioral and Brain Sciences, Vol. 19, Issue 2, 167-188. (In English).
Supplementary files