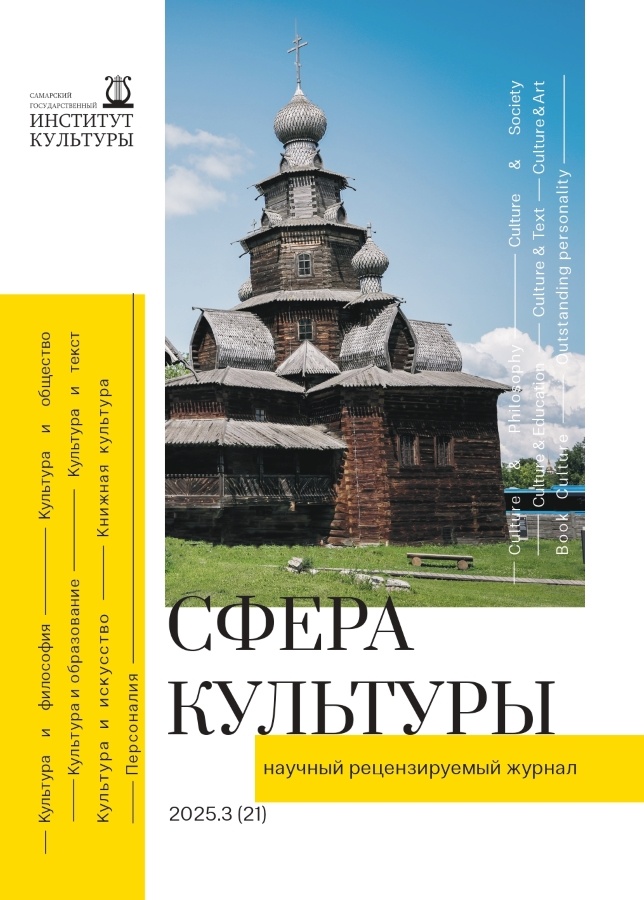Expressionist painting: structural analysis
- Authors: Sevostyanov D.A.1
-
Affiliations:
- Novosibirsk State Medical University
- Issue: Vol 6, No 3 (2025)
- Pages: 85-93
- Section: Сulture & Arts
- Published: 10.10.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/692633
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2025_21_85
- ID: 692633
Cite item
Full Text
Abstract
The study presents a structural and functional analysis of the pictorial activity of the predecessors of expressionism. It is shown that this direction of art is not limited to traditionally recognizedhistorical frameworks. Many contemporary artists continue to develop expressionism traditions. The understanding of the aesthetic impact of expressionists’ works is based on the concept of the emotional effect of the perception of traces of active pictorial action in combination with the color impact. The individuality of images in the work of expressionists is based on the peculiarities of the artist’s pictorial “handwriting”. The author notes the difference between the extent of popularity the works of a particular expressionist artist and demand for them, on the one hand, and the real aesthetic value of such works, on the other.
Full Text
Исследование такого художественного направления, как экспрессионизм, сохраняет значительную актуальность. Даже если бы данное направление целиком представляло собой лишь достояние истории, то и в этом случае оно являлось бы весьма привлекательным объектом познавательного интереса. Однако, помимо всего прочего, экспрессионизм остается вполне современным явлением художественной культуры, и есть все основания полагать, что в ближайшем будущем он сохранит такие позиции.
Экспрессионизм – это многоплановое явление, которое в специальной литературе бывает представлено различным образом. В некоторых случаях оно рассматривается как вполне конкретное художественное течение, ограниченное определенным и поименно известным кругом единомышленников и отчетливо локализованное в пространстве и во времени. В результате продолжение традиции, заложенной экспрессионистами, снабжается приставками «нео-» и «пост-» в разнообразных сочетаниях, что отражает, конечно, позицию исследователя, но не затрагивает суть рассматриваемого предмета.
Так, традиционно принято считать, что родиной экспрессионизма была Германия. К нему относят творчество художников, входивших в два объединения– «Мост» и «Синий всадник». Первое существовало в 1905–1913 гг. в Дрездене, затем в Берлине; его представляли Фриц Блейль, Эрнст Людвиг Кирхнер, Эрих Хеккель и Карл Шмидт-Ротлуф. Второе относится к 1911–1914 гг. и действовало в Мюнхене; его представители – Василий Кандинский и Франц Марк. Однако круг авторов, по духу принадлежавших к экспрессионизму, шире. Существовали в те же времена и так называемые «независимые экспрессионисты», формально не примыкавшие к вышеупомянутым художественным группировкам или в скором времени вышедшие из них (Эрнст Барлах, Эмиль Нольде, Отто Дикс, Макс Пехштейнидр) [1, с. 138-139]. К представителям данного направления обоснованно относят, например, и таких художников, как родившийся в Италии и живший в Париже Амедео Модильяни, а также Хаим Сутин, уроженец Российской империи, перебравшийcя затем в Париж. Изучению деятельности упомянутых авторов и художественных объединений посвящено множество исследовательских работ. Вероятно, к этим работам есть что добавить; однако следует признать, что данная тема уже разработана и весьма глубоко. Впрочем, самоограничение по месту, времени и персоналиям, присущее такому подходу, вызывает много вопросов – в частности, о том, допустимо ли считать экспрессионистами художников, работавших в иные времена и на иной культурной почве.
Экспрессионизм может быть представлен и как эстетическая концепция, как определенное отношение к миру, выраженное в искусстве. Тогда в пределы данного понятия могут быть включены, помимо изобразительного, любые другие виды искусств. Таким образом, проявления экспрессионизма обнаруживаются в художественной литературе, в театре, в танце, в музыке, в кинематографе соответствующей эпохи; и по каждому из перечисленных видов искусства в этом плане к настоящему времени проведено огромное количество исследований и создана весьма значительная историография.
Наконец, если вернуться к изобразительному искусству (а конкретно – к живописи), то экспрессионизм предстает перед нами в качестве определенной манеры создания художественных изображений. Применение такой манеры уже не ограничивается ни географическими, ни временными рамками. Разумеется, при данном подходе ничто не препятствует нам утверждать, что и ныне существуют практикующие художники-экспрессионисты и в будущем, весьма вероятно, они тоже никуда не исчезнут. В данном случае предметом исследования становятся не те или иные персоналии из истории искусств, не их творческие объединения, не их взаимное влияние и прочее в этом роде. Здесь следует обратить внимание на характерные особенности самого творческого акта, которые и позволяют обособить данное художественное направление – не только формально, но и фактически. Именно при реализации такого подхода обнаруживается ряд нерешенных вопросов, заслуживающих обсуждения. При этом становится заметно, как мало порой значат названия (а тем более самоназвания) тех или иных направлений и школ в художественной культуре. Впрочем, название рассматриваемого течения в искусстве следует признать вполне удачным и адекватно отражающим его суть.
Особенностью экспрессионизма является то, что он стал порождением и знамением времени, и очевидно, что его появление было предрешено. Если бы те художники, которые ныне считаются основателями экспрессионизма, уклонились от этой миссии, то, вероятнее всего, создателем данного направления считался бы кто-нибудь другой. Как указывал П.М. Топер, экспрессионизм «начинался не с манифестов и деклараций, не из одного центра, а спонтанно и в разных местах, словно сам собой, с яркой и дерзкой художественной практики. Манифесты и декларации появились позднее, причем они значительно отличались друг от друга и далеко не всегда совпадали по своим устремлениям ни между собой, ни с реальным художественным творчеством» [2, с. 6]. Уже одно это делает экспрессионизм чрезвычайно интересным предметом исследования.
Известно, что экспрессионизм делает акцент не на изображении реальности, а на том, чтобы выразить отношение к ней, причем субъективные процессы в психике художника (душевные переживания и чувственный опыт) становятся значительнее объективной реальности. «Его главной особенностью, – отмечает А.Ю. Королева, – было отношение к изображаемым объектам, как к возможности выражения собственных художнических устремлений» [3, с. 455]. Объективная реальность трактуется лишь как первоисточник чувств, как отправная точка для эмоциональных процессов, а как основной предмет творчества художника она уже не рассматривается. А поскольку эта объективная реальность, очевидно, не соответствует представлению о прекрасном и должном (вспомним социальную и политическую атмосферу в Европе во время Первой мировой войны, а также и сразу после ее завершения), то она оценивается как «враждебная действительность», как несовершенный мир, лишенный гармонии. «Отсюда, – пишет Л.В. Лозовая, – стремление подчеркнуть безобразное, преувеличить формы, исказить пропорции. Изображение действительности деформируется ради большей выразительности в передаче духовного мира художника. При этом экспрессионизм не отказывается от предметности, от отражения, хотя в нем и существует стремление уйти в сторону беспредметности» [4, с. 117]. Но можно ли сказать, что таким описанием исчерпывается характеристика творчества экспрессионистов? Разумеется, нет.
В обстановке начала XX столетия стало реальностью некоторое изменение функций искусства в целом и живописи в частности. Прежде эти функции проявлялись по-разному, образуя в совокупности иерархическую систему. Все такие функции перечислять здесь нет смысла, остановимся лишь на некоторых. Так, можно выделить миметическую функцию живописи (состоит в подражании реальности вне зависимости от того, действительная ли это реальность или фантастическая). Известна также сакральная функция (проявляющаяся в изображениях священных объектов, а также в общем благоговейном отношении к искусству как к реализации необыкновенной одаренности, которая сама по себе, как многими считается, имеет божественное происхождение). У искусства, кроме того, имеется эстетическая функция (которая состоит в том, чтобы вызвать у зрителя эмоцию или, вернее, целый комплекс таких эмоций). Наконец, существует и индивидуализирующая функция (соответственно, позволяющая художнику проявить на публике свою неповторимую индивидуальность).
Ранее в этой иерархии, несомненно, превалировала сакральная функция; весьма заметна была также миметическая функция, которая успешно с ней конкурировала. Прочие функции хотя и проявлялись, однако выступали, так сказать, на вспомогательных ролях. Но на рубеже XX в. в данной иерархии функций произошли существенные изменения, и их, разумеется, лишь усугубила обстановка социального и экзистенциального кризиса (сопряженного с мировой войной и ее последствиями). Сакральная функция искусства главным образом осталась в прошлом, сохранилась лишь ее вторичная форма (под ее влиянием мы и поныне именуем музей «храмом искусств»). Миметическая функция отошла в основном к фотографии (финалом этого стало появление цветной фотографии, которая, хотя и не вошла к тому времени в повседневность, была тем не менее уже хорошо известна в богемных кругах). Итак, две ранее основополагающие функции полностью утрачены не были, но главенствовать перестали. При этом эстетическая и индивидуализирующая функции живописи вышли на первый план. И апофеозом исполнения именно этих функций стало искусство экспрессионистов.
Рассмотрим, каким образом они реализовались в творчестве представителей данного направления. Начнем с функции эстетической. Появление живописи экспрессионистов знаменовало собой не только возрастание роли эстетической функции изобразительного искусства, но и качественное изменение того, как именно она исполнялась. Произошел переход от умышленного и продуманного инициирования эмоциональной реакции зрителя (с использованием определенных приемов, закрепленных академической традицией) к непосредственной передаче эмоций от художника зрителю.
Каким образом, в принципе, художник может вызвать у зрителя ту или иную эстетическую эмоцию? Прежде всего, следует различать два момента: что преимущественно изображалось на картинах тех, первых, «настоящих» экспрессионистов, и как это изображалось. О.М. Климова отмечает, что «в историческом движении живописи выделяют две взаимообусловленные, но часто противопоставленные ориентации – физиопластическую и идеопластическую. Физиопластика связана с доминированием изобразительности (фигуративности), идеопластика – с преобладанием выразительности, знаковости (нефигуративности)» [5, с. 89].
В любом виде искусства (из тех, что прямо или косвенно могут быть отнесены к изобразительным) существует, по крайней мере, два канала для передачи зрителю или пробуждения у него соответствующих эмоций. Это, во-первых, фабула произведения. Данный канал – неспецифический, равно присущий всем видам искусств: и живописи, и графике, и литературе, и даже балету. Применительно к живописи фабула есть запечатленный в изображении рассказ; глядя на картину, мы можем узнать и описать в словесной форме, что именно здесь представлено. Показанные объекты и их сочетания могут быть значимы как сами по себе, так и в качестве носителей некоторого внешнего смысла, то есть выступать как символы, обозначающие нечто иное, нежели сам такой объект. Фабула может быть весьма пространной (например, в жанровой живописи), может быть и довольно лаконичной, но она, как правило, есть всегда. К одному из слоев фабулы, в частности, относится цветовое решение картины, поскольку цвет здесь проявляется не только как средство для наиболее полной реализации миметической функции, но и как носитель определенного символического значения. Сюда же может быть отнесена и композиция картины, в которой также нередко скрывается некоторая символизация.
Второй, специфический, канал передачи эмоциональной информации (именно в живописи) – это выразительная моторика, которая может быть обозначена как «почерк» художника. Адекватно передать воздействие этого канала в словесной форме в принципе невозможно; оно не только невербально, но и вообще не подлежит вербализации. Словесным воздействием мы можем, конечно, вызвать «примерно такую же» эмоцию, но никогда не такую же в точности. Технически воздействие данного эмоционального канала проявляется в характере протяженных изобразительных элементов (линий, контуров, мазков), каждый из которых представляет собой след определенного активного двигательного акта художника. Поскольку всякий человек (и любой зритель) всю жизнь осуществляет восприятие чужих двигательных актов и, исходя из этого, составляет представление о психологических особенностях и состояниях других людей, то и следы выразительных движений, запечатленные на плоскости, вызывают аналогичный эффект. Мало того, зрителю и самому приходится проявлять двигательную активность, и он непременно (хотя и бессознательно) сопоставляет результаты моторных актов художника на изобразительной поверхности с ощущениями от собственных движений.
Проявление этого специфического канала в произведениях живописи непостоянно. Иногда он, по существу, не задействован вовсе – в тех случаях, когда мы при всем желании не можем обнаружить в готовом изображении видимый след какого бы то ни было определенного двигательного акта. Некоторые направления и школы живописи исключают всякое самостоятельное проявление выразительной моторики. Однако именно экспрессионисты взяли этот эмоциональный ресурс на вооружение и сполна воспользовались им. Этот же творческий прием в большей мере обусловливал и проявление индивидуализирующей функции искусства, ибо «почерк» художника действительно индивидуален и неповторим. Активная выразительная моторика в сочетании с символически нагруженным цветовым решением (а в некоторых случаях и без него) стала визитной карточкой экспрессионизма в живописи. Этот фактор проявился в работах экспрессионистов настолько явно, что поистине удивительно, как во многих случаях он ускользал от глаз исследователей.
Ранее не раз поднимался вопрос: какие признаки могут поставить творчество того или иного художника в контекст экспрессионизма? О.А. Грингольц отвечает на этот вопрос так: «Стремление к ”одухотворенной” выразительности, вероятно, является наиболее общим критерием, вытекающим из самого названия художественного течения» [6, с. 137]. Манера, в которой создавались и создаются картины экспрессионистов, описывалась многократно, например, таким образом: «Стилистически экспрессионизм – это, в первую очередь, упрощение формы, уплощение пространства, игнорирование полноценной светотени, упор на цветовые и теневые контрасты, черную подводку. Художники воздействовали на эмоции зрителя, играя грубой, угловатой формой и агрессивным цветом» [6, с. 139]. Однако понимание того, что именно след активного движения на плоскости, запечатленный в работах экспрессионистов, и составляет основу эмоционального воздействия их произведений, в подобных описаниях, как правило, отсутствует.
Очень часто за основу анализа живописи экспрессионистов берется не выбранный ими способ передачи зрителю эмоциональной экспрессии, а само содержание такого эмоционального посыла. Иначе говоря, анализируется главным образом эмоциональное воздействие фабулы данных произведений. А поскольку фабула, как уже говорилось выше, представляет собой канал неспецифический, присущий множеству разных искусств, то это и дает основание рассматривать понятие «экспрессионизм» за пределами живописи, как общую эстетическую концепцию, равно применимую и в скульптуре, и в литературе, и в сценическом искусстве, и в кинематографе. Экспрессионизм в этих видах искусства мы не рассматриваем, но имеем все основания предположить, что и там особую роль должен играть специфический канал передачи эмоциональной информации, в каждом искусстве – свой; в литературе это – уникальный лексикон писателя, а, скажем, в танце – подчиненная музыкальному ритму телесная пластика.
Аналитический подход, при котором основное внимание уделяется одной только фабуле, представляется не вполне состоятельным ввиду своего одностороннего характера. Разумеется, творчество экспрессионистов зародилось в кризисную эпоху и несло ее отпечаток в своем содержании. Но осознание этого вовсе не помогает понять саму суть экспрессионизма. Так, например, А.И. Демченко писал по поводу содержания живописи экспрессионизма следующее: «…Мир вступал в полосу невероятных напряжений и глобальных катаклизмов, что неизбежно должно было сказаться на всей структуре человеческой личности. Вот что вызвало к жизни повышенную, обостренную экспрессию – идущее от лат. выражение, в данном случае это понятие подразумевает сильный, даже болезненный эмоциональный отклик на колебания внутренней жизни и импульсы, исходящие от внешнего мира. Подобная настроенность в конечном счете вылилась в экспрессионизм – художественное течение, сумевшее выразить как общую атмосферу накаленной конфликтности мира, так и круг всевозможных отрицательных эмоций, порожденных этой атмосферой (нервозность, страх, ужас, стрессовые состояния и проч.)» [7, с. 11]. Однако если обратиться к произведениям совсем иной эпохи, то и там мы можем обнаружить сходный по содержанию эмоциональный посыл – например, в работах Иеронима Босха (ок. 1450–1516) [8]. В структурном отношении произведения Босха имеют весьма мало общего с картинами, например, Людвига Кирхнера (1880–1938), и это понятно, а вот содержание их эмоционального воздействия представляется если и не идентичным, то во многих отношениях весьма близким. Можно найти и другие подобные примеры, подчеркивающие, что изучением одной только фабулы изображений ограничиваться недопустимо.
При этом нельзя сказать, что при исследованиях работ экспрессионистов вовсе не уделялось внимания их моторной составляющей. Это зачастую проявляется при анализе работ отдельных художников. Так, например, С. Пургин следующим образом характеризует творчество экспрессиониста Пауля Клее (1879–1940): «Не столь важно, как Клее представляет начало – как творческий акт создателя или как зарождение мировой жизни… Важно то, что движение руки мастера, ведущего линию, оказывается – как феномен жизни – связанным с самим ее началом. <…> При всей важности цвета в основе художественной системы Клее лежит рисунок. Линия рождается из точки. Само ее рождение –первоначальный, “метафизический” акт» [9, с. 229-232]. Но при анализе произведений Клее этот моторный компонент неизбежно сочетается с цветом, который приобретает несомненные символические черты. Вот как пишет о работах Клее В.С. Глаголев: «Умея мастерски работать в жанре фигуративной живописи, он демонстрировал возможности ее разложения на составные элементы и сочетания их в разных вариантах, которые позволяли выявить возможности объемов, красок, линий и их комбинаций, когда такие эксперименты доводились до элементарных структур. Художник руководствовался при этом правилами: “Конструирование конструированием, но воображение – тоже все еще хорошая вещь”; “Я беру линию и иду с ней на прогулку”. <…> Выявляя геометрические структуры и конструктивные тенденции, он уделял постоянное внимание цвету: “Краска владеет мной. Я и краска едины”, искал выражения внутреннего мира в абстрактных колористических и линеарных решениях. В “психограммах” ему удалось выразить архетипические структуры и состояния непосредственности детского восприятия мира и предметов в их движении. Разрабатывались лекала различных конфигураций; их сочетания были призваны выявить фундаментальные модели пространственных отношений и раскрыть взгляд на бесчисленные возможности образов» [10, с. 224-225].
Та эстетическая и художественная новация, которая была осуществлена в работах ранних экспрессионистов, продолжает использоваться и теперь. Проблема для современных искусствоведов состоит лишь в том, что работы многих нынешних художников, придерживающихся эстетической позиции экспрессионизма, так или иначе носят вторичный характер. В произведениях экспрессионистов следует отличать, что называется, «работу всерьез» от простого и бездумного следования рыночной конъюнктуре, при котором часто утрачивается самый смысл и значение той самой «экспрессии».
Оценивая работы современных экспрессионистов, многие авторы идут по простому пути: это значение определяется по востребованности таких работ на рынке. Среди них встречаются и произведения так называемых абстрактных экспрессионистов, которые избегают проявления какой бы то ни было изобразительности в своих работах. Так, например, перечислив ряд современных художников, снискавших славу и приобщенных к десятке «лучших современных художников мира» (среди них британские художники Дженни Савиль и Говард Ходжкин, немцы Георг Базелиц и Альберт Оэлен, швейцарская художница Луиза Боннет, китаец Цзя Айли), Э.А. Радаева пишет: «Выборка из общей поистине гигантской массы творцов изобразительного искусства XXI века, популярных и безвестных, сделана по принципу “лучшие из лучших”. Если картины приведенных нами авторов пользуются успехом на выставках и аукционах и, если в этих полотнах отчетливо проявляются экспрессионистические мотивы, значит востребовано и само искусство экспрессионизма, зародившееся в начале прошлого века и влияние которого можно считать неоспоримым по сей день, несмотря на многообразие новых школ и течений» [11, с. 84].То есть, по ее мнению, «лучшие из лучших» – это те, чьи работы пользуются спросом. Но такой упрощенный подход не может считаться состоятельным. Новейшая история знает немало случаев, когда эстетически ничтожные произведения производили фурор на художественном рынке; нередко бывало и так, что выдающиеся художники (и их работы) прозябали в забвении.
Для адекватной оценки работ экспрессионистов необходимо знание того, каким образом в каждой такой работе осуществляется передача эмоционально значимой информации от художника к зрителю, какую роль играет в этом выразительная моторика художника и символические элементы изображения (в цветовом решении, в особенностях композиции), и как с этим сочетаются особенности фабулы изображения. Фабула передает мысль, ее сопоставление с культурной (и духовной) ситуацией зрителя порождает эмоциональную реакцию. Такая реакция реализуется совместно с эмоцией, которую передает выразительная моторика художника; эти эмоции либо взаимно поддерживают одна другую, либо (что тоже возможно) друг другу противоречат. И только взвешенный анализ этих отношений позволяет осуществлять эстетическую оценку таких произведений на практике. Что же касается работ абстрактных экспрессионистов, то эстетическая значимость таких произведений ограничивается воздействием тех остатков выразительной моторики художника и тех фрагментов фабулы, которые, быть может, еще уцелели в них.
About the authors
Dmitry A. Sevostyanov
Novosibirsk State Medical University
Author for correspondence.
Email: dmitry.sevostyanov1964@yandex.ru
Doctor of Philosophy, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Pedagogy and Psychology
Russian Federation, NovosibirskReferences
- Makarenko, K.V. (2016) Obraz prirody` v zhivopisi nemeczkogo e`kspressionizma [The Image of Nature in the Painting of German Expressionism]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo institute kul`tury` [Bulletin of the Saint Petersburg State Institute of Culture], No. 3 (28), 138-141. (In Russian).
- Toper, P.M. (2008) E`nciklopedicheskij slovar` e`kspressionizma: predislovie [Encyclopedic Dictionary of Expressionism: Preface]. E`nciklopedicheskij slovar` e`kspressionizma [Encyclopedic Dictionary of Expressionism]. Ed. on Chief P.M. Toper. Moscow: Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, 5-20. (In Russian).
- Koroleva, A.Yu. (2022) Mezhdu «vy`rozhdeniem» i «vozrozhdeniem». Zhenskieobrazy` v zhivopisinovojveshhestvennosti[Between “Degeneration” and “Revival”.Female Images in the Painting of New Materiality]. Aktual`ny`eproblemy` teorii i istorii iskusstva [Actual Problems of the Theory and History of Art], No. 12, 450-459. (In Russian).
- Lozovaya, L.V. (2020) Dialektika ob``ektivnogoi sub``ektivnogo v zhivopisi e`kspressionizma [Dialectics of the Objective and Subjective in the Painting of Expressionism]. Ucheny`e zapiski Kry`mskogo federal`nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Filosofiya. Politologiya. Kul`turologiya [Scientific Notes of the Crimean Federal University Named after V.I. Vernadsky. Philosophy. Political Science. Cultural studies], No. 3, 116-124. (In Russian).
- Klimova, O.M. (2018) Bazovy`e modusy` real`nosti xudozhestvennoj kartiny` mira v zhivopisi [Basic Modes of Reality of the Artistic Picture of the World in Painting]. Obshhestvo: filosofiya, istoriya, kul`tura [Society: Philosophy, History, Culture], No. 9 (53), 88-91. (In Russian).
- Gringol`cz, O.A. (2011) E`kspressionizm Xaima Sutina [Chaim Soutine’s Expressionism]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Istoriya [Bulletin of Saint Petersburg University. History], No. 1, 137-142. (In Russian).
- Demchenko, A.I. (2020) Modern I (nachalo XX veka) – magistrali xudozhestvennogo tvorchestva. Ocherk vtoroj [Modern I (Beginning of the XXth Century) – the Backbone of Artistic Creativity. Essay Two]. Manuskript [Manuscript], No. 7, 9-15. (In Russian).
- Kaplan, A.B. (2000) U nachal social`noj mifologii i massovoj kul`tury` [At the Beginning of Social Mythology and Mass Culture]. Chelovek: Obrazisushhnost`. Gumanitarny`easpekty` [Man: Image and Essence. Humanitarian Aspects], No. 1, 44-52. (In Russian).
- Purgin, S. (2021) «Yumoristicheskij kosmos» Paulya Klee i ego temporal`ny`e osnovaniya [Humorous Cosmos by Paul Klee and its Temporal Foundations]. Filosofsko-literaturny`j zhurnal «Logos» [The Philosophical and Literary Journal Logos], No. 6 (145), 217-240. (In Russian).
- Glagolev, V.S. (2009) Zapadnoe iskusstvo XX – nachala XXI veka: posledstviya e`liminacii ontologii [Western Art of the XXth – Beginning of the XXIst Century: the Consequences of the Elimination of Ontology]. Vestnik Russkoj xristianskoj gumanitarnoj akademii [Bulletin of the Russian Christian Humanitarian Academy], No. 2, 223-233. (In Russian).
- Radaeva, E`.A. (2022) Tradicii e`kspressionizma v sovremennom mirovom izobrazitel`nom iskusstve [Traditions of Expressionism in Contemporary World Fine Arts]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. Social`ny`e, gumanitarny`e, mediko-biologicheskie nauki [The Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Social, Humanitarian, Biomedical Sciences], No. 82, 79-86. (In Russian).
Supplementary files