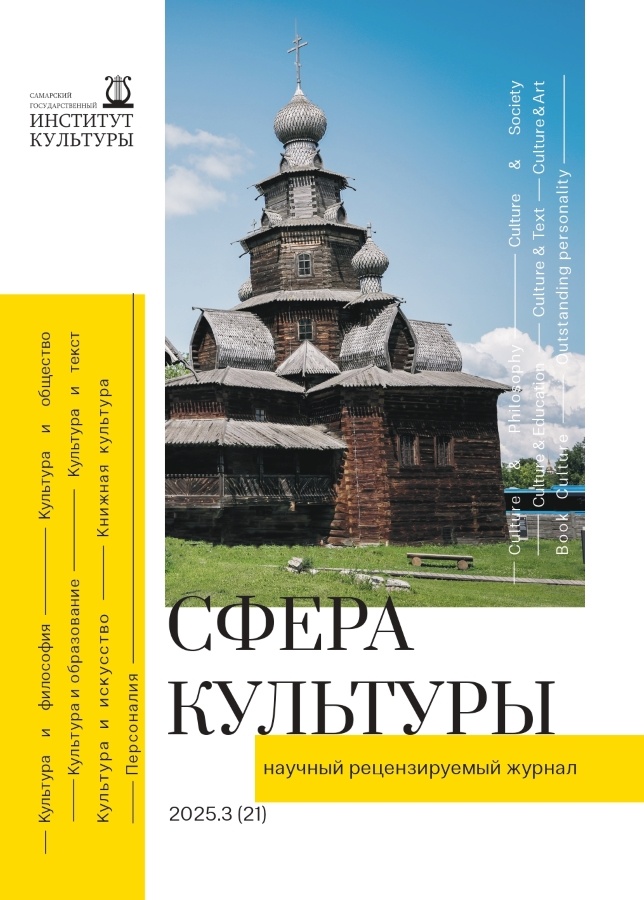Artistic strategies and motives for turning to the nude genre (exemplified by N.I. Feshin’s work)
- Authors: Iakovleva E.L.1
-
Affiliations:
- Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov
- Issue: Vol 6, No 3 (2025)
- Pages: 94-112
- Section: Сulture & Arts
- Published: 10.10.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/692635
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2025_21_94
- ID: 692635
Cite item
Full Text
Abstract
Academician of the Imperial Academy of Arts, Russian and American artist N.I. Feshin (1881-1955) quite often turned to the nude genre in his work. The author of the article proves that this resulted from several reasons. Firstly, the image of a naked female body indicated the quality of Nikolai Ivanovich’s education and the need to improve the painting technique. Secondly, the psychological trauma of abandonment that was inflicted by his mother and the unpredictable behavior of his wife, a femme fatale, stimulated the artist’s interest in thinking about a female nature. Thirdly, the nude genre testified to the artistic perception of an object and the passion of the artist’s nature.
Full Text
Как известно, художественное произведение обладает не только внешней формой, показывающей сцену и образ, но и внутренней, передающей идею, субъективно осмысленную автором. «Заключенную в картине авторскую “идею предметности” художник вытягивает из собственного диалога с фигуративным миром, из противоборства с ним, из напряженного пересоздания системы отношений, данной в повседневном опыте» [1, с. 17]. В творческом процессе художник «избавляется от плоти случайного и концентрируется на плоти существенного, тем самым “сегментируя” реальность, добиваясь выражения чувства, которое “побуждается телом” к мысли» [1, с. 28]. Присущая творцу «непредзаданная чувствительность» (О.А. Кривцун) позволяет в произведении выразить не только явное, познанное и осмысленное, но одновременно утаиваемое, необъяснимое, бессознательное, интуитивно улавливаемое в бытии и закладываемое в качестве потенциального в содержание. Исходя из тезиса, что «произведение искусства не просто отражает физический объект, оно визуально концентрирует силы, которые содержит воспринимаемый объект» [1, с. 18], попытаемся раскрыть некоторые значения обнаженного женского тела в искусстве на примере творчества Н.И. Фешина.
Николай Иванович Фешин – художник для ХХ века уникальный. У него была довольно непростая судьба, но, несмотря на данный факт, он смог заявить о себе в России и Америке. Художник пристальное внимание уделял изображению человеческого тела, особенно женского, что подтверждается сохранившимися на холсте и бумаге эскизами и законченными композициями разного формата. Особое место в фешинском наследии занимает жанр ню1. В начале XX в. обнаруживается повышенный интерес к обнаженной натуре, что указывало на «небывалый взрыв чувственности» (О.А. Кривцун). Художники искали новые способы изображения внутреннего мира личности посредством тела, экспериментируя с различными стилями и техниками. Николай Иванович не стал исключением: он следовал художественным тенденциям времени.
Концепт обнаженного тела в живописи представляет собой довольно интересную проблему, но она нечасто попадает в оптику научного интереса. Тем не менее обозначенный вопрос требует тщательной проработки и индивидуального подхода. У каждого творца обнаруживаются субъективные мотивы, инициирующие изображение обнаженной женщины. Выделим несколько тенденций, присущих художнику Н.И. Фешину.
Жанр ню в живописи связан с художественным изображением обнаженного тела. Работа с натурой требует особых навыков, в том числе умения рисовать человеческое тело и через различные ракурсы, позы и жесты передавать индивидуальность портретируемого. По словам Э. Люмиса, «художник, который не может собрать фигуру должным образом, не имеет ни одного шанса на успех» [2, с. 23]. Профессиональные умения формируются в системе художественного образования, где обучаемый получает знания, в том числе в области анатомии и пропорций человеческого тела. К. Кларк, характеризуя академические школы живописи во времена П. Рубенса, подчеркивает, что «он рисовал античные статуи и копировал работы своих предшественников, покуда известные идеалы завершенности формы не зафиксировались в его сознании; а потом, рисуя уже с натуры, он инстинктивно подчинял реальные зримые формы канонам, запечатленным в памяти» [3, с. 167]. В дальнейшем система формирования навыков изображения обнаженного человеческого тела в художественном образовании усовершенствовалась. Будущих художников учат не только владению техническими приемами рисования, но и погружению в метафизику формы и пространства, что способствует точной передаче индивидуальных качеств портретируемого. Художники через анатомию постигают устройство и пропорции человеческого тела. После изучения структуры начинают работать над формой, объемом, светом и тенью, приобретая способность видеть пластику тела. Овладение техникой и пониманием сути формы дает обучаемому определенную свободу в творчестве. Он может искажать пропорции, упрощать формы, играть с цветом и светом, создавая свой уникальный стиль и демонстрируя субъективное видение мира. Перечисленные знания и умения Н.И. Фешин приобрел в годы обучения в Казанской художественной школе и Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге (в мастерской И.Е. Репина).
Но помимо знаний анатомии и навыков для совершенного исполнения обнаженной натуры художнику необходимы острота взгляда, умение замечать главные детали и проникать в суть изображаемого, что приобретается «благодаря наблюдению и пониманию» [2, с. 21]. И данными качествами Н.И. Фешин вполне обладал. У него сложились собственные алгоритмы работы с натурой. Он постепенно переходил от внешнего созерцания того, что понравилось его внутреннему видению объекта, к эмоциональному и онтологическому переживанию последнего. Мастер вчувствовался в изображаемый объект, начиная проникаться его жизненными энергиями и ритмами. Он словно дышал вместе с телом портретируемого, начиная понимать его внутреннюю жизнь. И особую роль играли здесь не только эмпатия, но и взгляд мастера. Он характеризовался как «быстрый, зоркий, наблюдательный, даже какой-то проникновенный, как бы проникающий в душу человека и пытающийся разгадать его внутренний мир»2. В Америке Николая Ивановича назвали «художником с экстрасенсорным зрением и способностью воспроизвести то, что он видел» [4, с. 126]. Фешинский натренированный глаз был неотделим от способностей чувствования и слушания, благодаря чему вглядывание оказывалось многогранным, позволяющим схватить объект в его психологической и экзистенциальной сложности и передать познанное на полотне. Многие портретируемые отмечали: фешинские «глаза, такие проницательные и глубокие, казалось, видят то, чего другие не видят, не могут видеть» (архитектор М.Н. Быстрова-Яковлева)3.
Острота взгляда с насмотренными и натренированными глазами сформировалась не только благодаря художественному образованию, но и художественному опыту. У Николая Ивановича была великолепная постановка глаза на натуру. Художник учитывал при написании обнаженного тела множество нюансов, в том числе пластическую анатомию и объем фигуры, пространство интерьера и организацию картинной плоскости. Он хорошо понимал форму и строение объекта, чувствовал объем и учитывал перспективу, мастерски выстраивал композицию и объекты по вертикали и горизонтали, выбирал главное и второстепенное, соблюдая последовательность в работе, точно ставил свет и акценты на полотне, используя необходимый цвет и правильные тональные соотношения. И данное мастерство Фешин оттачивал в большом количестве эскизов и рисунков: «Николай Иванович большое значение придавал этюдам, наброскам и композиции, как воспитанию чувства остроты глаза»4. В них художник сосредотачивал внимание на главном, нередко упуская детали.
Видение окружающего мира у Николая Ивановича обладало особым художественным модусом, что позволяло ему зреть недоступное окружающим людям. Как отметил М. Мерло-Понти, «глаз художника видит мир и одновременно то, что недостает миру, чтобы быть картиной» [5, с. 28]. Умение художественно видеть позволяло зафиксировать красоту на полотне. Николай Иванович подчеркивал, что «художнику не нужно искать далеко сюжеты – красивое рядом с ним», поэтому «нужно только смотреть и видеть»5.
Изображая обнаженную натуру, Николай Иванович показывал свое техническое мастерство и умение художественно видеть объект. Совпадение «“зова натуры” и взгляда художника» «наделяет формой изобразительное поле картины» [1, с. 4]. Первоначально Фешин долго всматривался в обнаженную модель, пытаясь понять природу ее женственности и отобразить мгновения осознания в эскизе, рисунке или на полотне. Приступая к написанию натуры, «Николай Иванович прежде всего на листе бумаги намечал контрольные точки и затем одним взмахом руки сразу проводил линию, идущую от темени до следа ног, до пятки», «получался верный контур, чем сразу отделялась общая масса натуры от окружающей среды» и «в этой массе чувствовался объем, конструктивное построение форм и точное знание анатомии человека, а точки, с которых Николай Иванович начинал, являлись узлами костных соединений или выдающихся частей костяна, как, например, теменная кость или лодыжка»6.
Обратим внимание еще на один момент. При работе над полотном художник манипулировал не только кистью, но одновременно мастихином и пальцами, что придавало его работам экспрессивность и объем. Один из его учеников – график А.М. Соловьев – следующим образом описал рождение фешинской картины: «Он работал то кистью, то мастихином, иногда прикосновением среднего пальца объединял мазки», «набросав углем общий абрис, он в первый час уже красками вязал переносицу с глазничными впадинами, стараясь точно наметить положение глаз и форму носа», «перед нами возникло лицо живое и выразительное», а «окружающая среда появлялась как-то сразу, во всех местах какими-то выразительными намеками, то выделяя световые контрасты, то обобщая мало освещенные части в тени»7.
Мастихином Фешин создавал сложные цветосветовые эффекты: толстые мазки краски порождали цветовые оттенки и по-разному отражали свет, образуя игру света и тени, усиливая ощущение объема и трехмерности. С помощью мастихина Фешин мог моделировать форму, передавая пластику тела и объемность фигуры. Вследствие этого работы приобретали рельефность, а тело на них ощущалось материальным и физически осязаемым. Благодаря мастихину у Николая Ивановича краска выступала не только средством передачи цвета, но и самостоятельным элементом, обладающим собственной текстурой красочного слоя и (нередко грубой) фактурой, помогая выразительнее показать форму объекта. Более того, работа с краской мастихином способствовала передаче динамики эмоций и переживаний самого художника. Мазки мастихина демонстрировали процесс работы художника, делая видимыми его энергию, что придавало работам Фешина ощущение подлинности и аутентичности.
Таким образом, обнаженная натура в эскизах, рисунках и на полотнах мастера позволяет говорить о качестве художественного образования Николая Ивановича и приобретенных навыках, в том числе умении художественно видеть объекты. Даже фешинские эскизы в жанре ню говорят о его высоком профессионализме и художественном мастерстве. Постоянное обращение к жанру ню свидетельствует о желании не только поддерживать приобретенные умения, но и совершенствовать их.
Еще одной причиной обращения к ню стало желание понять женщину и силу ее притягательности через призму художественного восприятия, характерного для Н.И. Фешина. Подобное стремление неслучайно и уходит корнями в детство и подростковый период. Оно обусловлено взаимоотношениями с матерью и нанесенной ею психологической травмой. В подростковом возрасте Николай Иванович после развода родителей остался один в Казани. Мать бросила не только отца, но и его, не оказав никакой поддержки. Ситуация оказалась деструктивной для Фешина, лишив его ощущения безопасности и целостности мира. Юный Николай Иванович почувствовал себя брошенным, потерянным в бытии и лишенным материнской любви. Травма брошенности породила в Николае Ивановиче амбивалентные чувства по отношению к женщинам – желание любви и близости, но одновременно обиду и страх отвержения. Неслучайно художник женился не так рано (в тридцать два года), достигнув определенной зрелости и статуса в художественном мире.
Свои неоднозначные эмоции по отношению к женщине Фешин перенаправлял в искусство, где пытался преодолеть травму. С одной стороны, интерес художника к обнаженной натуре олицетворял подсознательное стремление к восстановлению утраченного единства с матерью. Обнаженное женское тело в своей абсолютной форме символизировало чистоту женского начала и материнство. Фешин словно искал в обнаженной женщине утраченный рай первичной связи с матерью. Изображение женской наготы олицетворяло потребность в близости с ней, что давало возможность устранить психологическую травму и контролировать уровень тревожности. Рисуя обнаженное женское тело, художник как бы присваивал его образ, подчиняя своей воле, что выступало в качестве (иллюзии) влияния на реальность и попытки изменить прошлое. Подчеркнем, Фешин переносил образ бросившей его матери на других женщин, в том числе на жену. Изображение обнаженных женщин стало способом компенсировать травму и доказать себе/матери/окружающим людям собственную ценность и значимость. Создавая прекрасные женские образы, художник обосновывал свое право на любовь и внимание (со стороны матери/женщин).
С другой стороны, жанр ню стал своеобразным способом выказать агрессию, подавленный гнев и обиду на мать. Несмотря на определенные психологические усилия, ее поступок Фешин до конца не смог оправдать. На данный факт косвенно указывает незавершенность его работ в жанре ню, обусловленная применением техники нон-финито. Заметим, взаимосвязь между психологической травмой, в том числе травмой брошенности, и творчеством не всегда очевидна. Проявляясь на подсознательном уровне, травма может высвечиваться в качестве намеков и определенных символов на полотне.
Характерную фешинскую манеру письма экспрессивными мазками и незавершенность деталей можно интерпретировать как поврежденность целостности мира в результате разрыва взаимоотношений с матерью, что повлияло на внутреннее состояние художника и появление тревожности. Довольно часто (особенно в эскизах) тело женщины оказывается без головы или художник не прописывает лицо, что имеет вуалированный подтекст. Николай Иванович таким образом словно выражал нежелание видеть женщину и эмоциональную боль, вызванную ситуацией брошенности.
Вообще травма брошенности обнажает экзистенциальные страхи (в том числе перед одиночеством, смертью и бессмысленностью существования), делая личность уязвимой. И изображение обнаженного тела указывает на данную незащищенность. В этом смысле нагота показывает не только плоть, но и саму суть человеческого бытия, связанного с одиночеством и смертью. Фешин, изображая обнаженную женщину, (под)сознательно отражал собственную незащищенность (и обиду на мать). Он испытывал потребность в защите, которую не обеспечила в подростковом возрасте мать. Усиливает понимание данного факта показ художником крупным планом отдельных частей тела (груди, рук, ног, пяток). Травма брошенности привела к фиксации внимания на определенных частях тела, которые ассоциировались с образом матери, ощущением комфорта и безопасности, всю жизнь не хватающих художнику. Так, фокус внимания на женской груди и руках мог быть (под)сознательным поиском материнской любви и тепла, которых Николай Иванович был лишен в подростковом возрасте.
Но одновременно крупный план на эскизах, рисунках и полотнах определенных частей тела указывает на то, что травма брошенности привела к ощущению распада личности и пониманию отсутствия целостности. Изображение отдельных частей тела словно выражало внутреннюю раздробленность и впечатление, что Я существует как набор несвязанных фрагментов.
Помимо этого, изображение крупным планом отдельных частей тела позволяло Фешину детально изучать анатомию, текстуру кожи, игру света и тени. Подобный способ познания мира через художественный опыт стал символической попыткой найти опору в материальном мире после психологической травмы. Фешин был заинтересован в изображении человеческой натуры во всей ее сложности и противоречивости. Создавая образ, художник символически обретал над ним власть. Изображая части тела крупным планом, Фешин мог чувствовать, что он контролирует свою травму и способен трансформировать ее посредством искусства.
Потребность в понимании женщины не ослабла и после женитьбы Николая Ивановича. На большинстве фешинских полотен, в том числе в жанре ню, мы встречаем его жену Александру Николаевну Фешину. По мнению автора данной статьи, «сам жанр портрета свидетельствует о сосредоточенности Николая Ивановича на личности портретируемой (своей жене) и попытке раскрыть/постичь ее внутренний мир, характер, душу» [6, с. 89]. Мастер посредством изображений Александры Николаевны передавал не только отношение к ней, но и к женщинам в целом.
Но существовала и еще одна причина устойчивого интереса к жанру ню. Дело в том, что Александра Николаевна оказалась роковой женщиной [6], заставившей своего мужа испытывать колоссальное напряжение во взаимоотношениях с ней. Сегодня трудно говорить о том, какой была коммуникация между супругами Фешиными. Они не оставили развернутых воспоминаний о своей жизни. Но современники свидетельствовали, что Николай Иванович и Александра Николаевна известны своими непростыми и порою конфликтными отношениями. Подобное неслучайно. Роковая женщина «относится к типу… демонических натур, обладающих вдохновляющей силой для выдающихся/неординарных мужчин… и высоко оценивающих свои достоинства» [6, с. 80]. Роковая женщина вмещает в себя все архетипические черты женского начала. С одной стороны, она олицетворяет женственность, привлекательность, непосредственность, материнство, сексуальную энергию и неосознаваемые силы (в том числе предчувствие и интуицию), но, с другой – демоническую мощь, разрушение, грех и порок. Поведенческие алгоритмы роковой женщины оказываются неоднозначными, «соскальзывающими к неприличию» и способными «связать воедино все возможное»: «переход от чистоты к порочности, от смятения чувств к созданию домашнего очага, от индивидуального желания к тотальности существующего» [7, с. 121]. Взаимодействие с роковой женщиной представляет собой определенную трату. Как справедливо отметил Ж. Батай, «объект индивидуальной любви… с самого начала есть образ вселенной, предназначенный для безмерной траты располагающегося перед ним субъекта» [7, с. 126]. Вследствие этого Александра Николаевна как роковая женщина пробуждала разноплановую палитру эмоций со стороны художника. В их коммуникации «блаженство, страдание, порог смерти… сжаты до неразличимости», нередко приводя к самоотрицанию (как попытке «избавиться от природного и чувственного начала»), что придавало их жизни напряженно-драматический характер [8]. Взаимодействие с роковой женщиной непредсказуемо, требует от мужчины «взрыва ресурсов» (О.И. Николина). «Препятствия, возникающие перед влюбленным, могут только усилить любовь» [9, с. 47] и одновременно ненависть. Чувства к роковой женщине полярны и утрированы. «Любовь и ревность, боль и вдохновение, желание и наслаждение, соблазн и запрет, страсть и игра» [10] перемешаны в подобной коммуникации и обладают большой амплитудой. Перечисленное оказывается истоком не только неприязни к роковой женщине, но и ее притягательности, в том числе эротической. Подчеркнем, под эротизмом мы понимаем «совокупность телесных, эстетических, интимных, сексуальных практик, в которых проявляется половое влечение субъекта и объекта страсти, основанных на онтологическом желании личности творить и созидать во внутреннем и внешнем бытии, гносеологической жажде познания себя и окружающей реальности во всем ее многообразии» [11].
Пытаясь понять жену, Н.И. Фешин выявил ее эротическую притягательность и, проникшись данным качеством, сумел передать на своих полотнах в жанре ню, что позволяет говорить о мощном потенциале эротизма и заставляет вспомнить некоторые концепции. Так, у древнегреческой поэтессы Сапфо эротизм выступает «в качестве высшей космической силы, которая необходимым образом должна войти в человека, и человек должен быть ею одержим, чтобы испытать полноту жизни и постичь ее подлинный смысл» [8]. Платон считал, что эротизм в своем существовании обусловлен гносеологическим статусом. Он связан с осуществляемым в творческом процессе познанием личности. Таким образом, эротизм для Николая Ивановича обладал не только онтологическим, но также гносеологическим и аксиологическим потенциалом.
Работая над портретами в жанре ню, художник осуществлял трансгрессию, постигая наготу женского начала через самоутрату и «личностное переживание» как «выход за пределы собственного Я в акте эротического и танатологического экстаза» [12, с. 51]. Результатом подобного выхода оказывается преодоление собственных границ (в том числе разума) и приближение к иному, которое не поддается вербальному описанию. В этой ситуации, как считает Ж. Батай, «мысль… мыслит то, что не дается мысли! Мысль мыслит больше, чем может осмыслить, – в утверждении, которое утверждает больше того, что может утвердиться!» [13, с. 74]. Познание женского начала через искусство, где имеет место влечение, позволяет мужчине достичь полноты бытия. Влечение к женщине, а шире – влечение к жизни, есть энергийная сила личности. Как подчеркивает О. Комков, «эрос – желание, влечение – является главной, если не единственной, движущей силой в человеческом мире», пронизывая собой все сферы культуры и жизнедеятельность человека [8]. Исходя из приведенной цитаты, само творчество и связанный с ним процесс познания суть проявления эротического порядка. При этом эротическое стремление в искусстве «не может быть удовлетворено», потому что «удовлетворенное желание прекращает существовать» [8]. Принятие данного тезиса объясняет причину большого количества фешинских работ в жанре ню, в которых художник пытался передать познанную им эротическую притягательность своей жены.
Основой эротизма является «чувственность как безошибочный и непреходящий человеческий камертон» [1, с. 21], связанный с определенной расслабленностью, искренностью, умением ощущать и принимать себя. В работах художника подчеркивается чувственная привлекательность тела Александры Николаевны. Художник «превращал супругу в освященный объект желания», извлекая его «из общего движения жизни» [7, с. 120]. При работе с обнаженной моделью «мужчина оценивает обнаженное женское тело как возможный сексуальный объект, себя же рассматривает при созерцании в качестве активного субъекта сексуальных отношений» [14, с. 28]. На фешинских эскизах, рисунках и полотнах жена художника, выполняя функцию соблазнения, предстает как субъект мужского желания. Необходимо признать, Александра Николаевна непосредственно и грациозно выставляла свою наготу перед мужем, что было одной из стратегий ее роковой натуры, вызывая интерес и поддерживая неутоленное желание мастера.
Современник Н.И. Фешина художник А.А. Пластов в своем письме к жене Н.А. Пластовой (от 3 апреля 1934 года) о жанре ню написал, что в нем он выразил «экстатическое поклонение женской плоти» «с исчерпывающей полнотой» [15, с. 3]. Думаем, Николай Иванович согласился бы с подобным суждением относительно своих работ, где он запечатлел образ своей жены.
Эротичность и чувственность жены на полотнах одновременно свидетельствуют о попытке Николая Ивановича понять смысл мистического опыта коммуникации любящих друг друга мужчины и женщины: «В тайне влечения, его внезапности и непреложности» художник «слышит глубинный голос природы, врывающийся в человеческую жизнь и часто все перестраивающий в ней» [16, с. 103]. Обнажение женщины и ее рисование способствует преодолению замкнутости: «между двумя людьми возникает эфемерная общая зона интимности, разрывающая конечную дискретность, что дает полноту любви», даря «предчувствие непрерывности, вплоть до желания убить любимого, нежели потерять» [9, с. 47]. Посредством обнажения женщины как открытости мужчине даже негативные чувства могут трансформироваться, рождая позитивную настроенность. Дело в том, что близость любимой женщины и возможность познать не только ее женственность, выраженную в эротизме и чувственности, но и особенности интимной коммуникации с ней рождают «желание жить, так как эрос – это влечение к жизни и отвержение смерти» [8]. Несмотря на сокрытость интимных взаимоотношений супругов, они высвечивались на полотнах. В этом проявлялся настоящий эротизм как «особое состояние интимного бытия», уникального, соблазняющего и недосказанного: «он ищет повода раскрыть себя и одновременно таит себя в бытии человека, скрываясь от взглядов» [11].
Возможно, изображение обнаженной Александры Николаевны было частью интимной жизни в фешинской семье, выступая в роли разновидности игр между супругами. Запечатлевая обнаженное тело жены, художник демонстрировал «аполлоническую праздность, которая выделяет молодое и здоровое тело, потенциально функциональное вне общественного действия», и одновременно отражает дионисийские «животные активные потенции, спрятанные под покровом спокойствия» [9, с. 47]. Посредством изображений обнаженной Александры Николаевны Фешин показывал своеобразную эротическую игру с желанием, что стимулировало воображение и создавало более сложное эмоциональное переживание близости с любимой женщиной. Ранее мы отмечали, что «взаимодействие обнаженной натурщицы и работающего над ее портретом художника создает особую атмосферу настроенного пространства, где у каждого из коммуникантов осуществляется выход субъективной энергии за границы собственного тела, являя определенную экстатичность» [17, с. 142]. И этому способствует энергийность наготы. В этом отношении согласимся с Дж. Агамбеном, который полагал, что «нагота буквально бесконечна, она никогда не прекращает своего осуществления», «никогда не сможет насытить взгляд, перед которым она предстает и который продолжает жадно искать ее, даже когда последняя деталь одежды сброшена и все сокровенные части тела дерзко выставлены на обозрение» [18, с. 105].
Сам художник, демонстрируя на своем полотне любование натурой, видел в ней энергийность, олицетворяющую силы «витальности» (О.А. Кривцун). Именно созерцание женской красоты, обладающей эротической притягательностью и чувственностью, способствовало творческому процессу: «пластическое чувство, живущее внутри художника, равновесно в своем значении с посылом, идущим от натуры» [1, с. 28]. Николай Иванович высвечивал желанность неприкрытого тела Александры Николаевны, выступающего в качестве «формы воплощения космического Эроса – универсальной энергемы бытия» [12, с. 49], и мистический опыт коммуникации с любимой женщиной. При этом энергийная женственность наготы жены оказалась до конца непостижимой, что выступало в качестве вызова Николаю Ивановичу и источника его желаний.
Но коммуникация с роковой женщиной, как мы отмечали, оказывается довольно неоднозначной. Своими поведенческими матрицами роковая женщина держит мужчину в напряжении, провоцируя у него не только проявления счастья и восхищения, но и раздражения, страданий и нередко страха. Роковое начало Александры Николаевны отражается и на восприятии ее обнаженного тела. Оно олицетворяло не только невинность и чистоту, но одновременно грех и порок. Ее эротическая притягательность амбивалентна: она заставляла Николая Ивановича испытывать блаженство и терзания. «Включая в себя смерть, эрос томит и мучает, даруя агонию в значении агона, борьбы» [8].
Противоречивость роковой женщины рождает парадокс взаимодействия с ней: коммуникация выстраивается на основе притяжения и отталкивания. При этом отрицание рождает желание, потому что «отвергнутое влечет к себе», «продолжает быть для человека важным, является источником влечения, импульсом для возникновения эроса как желания» [8]. Работа в мастерской над полотнами и эскизами в жанре ню олицетворяла для Николая Ивановича эмоциональное соединение с натурой, что гармонизировало его. Одновременно он нередко не мог выносить рокового начала Александры Николаевны, проявляемого «в повышенной раздражимости, резкой смене настроений, преувеличенном выражении эмоций (от отрицательных до положительных), непредсказуемых реакциях (от смеха до слез), выражаемых тихо/громко, демонстрации (нередко симулятивной) слабости/боли и пр.» [6, с. 81]. Николай Иванович одновременно был подвластным жене и проявлял власть над женщиной, сделав из нее натурщицу. Сложность взаимоотношений с роковой женщиной художник компенсировал определенной властью над ней, превращая Александру Николаевну в своей мастерской в Ничто. Дело в том, что «само отношение художника к натурщице оказывается вещным»: он «видит в натурщице образ, что превращает ее в объект», позволяя мастеру «пренебрежительно относиться к реальной женщине» [17, с. 129].
Противоречивость чувств Фешина к жене как роковой женщине отразилась на его полотнах. Роковая женщина, «элементом которой является сексуальная привлекательность, заставляет очарованных мужчин воспевать и идеализировать ее в своем творчестве» [6, с. 80]. Н.И. Фешин, получивший классическое художественное образование сначала в Казанской художественной школе, а потом в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, хорошо знал историю искусств. Ему было известно, что традиционно обнаженное тело использовалось для изображения мифологических богинь, и данный нюанс не ускользнул от его внимания. Изображая обнаженной жену, он возводил ее в ранг богини. Другое дело, что сам мифологический контекст отсутствовал: женщина помещалась в реальную (современную) обстановку. Подобное воспевание со стороны мужа способствовало позитивному восприятию себя женщиной, что поднимало ее самооценку и давало определенную власть над художником. Противоречивость поведенческих матриц роковой женщины, сопровождающаяся большой амплитудой эмоций, приводила к тому, что нередко художник писал обнаженную женщину со спины, скрывая ее лицо и некоторые части тела. Он словно ничтожил таким образом ее эротическую привлекательность и чувственность, показывая ее частично.
Рисуя обнаженной Александру Николаевну, Фешин пытался (под)сознательно установить контроль за коммуникацией с роковой женщиной, чьи чары одновременно привлекали и отталкивали его. Художник проецировал на Александру Николаевну собственные подсознательные желания и страхи, а ее изображение становилось способом их выражения. Искусство в данном случае выступало символическим инструментом борьбы за власть между мужчиной и женщиной. Как мы отмечали, сложные отношения с роковой женщиной часто сопровождаются амбивалентными чувствами (любовью и ненавистью, восхищением и презрением). Фешин, испытывая противоречивые чувства и эмоции по отношению к Александре Николаевне, нередко в своей мастерской превращался в деспота, желающего подчинить объект страсти, деконструировать его посредством сложных поз/незавершенных частей тела и даже унизить. При этом жестокость во взаимоотношениях с роковой женщиной есть не причинение физического вреда, а больше получение удовольствия от обладания властью и контроля над ней. Творческий процесс давал Фешину возможность почувствовать себя хозяином положения, способным уменьшить силу роковой женщины, ставя ее в роль натурщицы. Рисуя Александру Николаевну, он пытался приручить ее, подчинить своей воле (через искусство). С точки зрения психоанализа, изображение обнаженной женщины могло олицетворять для художника даже способ овладения ею.
Как мы отмечали, роковая женщина ассоциируется не только со страстью, но и с разрушением, смертью. Фешин мог видеть в Александре Николаевне воплощение этой двойственности: Эроса как женственности, эротической привлекательности, чувственности и Танатоса как демонической мощи, в том числе разрушения. Заметим, именно Александра Николаевна выступила инициатором развода с художником, оставшись непреклонной в своем решении, несмотря на попытки Фешина вернуть ее. Изображая обнаженной жену, Николай Иванович словно пытался осмыслить диалектическую взаимосвязь позитивного и отрицательного в женщине, исследовать границы между жизнью и смертью, любовью и ненавистью, наслаждением и страданием.
На противоречивость и непредсказуемость роковой женщины, а также неоднозначное отношение к ней со стороны Фешина указывают различные композиционные ракурсы, позы и фон, избираемые художником при работе с натурщицей. Нередко поза оказывалась случайной, но созвучной личности портретируемой. Николай Иванович подчеркивал, что «поза дополняет портрет, и видишь, чувствуешь того, кого… изобразил, со всеми характерными чертами и свойствами характера»8.
Как правило, тело Александры Николаевны художник помещал на первый план, прорисовывая его крупно, что позволяло выстроить вокруг него композицию на полотне. Ракурс и размер тела показывали в мельчайших деталях все его нюансы, таким образом «художник подчеркивал на полотнах женственность и красоту Александры Николаевны в фигуре и ее плавных изгибах, осанке и манере держать себя, позах и овале лица с выразительными глазами и чувственными губами» [6, с. 89]. Отметим, Александра Николаевна обладала стройной фигурой, хорошей осанкой, гибкостью, позволяющей принимать требуемую позу, уверенностью в себе и выдержкой, необходимой для сеансов позирования.
Позы Александры Николаевны были различными. Они встречались в произведениях искусства, написанными ранее другими авторами. Обнаженная женщина позировала мужу стоя, (полу)лежа, сидя, лицом, спиной, вполоборота. Ее позы были как простыми, так и более сложными, с ломаной линией тела, ног и кистей рук, что вуалированно передавало определенную нервозность и капризность женщины, а также неоднозначное отношение к ней Фешина. Фронтальные позы жены художник писал с легким поворотом (к нему/от него), подчеркивая изгибы тела. В положении сидя и (полу)лежа Николай Иванович акцентировал внимание на груди, талии и линии бедер женщины. Прямая поза со спины или с небольшим наклоном выделяла линию спины и ягодиц. Позы со спины или вполоборота одновременно указывали на «определенный дискомфорт женщины», «испытываемый ею стыд, желание изолироваться от всех или переключить внимание зрителя на окружающие ее пространства» и «выступали в качестве эротического вызова взгляду Другого/мужа, высвечивая стратегии женского обольщения как определенной власти над художником» [17, с. 142, 143]. Поворот через плечо стоящей спиной к художнику Александры Николаевны позволял показать профиль ее головы и частично эмоции, что добавляло картине загадочность и интригу. Изображение со спины олицетворяло непостижимость женской души. Боковые (в том числе изогнутые) позы помогали передать пропорции тела, подчеркивая линию груди, талии и бедер. Наиболее ярко эротичная привлекательность и чувственность высвечивались в позах лежащей (на боку) Александры Николаевны. В целом позы женщины на фешинских эскизах, рисунках и полотнах были не столько статичными, сколько откровенными и динамичными, передавая страстность и эмоциональность художника и его жены. Избранные художником позы Александры Николаевны подчеркивали красоту ее тела, создавая вокруг него определенную энергийную атмосферу эротизма и чувственности.
Как мы отмечали, Фешин нередко крупным планом брал отдельные части женского тела (например, грудь, руки, ноги, пятки), что указывало на расщепленность личности в результате травмы брошенности. Тем не менее в процессе работы над эскизом или полотном художник словно избегал подавляющей его мысли об уязвимости (в том числе телесной/собственной), вуалируя ее флером прекрасного благодаря вдохновляющей роли своей жены. Так, сосредоточенность на груди на первый план выводила эротическую привлекательность женщины. Обращал художник внимание на руки, располагая их не только вдоль тела, но и опирающимися на какие-либо предметы, поднятыми вверх, вытянутыми вперед, поддерживающими или прикрывающими грудь, что подчеркивало стройность фигуры и красивую женскую грудь. Любил прописывать мастер и кисть руки: она у него была говорящей, демонстрирующей характер жены. Ее изворотливость вместе с причудливой позой указывали на непростой характер роковой женщины, капризность и определенную истеричность ее натуры. Как заметил З. Фрейд, «истерические женщины в большинстве случаев принадлежат к типу привлекательных и даже красивых представительниц своего пола» [19, с. 209]. Художник делал акцент на разнообразное положение ног и нередко у стоящей натуры переносил вес на одну ногу, что придавало позе определенную динамику и позволяло подчеркнуть ягодицы. Помимо этого, обращался мастер к ракурсам в положении сидя и (полу)лежа с поднятой ногой, вытянутыми вперед и разведенными в сторону ногами, что указывало на определенное бесстыдство и порочность женской натуры. При этом сам корпус тела располагался или с наклоном вперед, или откинутым назад (с опорой на руки).
Проанализируем подробнее фешинское полотно в жанре ню «Купальщица»9, написанное в промежутке между 1910 и 1913 годом. В нем художник обратился к излюбленному с эпохи Возрождения сюжету, изобразив обнаженную Александру Николаевну входящей в водоем. Композиция картины проста и реалистична: она словно выхватывает мимолетное мгновение из жизни. Фигура супруги оказывается центральной в композиции, что указывает на значимость женщины в жизни мастера. Она не статична, а довольно естественна и расслаблена. Фешин показал женщину в динамичной и непринужденной позе, продемонстрировав ее гармонию с природой. Александра Николаевна стоит спиной к художнику, но не прямо, а слегка наклонив тело и повернув голову. Благодаря этому подчеркивается стройная фигура женщины, тонкая талия и широкие бедра. Голова купальщицы слегка наклонена, а глаза полуприкрыты, что придает ее образу задумчивость и умиротворение: женщина словно наслаждается моментом вхождения в воду. Одна ее нога слегка выдвинута вперед, а другая стоит с приподнятой пяткой, что создает ощущение движения и придает позе грациозную легкость. Женщина как будто входит в воду и собирается сделать следующий шаг. В руках у Александры Николаевны белый прозрачный платок, которым она прикрывает невидимую зрителю часть тела – грудь, что символизирует чистоту, скромность и даже стыдливость. Легкий поворот корпуса, придавая фигуре объем, позволяет показать игру света и тени на ее спине. Она освещена солнечным светом, который подчеркивает округлость и женственную плавность форм модели. Свет словно скользит по телу купальщицы, подчеркивая его красоту и чувственность. Обнаженная Александра Николаевна олицетворяет естественность, свободу, умиротворение и созвучность с окружающим миром.
Фон картины импрессионистки размыт и выполнен в пастельных тонах, что акцентирует внимание на фигуре купальщицы. Тем не менее вызывает интерес водный пейзаж, окружающий женщину. Вода занимает значимую часть композиции, переливаясь оттенками желтого, сине-зеленого и белого, что создает ощущение ее глубины и ряби. Усиливает колыхание водной поверхности фешинская техника широкого мазка с помощью мастихина и пальцев. Прозрачность воды, в которую входит купальщица, символизирует чистоту, обновление и возрождение. Сам процесс купания олицетворяет очищение и восстановление сил.
На первый взгляд, картина производит впечатление спонтанной умиротворенности, непосредственной жизненной ситуации и позитивности. В ней ярко выражена фешинская свободная манера владения кистью и мастихином, его умение передавать красоту незаметных моментов повседневной жизни. Несмотря на кажущуюся простоту композиции, полотно воспевает эротичную привлекательность и чувственность Александры Николаевны.
Но картина не столь однозначна. Учитывая фешинскую травму брошенности, связанную с отношениями с матерью, на полотне «Купальщица» можно обнаружить определенную психологическую амбивалентность художника. Фиксируя в работе свое впечатление о красоте женского тела, Николай Иванович одновременно скрывает за ним свою уязвимость и тревожность. Само изображение обнаженной женщины на лоне природы являет подсознательную попытку поиска утешения и гармонии в окружающей среде, вдали от социума и сложных человеческих взаимоотношений. Обращает на себя внимание черное абстрактное пятно в середине прозрачной водной ряби, вносящее определенную дисгармонию. Его трудно интерпретировать из-за размытости форм. Возможно, это отражение или тень дерева, кустарника, пня или части берега, расположенной вне поля зрения зрителя. Темный цвет объясняется тем, что объект находится в тени. Как мы отмечали, Николай Иванович стремился передать в своем творчестве не только впечатления от увиденного, но и свое мироощущение. В связи с этим черное пятно может быть намеренным цветовым внедрением в композицию, призванным передать его внутреннее эмоциональное состояние, обусловленное пролонгированным эффектом травмы брошенности. Сам черный цвет ассоциируется с опасным, неизвестным, сокрытым, негативным, что вносит в полотно напряжение и тревожность. Темное пятно напоминает о диалектичности бытия, подчеркивая, что даже в самые прекрасные моменты жизни остается пространство для деструктивных проявлений. Безусловно, благодаря искусству, техническому мастерству и экспрессивности Фешин пытался трансформировать свои внутренние переживания в художественную форму. Но экспрессивная манера письма художника широкими, энергичными мазками и с лепкой краской посредством мастихина, создавая ощущение реалистичности и динамики, передает его нервозность и тревожность.
Более того, Николай Иванович на полотне демонстрирует и некоторые черты Александры Николаевны как роковой женщины, используя целый ряд художественных приемов. В композиции женщина занимает доминирующую позицию, что указывает на определенную власть над мастером. Приглушенная, но в то же время насыщенная цветовая палитра водного пространства создает энергийную атмосферу таинственности и чувственности вокруг роковой женщины. Одновременно художник передает напряженность и опасность взаимодействий с роковой женщиной, внедряя контрастный цвет в виде необычного черного пятна. Оно гармонирует с небрежно собранными на затылке длинными, чуть волнистыми волосами женщины. Они не только олицетворяют женственность и естественность ее внешнего вида, но и вуалированно передают (из-за сокрытости их длины) свободу, силу и власть роковой женщины. Темный цвет волос усиливает загадочность и даже придает демоничность натурщице, контрастируя с цветом ее светлой кожи. Среди визуальных приемов, демонстрирующих роковую женщину, обращает на себя внимание сокрытость части ее лица и полуприкрытые глаза. Благодаря этому передается чувственная загадочность Александры Николаевны, что вызывает желание рассмотреть ее. Расслабленная поза, связанная с вхождением в обнаженном виде в воду, иллюстрирует непосредственность, достоинство и уверенность в своей красоте. Динамичность и естественность позы входящей в воду обнаженной женщины, плавные линии тела, игра света и тени выступают в качестве соблазняющего маневра. Но одновременно наклон головы женщины и полуприкрытые глаза создают ощущение погруженности в себя и недоступности. Грациозное удерживание в руках перед собой платка указывает не только на скромность, но и игривое обольщение художника, смотрящего на нее. Александра Николаевна, создавая иллюзию укрывания тела, демонстративно показывает его. В полотне мы встречаем и недосказанность, обусловленную выхваченным из жизни мгновением, неопределенностью пространства и времени, неизвестностью назначения белого прозрачного платка в руках роковой женщины. Недосказанность полотна делает произведение открытым, позволяя домысливать ситуацию и создавать множество интерпретаций. Николай Иванович в своей «Купальщице» не просто изобразил красивую женщину, но и передал ее противоречивость, внутреннюю силу, загадочность и потенциальную демоническую силу.
В целом работа Фешина с обнаженной натурой позволила выявить силу притягательности Александры Николаевны (эротическую привлекательность и чувственность) и зафиксировать противоречивые черты (женственность и демоничность), характерные для роковых женщин. Познанное Николай Иванович передавал в своих эскизах, рисунках и полотнах посредством разных ракурсов и поз тела, выражения лица и жестов, распределения света и тени, цвета и текстуры фона, а также манеры письма.
Не следует исключать из внимания и еще один фактор обращения к жанру ню. Он указывает на особенности характера художника. Шедевр искусства раскрывает индивидуальность и жизненный мир творца, его знания и опыт, мышление и вкус, наблюдения и сим(анти)патии [2, с. 16]. Рисование обнаженной жены для Фешина стало способом подтвердить свой статус художника-портретиста, заявить об индивидуальном праве видеть и интерпретировать реальность, даже если данное представление вызывало определенные противоречия. В нашем контексте взгляд мужчины-художника оказался первичным. «Право смотреть на другого, как и первым прикасаться к нему, – социальная привилегия старшего по отношению к младшему, мужчины к женщине» [20 с. 77]. Как любой творческий человек Фешин, рисуя жену обнаженной, хотел продемонстрировать свой талант и неповторимую художественную способность видеть. «Любовь к другому в этом случае непременно оказывается косвенной формой любви к самому себе» [16, с. 103].
Художественная передача эротической притягательности и чувственности обнаженного женского тела выдает в Фешине страстную натуру художника-идеалиста. Как отметил О.А. Кривцун, «в культивируемых формах эротического, как в капле воды, способен отразиться весь человек» [16, с. 105]. Даже в академическом исполнении изображение обнаженного женского тела несло в себе элементы чувственности автора. Портреты обнаженной жены высвечивали темпераментность Николая Ивановича, скрываемую за его молчаливостью. Необходимо признать, фешинские работы не лишены определенной смелости, что было характерно для художников его времени. В работах в жанре ню содержится элемент провокативности: Николай Иванович не только демонстрировал женское тело без одежды, но и сделал своей моделью жену, выставляя ее напоказ. Перечисленное служило привлечению внимания к личности художника и его работам.
Женская нагота на фешинских полотнах и эскизах выступает в качестве «смыслообразующего фермента» (О.А. Кривцун), связанного с бытием художника. Полотно или эскиз есть «валентное художнику, порождающее в себе свет витальности, моментальное желание творческого претворения» [1, с. 5]. В виду замкнутости автора о вкладываемых в произведения искусства смыслах не знал никто. Возможно, и сам Николай Иванович не осознавал в полном объеме всю многогранность значений созданного и истоков их появления. Смыслы «возникают именно как итог пластического претворения, в процессе рождения “новой вещественности” искусства», как «способность художника преломить натуру сквозь призму своего темперамента, наделить натуру непреложностью индивидуальной творческой воли, побеждающей господствующие шаблоны и формулы» [1, с. 4].
Фешинское мастерство в передаче женского тела (в разных позах и ракурсах) свидетельствовало о его пластическом мышлении. Оно есть «мышление посредством чувственных форм, объемов, линий, света, тени, красок – то есть мышление посредством всей совокупности визуальных характеристик формы» [1, с. 5]. Пластическое мышление способствует художественному формообразованию, исходя из ценностных и пластических доминант творца, одновременно выявляя «новые сущностные смыслы бытия» [1, с. 9]. Художник в своей деятельности структурировал себя не только внешне, посредством творения из Ничто Нечто в виде картины, но внутренне, высвобождая хаос эмоций, мыслей и идей во внутреннюю форму произведения искусства. При этом «окончательная художественная форма сохраняет в себе всю “рассеянную энергетику”» автора: «через ее завершенность просвечивает незавершенность, стимулирующая череду художественных ассоциаций, богатство воображения» [1, с. 8].
Именно женское тело выступает на фешинских полотнах «эпицентром активности» (О.А. Кривцун), организуя вокруг себя причинный, образный и смысловой строй полотна/эскиза, композицию и цветовое решение. Фешинская художественная форма жанра ню «сохраняет в себе всю “рассеянную энергетику”, через ее завершенность просвечивает незавершенность, стимулирующая череду художественных ассоциаций, богатство воображения» [1, с. 8]. Мастер при изображении женского обнаженного тела как идеала нередко интуитивно/бессознательно отражал вуалируемые позитивные/травмирующие моменты собственного жизненного мира. В жанре ню художник демонстрировал «субъективный взгляд, воспроизводящий бесчисленные коллизии и драмы, вызванные чувственным влечением, судьбы людей, втянутых в водоворот силой страсти», что позволило выявить причины (навязчивой) «потребности в эротическом переживании» у Н.И. Фешина [16, с. 99].
В заключение выделим следующие моменты. В творчестве художника Н.И. Фешина обнаруживается огромное количество работ в жанре ню, выступающих не только в качестве его творческой лаборатории. Фешинские ню раскрывают глубинные аспекты его психики и сложность межличностных отношений, что делает их особенно интересными для анализа и интерпретации. Они передают эстетические предпочтения мастера, сложность его взаимоотношений с матерью и женой-натурщицей, внутренние конфликты и психологические травмы, а также амбиции художника. О работах Николая Ивановича в жанре ню нельзя говорить как простых изображениях человеческого тела, потому что существует сложная взаимосвязь между художником, натурщицей и работами в жанре ню. И об этом свидетельствует фешинское творчество. Посредством рисования обнаженной натуры мастер транслировал смыслы, нередко сокрытые от других и даже до конца неосознаваемые им самим. При интерпретации фешинских произведений в жанре ню через призму биографии выясняется, что в его работах внутренний опыт выносился во вне, а молчащий Эрос трансформировался в говорящий. Среди причин частого обращения Николая Ивановича к жанру ню назовем его образование и потребность совершенствовать художественно-технические навыки, желание понять женщину, обусловленное психологической травмой брошенности, нанесенной матерью, и противоречивыми тактиками жены как роковой женщины, а также особенности характера художника и его амбиции.
Фешинские ню свидетельствуют о хорошем образовании художника, благодаря которому он приобрел мастерство и умение передавать особенности человеческого тела в различных ракурсах. Работы в данном жанре указывают на онтологический, гносеологический и аксиологический аспекты творчества мастера, пытающегося понять женскую натуру, истоки ее привлекательности и отталкивания, а также преодолеть психологическую травму брошенности, компенсировать утрату и сублимировать негативные эмоции.
Именно женское тело стало для художника источником вдохновения и творческих поисков, о чем свидетельствуют разнообразные ракурсы и позы жены-натурщицы на полотнах, рисунках и эскизах. Последние часто служили для мастера подготовительным этапом к более масштабным картинам или были самостоятельными произведениями, позволяющими отработать технику, поэкспериментировать с композицией, передачей движения и эмоций. Жанр ню давал свободу Николаю Ивановичу для поиска материала и оттачивания техники от быстрых набросков до детально проработанных рисунков. Изображения обнаженной жены отражали внутренний мир Николая Ивановича, одновременно наполненный не только болью и страхом, но и стремлением к красоте, гармонии и любви. Посредством жанра ню мастер показал власть женщины над ним и свою власть над женщиной.
Николай Иванович связывал понимание женщины с эротической притягательностью и чувственностью, передавая данные черты через совершенство форм женского тела на полотнах и эскизах. Нередко в них мы встречаем изображение отдельных частей тела крупным планом. Они одновременно подчеркивали не только красоту женского тела, но и транслировали идею его уязвимости. Крупный план позволял Фешину передавать сильные эмоции и чувства, как положительные (например, чувственность), так и отрицательные (боль, страдание), вызванные ощущением потери цельности из-за травмы брошенности. Искусство для Н.И. Фешина, транслируя его реакцию на травму, стало попыткой исцеления от нее. Неразрешенный конфликт с матерью привел к подсознательному его переносу на Александру Николаевну. Изображение обнаженной жены в разных ракурсах олицетворяло желание преодолеть полученную в детстве от матери травму через искусство. Оно для мастера стало способом трансформации негативных эмоций в позитивные посредством стремления к высоким ценностям и воплощению идеала в виде обнаженного женского тела. Искусство помогало приблизиться к гармонии и совершенству, компенсируя пережитую утрату материнской любви.
Рисование обнаженной натуры олицетворяло для Н.И. Фешина своеобразный путь к себе. Через тайны женского тела он пытался постичь не только красоту, но и ее оборотную сторону, связанную с негативными проявлениями. В каждом фешинском штрихе и линии отразилось не только женское тело натурщицы-жены, но и сам автор, его внутренний мир и психологические травмы, путь познания себя и мира.
1 Николай Иванович Фешин. С сюжетом ню – картины [Электронный ресурс] // Артхив. URL: https://artchive.ru/nicolaifechin/works/genre:nude (дата обращения: 05.09.2025).
2 Николай Иванович Фешин [1881–1955]. Документы, письма, воспоминания о художнике / [сост. и авт. коммент.: Г.А. Могильникова; авт. вступ. ст. С.Г. Капланова. Ленинград: Художник РСФСР, 1975. С. 93.
3 Николай Иванович Фешин [1881–1955]. Документы, письма, воспоминания о художнике. С. 119.
4 Там же. С. 110.
5 Там же. С. 96.
6 Там же. С. 133.
7 Николай Иванович Фешин [1881–1955]. Документы, письма, воспоминания о художнике. С. 73.
8 Николай Иванович Фешин [1881–1955]. Документы, письма, воспоминания о художнике. С. 93.
9 Николай Иванович Фешин. С сюжетом ню – картины [Электронный ресурс].
About the authors
Elena L. Iakovleva
Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov
Author for correspondence.
Email: mifoigra@mail.ru
Doctor of Philosophy, PhD in Cultural Studies, Associate Professor, Professor at the Department of Philosophy and Socio-Political Disciplines
Russian Federation, KazanReferences
- Krivczun, O.A. (2018) Xudozhnik vidit mir i to, chto nedostaet miru, chtoby` stat` kartinoj [The Artist Sees the World and What the World Lacks to Become a Picture]. Xudozhestvennaya kul`tura [Art Culture], No. 2, 2-33. (In Russian).
- Loomis, A. (2012) Obnazhennaya natura. Rukovodstvo po risovaniyu [Figure Drawing For All It’s Worth]. Transl. from English by A. Kunyaev. Mosсow: E`ksmo. (In Russian).
- Clark, K. (2004) Nagota v iskusstve: Issledovanie ideal`noj formy` [The Nude; a Study in Ideal Form]. Transl. from English by M.V. Kurenna [et al.]. Saint Petersburg: Azbuka-klassika. (Artist and Connoisseur). (In Russian).
- Borovko, A.A., Korneeva, V.M. (2022) Feshiny`: Nikolaj, Aleksandra, Iya [The Feshins: Nikolai, Alexandra, Iya]. Saint Petersburg: Nevskij rakurs. (In Russian).
- Merlo-Ponti, M. (1992) Oko i dux [An Eye and a Spirit]. Transl. from French, Preface and Commentary by A.V. Gustyr. Moscow: Iskusstvo. (In Russian).
- Yakovleva, E. L. (2025) E`kzistencial`ny`j vzglyad na Aleksandru Nikolaevnu Feshinu kak rokovuyu zhenshhinu [An Existential View on Alexandra Nikolaevna Feshina as a Femme Fatale]. Kul`turny`j kod [Cultural Code], No. 1, 78-97. (In Russian).
- Bataille, J. (2007) Istoriya e`rotizma [History of Eroticism]. Transl. from French by B. Skuratov. Moscow: Logos. (In Russian).
- Komkov, O. E`ros i kul`tura v my`sli Zhorzha Bataya [Eros and Culture in Georges Bataille’s Thought]. URL: https://monocler.ru/eros-i-kultura-zhorzh-bataj/ (Accessed 05.07.2025). (In Russian).
- Nikolina, O.I. (2013) «E`rotizm» kak prevrashhennaya forma antropnogo fenomena lyubvi (v filosofii Zh. Bataya) [“Eroticism” as a Transformed Form of the Anthropic Phenomenon of Love (in J. Bataille’s Philosophy)]. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarny`e issledovaniya [Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanities Studies], No. 1, 45-49. (In Russian).
- E`pshtejn, M. E`roticheskoe vs seksual`noe [Erotic vs Sexual]. URL: https://snob.ru/profile/27356/blog/3060374/ (Accessed 05.07.2025). (In Russian).
- Kol`czov, M.V., Vorob`ev, D.O. (2013) Konceptual`ny`j analiz ontologicheskix i psixologicheskix aspektov e`rotizma v kontekste filosofsko-psixologicheskogo issledovaniya proyavlenij vrazhdebnoj destruktivnosti i zhestokosti [Conceptual Analysis of Ontological and Psychological Aspects of Eroticism in the Context of a Philosophical and Psychological Study of Manifestations of Hostile Destructiveness and Cruelty]. Nauchny`j zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Scientific Journal of the Kuban State Agrarian University], No. 87 (03). URL: https://ej.kubagro.ru/2013/03/pdf/02.pdf (Accessed 05.07.2025). (In Russian).
- Naumov, O.D. (2015) «Udvoennaya dialektika»: e`rosofiya Zh. Bataya [“Doubled Dialectics”: J. Bataille’s Erosophy]. Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psixologiya. Sociologiya [Bulletin of Perm University. Philosophy. Psychology. Sociology], Issue 1 (21), 49-54. (In Russian).
- Tanatografiya E`rosa: Zhorzh Bataj i franczuzskaya my`sl` serediny` XX veka (1994) [Thanatography of Eros: Georges Bataille and the French Thought of the Mid-XXth Century]. Comp., Transl. and Comment. by S.L. Fokin. Saint Petersburg: Mifril, VI, 344, [2]. (In Russian).
- Xaritonov, M.V. (2012) Vospriyatie obnazhennoj natury` v reklame [Perception of Nudity in Advertising]. Sociologiya i parvo [Sociology and Law], No. 2 (13), 24-36. (In Russian).
- Plastova, T.Yu. (2020) Kartina A.A. Plastova «Vesna». K istorii sozdaniya [A.A. Plastov’s Picture Spring. To the History of Creation]. Secreta artis [Secreta Artis], No. 1 (9), 3-30. (In Russian).
- Krivczun, O. A. (1992) Psixologicheskie korni e`roticheskogo iskusstva [Psychological Roots of Erotic Art]. Psixologicheskij Zhurnal [Psychological Journal], Vol. 13, No. 1, 95-106. (In Russian).
- Yakovleva, E.L. (2025) A.N. Feshina i ee ambivalentnaya rol` naturshhicy: e`kzistencial`no-fenomenologicheskij analiz [A.N. Feshina and her Ambivalent Role as a Model: Existential-Phenomenological Analysis]. Chelovek. Kul`tura. Obrazovanie [Human. Culture. Education], No. 2 (56), 121-149. (In Russian).
- Agamben, G. (2014) Nagota [Nudity]. Transl. from Ital. by M. Lepilova. Moscow: Gryundrisse. (In Russian).
- Freud, Z. (2015) Ocherki po psixologii seksual`nosti [Essays on the Psychology of Sexuality]. Transl. from German by G. Baryshnikov. Moscow: E`ksmo. (Foreign Classics).
- Kon, I.S. (1989) Vvedenie v seksologiyu [Introduction to Sexology]. Moscow: Medicina. (In Russian).
Supplementary files