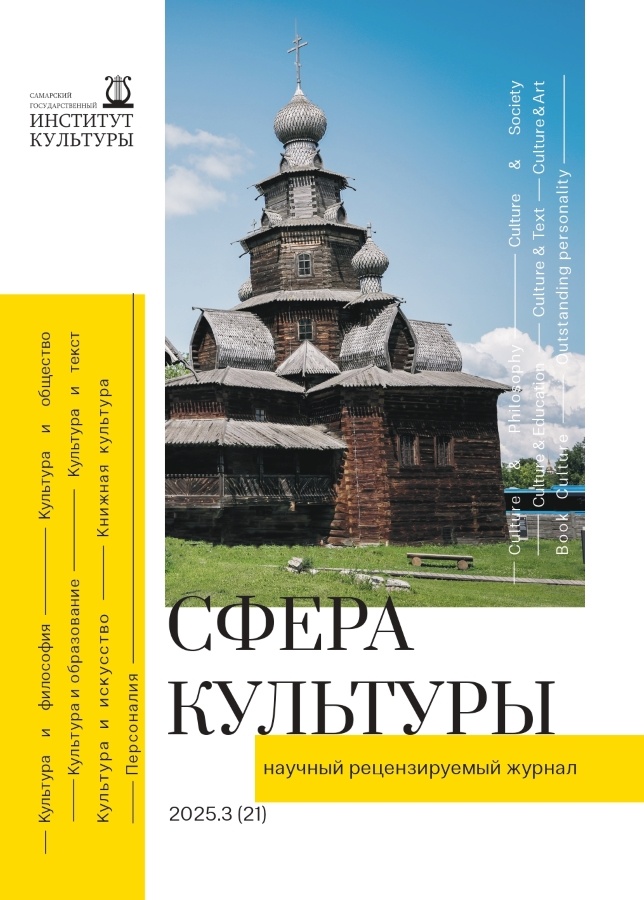Author’s strategies for organizing dialogue with a teenager in the Own Territory project plays1
- Authors: Tyutelova L.G.1
-
Affiliations:
- Samara National Research University
- Issue: Vol 6, No 3 (2025)
- Pages: 113-122
- Section: Сulture & Arts
- Published: 10.10.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/692648
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2025_21_113
- ID: 692648
Cite item
Full Text
Abstract
The festival of collaborative laboratories Own Territory. The Territory of Co-creation has been held in Omsk since 2022 and involves the joint work of playwrights, teachers, psychologists and schoolchildren. Basing on the analysis of plays created within the framework of this project, relevant material for teenage drama is presented in the article. Specifics of reader/viewer expectations and author’s strategies for interacting with recipients are indicated. The genesis of modern teenage drama, dating back to the traditions of the play for adults of the late XIXth century and the turn of the XXth-XXIst centuries, as well as the transformation of its traditions in the field of organizing a dialogue with the viewer, are especially considered.
Full Text
Литература для подростков – явление не новое в нашей культуре, хотя в XVIII в. говорили только о детском чтении, не видя особенной разницы между детьми и подростками. Ситуация начала меняться спустя столетие. Достаточно вспомнить трилогию «Детство», «Отрочество», «Юность» (1851–1857) Л.Н. Толстого, который определил три стадии взросления своего героя. Вторая и отчасти третья, согласно Л.С. Выготскому, и приходятся на то время, которое мы сейчас называем подростковым. Но в случае Л.Н. Толстого речь шла не об особой адресности литературы, а о предмете художественного исследования, проводимого автором. Особого читателя в ребятах двенадцати–восемнадцати лет увидели только в середине ХХ века. Но даже тогда более устойчивыми считались названия «детская» и «молодежная» литература. И адресат первой не был точно дифференцирован.
В настоящий момент во многих работах (стоит вспомнить статьи Е.С. Кабиловой [1], М.С. Костюхиной [2], М.А. Литовской [3], А.А. Сеничевой [4], Э.П. Хомич [5], Ю.О. Чернявской [6] и др.), основываясь на выводах психологов и педагогов, исследователи определяют особенности и тем, и героя, и конфликтов, и авторских стратегий именно подростковой литературы. И.Н. Арзамасцева и С.А. Николаева [7, с. 17–29] называют несколько моментов. Учитывая специфику адресата, возможностей восприятия им художественного текста, а также функций этой литературы, отмечается важность этического начала в произведениях, их художественный консерватизм (произведения формируют читательские компетенции у тех, кто их еще не имеет) и особенности языка (его доступности читателю), а также выражение оптимистичного мировосприятия. Но остается еще много аспектов, не попавших в поле зрения ученых.
В данном исследовании ставится вопрос о работе драматургов с жизненным материалом в рассматриваемых пьесах. На основании коммуникативных теорий и решений проблемы автора, а также современной теории драмы важно выяснить, какие ситуации и каким образом позволяют организовать диалог с подростком.
Материалом для исследования послужили пьесы, созданные в рамках проекта «Своя территория», появившегося в Омске и призванного решить социальные проблемы региона через сотворчество школьников, педагогов, психологов и драматургов. Он существует несколько лет и постоянно расширяет свои границы и меняет форматы.
Уже первое знакомство с пьесами говорит о том, что художественный консерватизм, о котором писали И.Н. Арзамасцева и С.А. Николаева, произведениям не свойственен. Изменение авторских стратегий в подростковой литературе проявилось уже в конце ХХ века. Как отметила М.И. Громова [8], драматурги активно прибегают к художественным экспериментам, используют ранее табуированные приемы и жизненные материалы, ориентируются не на традиции детской и подростковой книги советской эпохи, а на современную взрослую литературу. М.А. Черняк в статье «Новая драма для новых тинэйджеров: к вопросу о типологических чертах современной драматургии» [9] пишет о том, что истоки эксперимента подростковой драмы находятся в актуальной взрослой пьесе рубежа веков, которую принято было называть «новой новой драмой».
Обращение к новодрамовским традициям в рассматриваемой литературе вполне закономерно, так как время ее реципиента – рождающее рефлексию время уединения, когда человек остаётся один на один с предельными основаниями бытия. Согласно возрастной психологии, ребенок стремится понять, кто он, определиться со своими ролями, в том числе – социальными, построить планы на будущее. Рефлексия – отличительная черта «новой драмы», которая свойственна как ее герою, так и ее читателю / зрителю. У последнего она возникает благодаря активному взаимодействию с автором.
Диалог, в который готов вступить подросток, должен быть предельно откровенным. Отсюда вывод М.С. Костюхиной. В одной из своих работ она называет два основных качества подростковой литературы – «актуальность» и «честность» [2]. Следовательно, материалом драмы должны быть только узнаваемые и важные подростку истории. Создатели омского проекта решили проблему его подборки оригинальным способом. На первом этапе потенциальные читатели / зрители сами рассказывали о том, что их волнует. И только на основании их сочинений или интервью драматурги писали свои пьесы. Большинство из них публикуется с указанием «расширенного» списка создателей текста. Александр Тюжин, например, указывает:
«Огромное спасибо:
Даше Притуле
Вике Узакбаевой
Карине Путинцевой
Яне Зверьковой
Тане Энгель
Ире Таракиной
Даше Рагозиной
Никите Кадышеву
Матвею Коноплеву
Ире Дремовой
И Ане типа Сергеевне Кизиковой.
Без которых этого текста бы не случилось»1.
«Своя территория» позволила выявить основной для подростковой драмы материал. Обосновывая проект, его создатели отметили большой процент детских катастроф в регионе. И создание пьесы для подростков и совместно с подростками (а в этом суть проекта) должно было оказать воздействие на ситуацию, поскольку целью «Своей территории» была «помощь ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также формирование у подростков багажа знаний и практик, которыми они могут воспользоваться в своей жизни»2. Трудные жизненные ситуации не только составляют основной материал подростковой драмы, но и выделяют ее на фоне традиционных пьес о ребятах двенадцати–семнадцати лет советского времени.
Как и в драме для взрослых, авторы отказываются от ранее табуированных тем. Борясь с репертуарной пьесой, «новая новая драма» конца ХХ века стала говорить о темах, остававшихся в тени в советском театре. Стоит уточнить, что этот разговор начали не в 1990-е. «Новая волна» конца 1970-х вывела на сцену русских театров героя, который долгое время героем драмы быть не мог. Потому в свое время так много писали о том, что Л. Разумовская, А. Галин, В. Арро, В. Славкин и другие возродили в русской драме чеховскую традицию, находившуюся в тени на протяжении всего ХХ века. «Новая волна» вновь представила на драматических подмостках человека, не способного быть героем с большой буквы, человека рефлексирующего, а не действующего. Он был поглощен бытовыми проблемами (Л. Петрушевскую даже обвиняли в том, что на ее сцене показаны не конфликты, а склоки), не обладал целостным видением ситуации, но это не помешало авторам задать читателю / зрителю вопросы о сущности жизни, ее целях и ценностях.
В 1990-е Н. Коляда, драматурги его школы и их современники (в частности – тольяттинские авторы) в еще большей мере настаивали на новом герое, на новых для сцены жизненных коллизиях. И была продолжена работа с материалом, который в свое время заставил критиков отметить «магнитофонную правду» пьес Л. Петрушевской, а в конечном итоге породил документальный, остросоциальный театр рубежа XX–XXI веков. Это один из вариантов «новой новой драмы». Именно ее черты видит и в подростковой пьесе М.А. Черняк.
Таким образом, одна из первых задач омского проекта – «не замалчивать проблемы подростков, а говорить о них»3 – указывает и на истоки драмы, которая стала результатом совместной работы участников «Своей территории», и на актуальный для нее материал.
Темы пьес – катастрофы, случающиеся в жизни подростков: буллинг, самоубийства, непонимание близких, борьба за лидерство, неразделенные чувства и пр. Их предложили молодые участники «Своей территории» в сочинениях и интервью. Итоговый формат проекта – пьеса – предполагает, что в детских работах нужно говорить о том, что может стать именно драматическим материалом. Герой не может находиться в ситуации гармонии с миром. Нужны противоречия, требующие действия. Отсюда негативный опыт столкновения с миром, о котором рассказывает подросток. В работе, созданной по итогам проекта 2023 г., Надежда Стоева отметила: «Драматурги предъявили нам и неудобные темы, перестав показывать подростков только как жертв произвола взрослых, школьной системы или собственных одногодков»4. Критик считает, что драма вышла на новую территорию и предложила понять особенности современных «трудных» подростков.
Во многих поколенческих исследованиях отмечаются особенности современных детей. В частности, говорится о том, что они проводят большую часть своего времени в сетевом пространстве (см., например, работу В.Я. Аскаровой [10]) и предпочитают сложно составленные образы вербальным (см. исследование Т.А. Тихоновой) [12, c. 227]. В этой связи сцена, на которую ориентируются драматурги, предлагает своему зрителю материал актуальный не только по содержанию, но и по форме.
При этом стоит отметить, что театр становится не местом обучения по образцам, а пространством рефлексии. В связи с этим необходимо еще раз вспомнить о важной для «новой новой драмы» чеховской традиции. Она возникла в то время, когда зритель захотел увидеть на сцене себя. Драматург конца XIX столетия предложил такой вариант текста, который задает вопросы, но не дает ответы. Зритель при этом чувствует, что это вопросы не героев, а его собственной жизни, без ответов на которые увидеть будущее невозможно. В итоге он ищет выход из жизненных ситуаций вместе с героями, а иногда и вместо героев, которые у Чехова, по сути, своей нелепостью бездействия побуждают к активности зрителя.
В случае со «Своей территорией» выход должен быть подсказан автором, поскольку это театр не для взрослых, к которым преимущественно обращен Чехов. Недаром Б.И. Зингерман заметил, что его героям около сорока: «В центре чеховской драмы персонажи, достигшие середины жизненного пути: они и обольщений молодости еще не забыли, и чувствуют уже близкую старость» [12, с. 8]. Такие герои и видящий в них себя зритель, имея жизненный опыт, могут самостоятельно найти ответы на поставленные автором вопросы.
Иная ситуация в подростковой драме. Читатель / зритель в ней также озабочен вопросом «каковы мои роли и кто, собственно, Я?», но в поиске ответов ему нужна помощь, что обуславливает поэтические особенности драмы для подростков, специфику использования автором жизненного материала.
Оценивая пьесу участника проекта Игоря Витренко «Яна всем нравится (нет)», Павел Руднев заметил, что драматург не только указывает на катастрофические истории, но и подсказывает выход: «…творческая работа с психологом помогла создать не просто социально тревожную пьесу, но включить в нее терапевтический эффект. Причем рецепт спасения не выглядит тут как универсальная отмычка ко всем случаям, как лекарство от всех болезней, что было бы фальшиво»5.
Следовательно, авторам важно не столько навязать свой ответ читателю / зрителю, сколько обнажить механизм развития кризисных отношений ребенка с миром. И граница между абсолютизацией авторской позиции и свободой реципиента достаточно тонкая. Необходимо, чтобы вывод в той или иной мере появлялся благодаря убедительности анализа ситуации. В свое время А.П. Чехов признавался: «Художник должен быть не судьею своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем. <…> Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные показания от не важных, уметь освещать фигуры и говорить их языком»6. А Павел Руднев отмечает: «Пьеса Витренко как документальный очерк вскрывает холодную механику буллинга, как и с чего начинается травля, как развивается и как может завершиться. Драматург анализирует механизм зарождения зла: и в сущности его вывод очень точен – зло иррационально, лишено серьезной мотивации»7. Оценка критика свидетельствует о том, что современные авторы используют чеховские поэтические принципы работы с жизненным материалом.
Замечание Павла Руднева, помимо прочего, говорит и о том, что рассматриваемая драма – это не только пьеса для подростка. В этом заключается особенность литературы для юных читателей. Она обращена и к взрослому, которому автор открывает мир ребенка и позволяет понять меру собственной ответственности за происходящее с ним. Недаром в комментариях к пьесе Марии Малухиной «Бумажные ножи» находим признание читателей в том, что пьеса познакомила даже с новыми словами.
Организовать разговор с подростком драматургу помогают особенности драматического мира как такового. В нем между героем и читателем / зрителем нет видимого посредника (драматург и режиссёр остаются в тени), подростки видят перед собой преимущественно сверстников: образы взрослых остаются на периферии драматического мира и на роль наставников не годятся. В целом в современной подростковой драме родители, педагоги, соседи больше озабочены своими взрослыми проблемами и должного внимания героям-подросткам не уделяют. Очень показателен образ матери в пьесе Саши Тюжина «Серафима». Между героями нет и не может быть взаимопонимания. Мать считает, что выполнила свои родительские обязанности: «Тебе чего не хватает? Одета, обута, холодильник трехкамерный… слава богу забитый. Придури все оплачиваю. Танцы эти твои вшивые. Семь лет. Се-е-емь лет все отстегивала»8. А в пьесе Евгении Алексеевой «Разные матери, разные звери» речь идет о четырех вариантах манипулирования детьми, которые вынуждены спасать себя сами.
Героям трудно вступить в диалог с миром, поэтому возникает интересное режиссерское решение при постановке пьес. Елена Павлова увидела «Серафиму» Саши Тюжина как «непрекращающийся танец главной героини Серафимы (в исполнении актрисы нижнетагильского Нового молодежного театра Анны Павловой). <…> Сюжет выстраивается в постепенном узнавании причины этого танца – от иногда резкого, агрессивного до замедленного, лирического»9. Надежда Стоева прочитала этот танец как «бесконечный внутренний диалог-монолог с самой собой. <…> Серафима держит все в себе и не дает внешнему миру увидеть ее танец»10.
При работе с образами взрослых участники проекта делают исключение. Поскольку в «Своей территории» участвуют психологи, которые должны помочь разобраться в проблемах подростков, в пьесах появляются их образы, как в «Серафиме» Саши Тюжина. Это своеобразная подсказка: психолог умеет слушать. Можно говорить не с ним, но в его присутствии и в этом «разговоре» услышать самого себя.
Интересно, что и в современной повести, в отличие от повестей советского времени, авторы предпочитают или так называемого драматического повествователя, который не оценивает происходящее, а лишь фиксирует его, или форму автотекста – записок, дневников, постов и т. п. То есть голос взрослого как авторитетный не звучит и в современном подростковом эпосе. Литература дает возможность читателю вступить в диалог со сверстниками напрямую.
В «Своей территории», будучи соавторами драматургов, участвующие в проекте подростки подсказывают не только реплики персонажей драмы, но и становятся голосом ремарки. Вот пример из пьесы Екатерины Гуземы «Одиннадцать правдивых времен»:
Небольшой город на сколько-то десятков тысяч людей. Маленький – да. Но так-то всего в часе езды от миллионника. Так что нормально. Можно часто туда ездить – маршрутка ходит постоянно. Но так-то и в этом городе все есть: Wildberries на каждом шагу, Fix Price, почти инстаграмная кофейня. ТЦ – позорный, конечно. Но сейчас даже и в миллиониках нормальных магазинов одежды нет11.
Как говорят языковые особенности паратекста (это имитация устного рассказа: «Маленький – да. <…> Но так-то в этом городе…») и выраженный в нем взгляд на пространство, ремарочный субъект Гуземы – подросток с его системой ценностей, когда город – это место со знаками именно нашей цивилизации. И всего этого, на первый взгляд, достаточно. Собственно, прав Павел Руднев. Он видит одну из причин буллинга в гипертрофированной жажде одобрения окружающими. А это то, «что воспитывает в нас массовая культура»12. И ее приметы – это приметы мира потребления – Wildberries, Fix Price, торговый центр, которому и принадлежат современные подростки.
Театр улавливает особенность представления событий в подростковой пьесе сквозь призму видения мира преимущественно героем или его сверстником. Например, в показанном в рамках проекта эскизе пьесы Игоря Витренко «Подруга из мертвого города» ремарки озвучивались игравшей роль молодой героини актрисой. Более того, в тексте есть персонаж Митя-рассказчик. Его реплики – это, по сути дела, те же ремарки. Они со времен «новой новой драмы» перестают быть паратекстом, часто становятся неотъемлемой частью сценического представления.
Сокращают дистанцию между пьесой и реципиентом и авторские названия картин, которые, например, дает Мария Малухина в «Бумажных ножах»13 – «Красные шнурки», «Перезашквар», «Проблемы решал», «Буйна́я». В названиях сохраняются орфоэпические особенности подростковой речи – «Буйна́я», ее своеобразный лексический состав.
Но главное авторское средство сокращения дистанции – герой драмы и его заботы, узнаваемые истории и необходимость найти выход из сложившейся ситуации. Э.П. Хомич в статье «Проблемное поле подростковой литературы» [5] пишет, что литературный герой современной литературы для читателя 12+ освобождается от пафоса и патетики, а главное – он активно ищет общения со сверстниками, не пренебрегает повседневностью, энергичен и адекватен.
При этом обычный в изображении подросток в современной литературе, хотя и представлен без глянца и парадности, как того требовали законы искусства советского времени, способен личностно развиваться и давать надежду читателю / зрителю на будущее. Об этом говорят ситуации подростковой пьесы. Как правило, авторы проводят своих героев через испытания, требующие сделать выбор. И это выбор, как говорят, например, картины Марии Малухиной, между добром и злом. Причем кажется, что зло иррационально и непобедимо, поскольку пересечь границу и встать на его сторону просто.
Все внимание драматургов сосредоточено на тех, кто страдает от этого зла и ищет способы не поддаться ему, не стать им. Выбор оказывается непростым и неочевидным. Герои могут меняться местами: проявляющие агрессию – становятся жертвами тех, кого они третировали, как Кира и Добрыня в «Бумажных ножах» Марии Малухиной. И тогда обнаруживается, что видимое противостояние персонажей может быть мнимым. Противоречие, исследуемое современной драмой, не межличностное. Оно связано со становлением личности, ее поиском себя в мире, который чаще проявляет по отношению к человеку агрессию. Авторы стремятся не столько исследовать типологию и генезис зла, сколько найти возможность противостояния ему и сохранения в себе человеческого.
Первый и очевидный порыв – ответить на силу силой. Отсюда и появление, как показывает Мария Малухина, подростковых объединений, похожих на банды. Они могут возникать тогда, когда подросток видит, что решить проблемы в одиночку он не в состоянии. Причем обращение к взрослым за помощью оказывается невозможным. Частый мотив подростковой драмы – отсутствие понимания между детьми и родителями. Герои могут беседовать с ними только тогда, когда диалог оказывается мнимым. Им удается говорить только с тем, кого нет и не может быть рядом, как у Саши Тюжина в «Серафиме»:
Сима. Почему? Почему? Почему? Почему, блин, тебя нет рядом, когда так надо? Почему в танцах есть поддержка, а в жизни ее не дождешься? Как же бесит это все. И все бесят. Я как будто с другой планеты, блин. Как же хочется свалить. На луну, на Марс, на Венеру, куда угодно. Когда там у Маска эта долбанная экспедиция? Ты знал, что так будет, знал, да? Я вообще ни фига не понимаю, почему с каждым днем все только сложнее? Как теперь воообще? Нельзя было проще как-то устроить?14.
Не получается разговор и с психологом, и с учителями, поскольку они часто сосредоточены не на проблемах героев, а на своих собственных. Но пьесы не только констатируют отсутствие понимания между взрослыми и детьми, но и говорят о необходимости искать путь к ребенку. Поэтому драматурги заставляют своих героев стремиться к диалогу, если речь идет о психологах, а родителей все-таки ведут к пониманию и себя, и собственной ответственности за детей. Герой Марии Малухиной, например, вдруг обнаруживает, что никак не может и сам повзрослеть. Если этого понимания нет у героев, оно возникает у зрителя, которому автор показывает, насколько губительна невозможность диалога родителей и детей. Иногда она даже катастрофична.
Авторы настойчиво ищут выход из ситуации столкновения со злом, которое столь привлекательно для человека определенного возраста. Главный, о котором говорят пьесы «Своей территории», – умение видеть в себе и другом человека. Это путь к пониманию, к преодолению одиночества и надежде на возможность жить, а не бороться за выживание.
Примечателен финал пьесы Саши Тюжина «Серафима»:
Корней (пауза). Знаешь, я когда-то давно пытался придумать супер-героя. Вот, что он живет здесь прямо на горе, защищает Тагил от преступников и все такое. И все никак не мог понять, как он должен выглядеть. Ну то есть, костюм, маска, вот это все. Я думал, это самое главное, а теперь мне кажется, что он может быть такой же как и все. Это даже лучше, потому что любой из нас может оказаться этим героем.
Сима (пауза). И что дальше? Типа все будет хорошо?
Корней. Не факт. Вообще не факт. Я ничего не обещаю. Но ты мне нравишься, и я буду стараться, чтобы тебе было хорошо.
Корней берет Симу за руку… Может быть и правда, все будет хорошо и у них все получится?15.
Очевидных оптимистичных финалов нет в подростковой драме. Они лишь подсказывают выход и дают надежду, что подросток найдет себя и, понимая других, сам станет сильнее. Вернемся опять к проблеме чеховской традиции в подростковой драме. Автор конца XIX в. говорил о необходимости оставаться человеком в условиях, когда от личности, ее выбора, ее решений мир не зависит. Драма с ее юным адресатом, даже если авторы разделяют точку зрения Чехова и видят, что мир стремительно перестает быть антропоцентричным, сохраняют у читателя / зрителя веру и в возможность победы над злом (хотя бы в себе самом), и в зависимость мира и человека от выбора, который делает личность. Об этом говорят драматические финалы и в этом, при всей жесткости драмы для подростков, ее отличие от пьес, адресованных взрослым.
Таким образом, пьесы «Своей территории» особенностями организации диалога с залом посредством героя – его речи и его судьбы, узнаваемых жизненных ситуаций, обнаруживают проблемные зоны жизни современных подростков. Но они не только говорят об актуальных темах современности на основе реальных подростковых историй, но и показывают, как эти истории понимают сами подростки – участники проекта, а с помощью педагогов и психологов драматурги и режиссеры еще и подсказывают возможные варианты решения проблемы. Авторы высказывают свою позицию не напрямую, тем самым ориентируясь на опыт «новой новой драмы» рубежа XX–XXI вв. и в то же время трансформируя его: меняя звучание финала пьесы, вводя нового ремарочного субъекта, заставляя рефлексирующего героя действовать. В итоге появляется особая пьеса, востребованная театром, ориентированным на юного зрителя.
1 Тюжин С. Серафима [Электронный ресурс]. URL: https://remarka-drama.ru/plays#2024 (дата обращения: 11.08.2025).
2 Своя территория [Электронный ресурс]. URL: https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=2f53278a-e6de-48a2-9ca6-c49494e6a5e5#winner-aims (дата обращения: 11.08.2025).
3 Там же.
4 Стоева Н. Добро пожаловать в долбанный мир [Электронный ресурс] // Петербургский театральный журнал. 2023. 23 дек. URL: https://ptj.spb.ru/blog/dobro-pozhalovat-v-dolbanyj-mir/ (дата обращения: 11.08.2025).
5 Руднев П. Колонка куратора. «Своя территория» [Электронный ресурс] // Недоросль. URL: https://nedorosl.com/tpost/n8ecj5eph1-pavel-rudnev-kolonka-kuratora-svoya-terr (дата обращения: 11.08.2025).
6 Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 12 т.: Т. 2. Письма, 1887 – сентябрь 1888. Москва: Наука, 1975. С. 280.
7 Руднев П. Колонка куратора. «Своя территория» [Электронный ресурс].
8 Тюжин С. Серафима [Электронный ресурс].
9 Стоева Н. Добро пожаловать в долбанный мир [Электронный ресурс].
10 Там же.
11 Гузема Е. Одиннадцать правдивых времен [Электронный ресурс]. URL: https://remarka-drama.ru/plays#2024 (дата обращения: 11.08.2025).
12 Руднев П. Колонка куратора. «Своя территория» [Электронный ресурс].
13 Малухина М. Бумажные ножи [Электронный ресурс]. URL: https://remarka-drama.ru/plays#2024 (дата обращения: 11.08.2025).
14 Тюжин С. Серафима [Электронный ресурс].
15 Тюжин С. Серафима [Электронный ресурс].
About the authors
Larisa G. Tyutelova
Samara National Research University
Author for correspondence.
Email: tyutelova.lg@ssau.ru
Doctor of Philology, Associate Professor, Head of the Department of Russian and Foreign Literature and Public Relations
Russian Federation, SamaraReferences
- Kabilova, E.S. (2023) Internet-prostranstvo v sovremennoj dramaturgii o podrostkax [Internet Space in Modern Drama about Adolescents]. Semioticheskie issledovaniya. Semiotic studies [Semiotic Research. Semiotic studies], Vol. 3, No. 1, 41-47. (In Russian).
- Kostyuxina, M.S. (2007) Otkroveniya podrostka [Revelations of a Teenager]. Detskoe chtenie [Children’s Reading]. URL: https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200701911 (Accessed 11.08.2025). (In Russian).
- Litovskaya, M.A. (2009) Massovaya literatura kak uchebnik zhizni: «zhanrovy`e» knigi dlya podrostkov [Mass Literature as a Textbook of Life: “Genre” Books for Adolescents]. Kul`t-tovary`: fenomen massovoj literatury` v sovremennoj Rossii: sbornik nauchny`x statej [Cultural Goods: the Phenomenon of Mass Literature in Modern Russia: a Collection of Scientific Articles]. Compl. by L. Savkina, M. A. Chernyak. Saint Petersburg: The Saint Petersburg Press Institute, 95-100. (In Russian).
- Senicheva, A. A. (2025) Podrostkovaya drama: k voprosu o genezise i specifike zhanra [Teenage Drama: to the Question of the Genesis and Specifics of the Genre]. Vestnik Cherepoveczkogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Cherepovets State University], No. 4 (127), 100-111. (In Russian).
- Xomich, E`.P. (2016) Problemnoe pole podrostkovoj literatury` [The Problem Field of Teenage Literature]. Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya [World of Science, Culture, Education], No. 1 (56), 325-327. (In Russian).
- Chernyavskaya, Yu.O. (2025) Priemy` komicheskogo v «Povesti Alika Detkina. Ochen` strashnaya istoriya» A. Aleksina v kontekste kul`tury` 1960–1970-x godov [Comic Techniques in A. Aleksin’s Alik Detkin’s Tale. A Very Terrible Story in the Context of Culture of the 1960s-1970s]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Tomsk State Pedagogical University Bulletin], Issue 1 (237), 92-102. (In Russian).
- Arzamasceva, I.N., Nikolaeva, S.A. (2005) Detskaya literatura: uchebnik dlya studentov vy`sshix pedagogicheskix uchebny`x zavedenij [Children’s Literature: a Textbook for Students of Higher Pedagogical Educational Institutions]. Moscow: The Akademiya Publishing Centre. (In Russian).
- Gromova, M.I. (2017) Russkaya dramaturgiya koncza XX – nachala XXI veka: uchebnoe posobie [Russian Drama of the Late XXth – Early XXIst Century: a Tutorial]. Moscow: Flinta. (In Russian).
- Chernyak, M.A. (2020) Novaya drama dlya novy`x tinejdzherov: k voprosu o tipologicheskix chertax sovremennoj dramaturgii [New Drama for New Teenagers: to the Question of Typological Features of Modern Drama]. Ucheny`e zapiski Petrozavodskogo universiteta [Scientific Notes of the Petrozavodsk University], Vol. 42, No. 7, 87-94. (In Russian).
- Askarova, V.Ya. (2022) Kul`turnaya politika v sfere stimulirovaniya chitatel`skoj aktivnosti molodezhi: prioritety` cifrovoj e`poxi [Cultural Policy in the Field of Stimulating Reading Activity of Young People: Priorities of the Digital Era]. Sfera kul`tury` [Sphere of Culture], No. 2 (8), 113-128. (In Russian).
- Tixonova, T.A. (2013) Specifika internet-kommunikacii kak formy` vzaimodejstviya v virtual`no-informacionnoj srede internet [Specifics of Internet Communication as a Form of Interaction in the Virtual Information Environment of the Internet]. Aktual`ny`e problemy` social`noj kommunikacii: materialy` chetvertoj Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Current Problems of Social Communication: Materials of the Fourth All-Russian Scientific Practical Conference]. Nizhny Novgorod: the Publishing House of the Nizhny Novgorod R.E. Alekseev State Technical University, 226-229. (In Russian).
- Zingerman, B.I. (1988) Teatr Chexova i ego mirovoe znachenie [Chekhov’s Theater and its World Significance]. Execut. Ed. A.A. Anikst. Moscow: Nauka. (In Russian).
Supplementary files

Note
1 The article was written on the basis of a report presented at the Xth International Conference “Synthesis of Documentary and Artistic in Literature and Art” (Kazan, May 5-8, 2025).