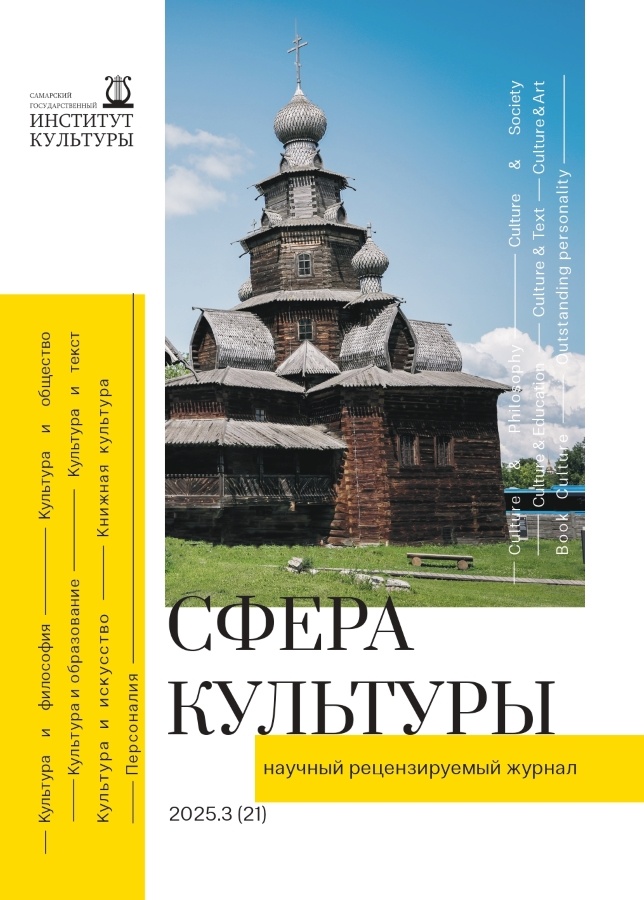Family reading in the visual arts
- Authors: Khromov O.R.1,2
-
Affiliations:
- Moscow Theological Academy of the Russian Orthodox Church
- The «Nauka» Scientific and Publishing Center of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 6, No 3 (2025)
- Pages: 125-137
- Section: Book Culture
- Published: 10.10.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/692678
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2025_21_125
- ID: 692678
Cite item
Full Text
Abstract
The reader and the reading process are widely represented in works of fine art, in particular in painting and graphics. Particular attention is paid to the history of the formation of the reader’s image from symbolic to realistic ones. The main stages of the transformation of the reading process in images of different eras are shown, from Antiquity and Early Christianity to modern times inclusive. The author analyzes works depicting family reading, makes an attempt to trace the way its understanding has changed in the visual arts. In general, the article is an overview of pictorial and graphic images of the reader in European art with an emphasis on Russian art from the Middle Ages to the beginning of the XXth century.
Full Text
Книга-кодекс появилась в изобразительном искусстве почти с самого начала возникновения данной формы документа – во II веке нашей эры. В Античности и в период раннего христианства ее изображение вместе с человеком указывало на Божественные знания, ученость, писательскую, литературную деятельность этого лица. В конкретных случаях книга выступала как необходимый атрибут в руках святого, например апостола Павла, позволяя идентифицировать изображенного. Именно тогда книга приобрела символическое значение, которое сохраняет до наших дней. При этом данная символика, как и у многих других предметов в христианской культуре, отличается определенной полифоничностью. Книга выступает как предмет божественный, наделяющий обратившегося к ней мудростью и добродетелью, и в то же время может содержать знания потаенные (магические, еретические, бесовские). Не случайно в «Молоте ведьм» – знаменитом трактате по демонологии и борьбе с колдовством – изображен бес, вручающий «черные», магические гримуары ведьмам.
В произведениях изобразительного искусства процесс чтения нередко также имел символический характер и со времени раннего христианства трактовался в двух прямо противоположных значениях: как нечто добродетельное или порочное. Дополнительную смысловую нагрузку приобретали особенности изображения книги и ее окружения, иконографические детали. В зависимости от них она рассматривалась как символ добродетели или порока.
Как предмет изображения книга постоянно находится в поле зрения искусствоведов. В отечественном книговедении данная тема почти не затрагивалась. Специалисты отмечают важность изобразительных источников для реконструкции исторических процессов в книжном деле [1]. Книге в искусстве посвящен альбом 1989 г., а также небольшие заметки и статьи [2; 3, с. 74-79; 4, с. 321-329]. В зарубежной науке наблюдается прямо противоположная ситуация – данная тема неоднократно становилась предметом специального монографического исследования [см., напр.: 5–9].
Искусствоведами книга изучается не только как предмет пространственного искусства, но и как предмет изображения, деталь в картине, часть композиции произведения, обладающая нередко скрытым смыслом. Иллюстрации и книжный декор в истории и практике графики часто рассматриваются и самостоятельно, вне материального носителя.
Отметим основные направления изучения изображений книги: в области символики, эмблематики и аллегорий, близко к этому направлению – исследование книги в изобразительном искусстве как предмета атрибутики, персонификации персонажа. Особого внимания в плане искусствоведения заслуживает книга как часть предметного мира в картине, иконографическая деталь, позволяющая увидеть и понять скрытые смыслы в изображении. Все эти вопросы, в частности, затрагиваются в популярной книге Ю.В. Щербининой [10], недавно вышедшей в свет, рассматривались они и в академической науке [11].
В живописи и графике есть особая тема, весьма популярная и связанная с непосредственным изображением читателя и процесса чтения (индивидуального и коллективного). Изображение читателя, чтения интересно для живописца с точки зрения особого состояния модели, которая погружена в невидимый мир, что неизбежно находит отражение в её чувствах. Уловить и передать это внутреннее переживание, используя лишь внешние выразительные средства, довольно непросто. Надо сказать, что такой подход к изображению читателя сформировался далеко не сразу, первые картины носили скорее назидательно-символический характер.
В искусстве можно встретить изображения чтения как добродетельного (ученого, божественного, вдохновленного), так и греховного, в прямом смысле «бесовского», тайного, сокровенного. В качестве примера изображения «черных» греховных книг можно привести иллюстрации из знаменитого трактата Г. Кремера и Я. Шпайра «Молот ведьм» (1487), о которых мы уже упоминали выше. Первое в европейской живописной традиции всегда абсолютно преобладало над вторым (ил. 1).
Ил. 1. Получение ведьмами «черных книг». Трактат «Молот ведьм». 1487. Ксилография. Факсимиле. Из открытых интернет-источников
В визуальном представлении чтения мы можем наблюдать как символические, атрибуционные образы, так и портреты конкретных личностей (индивидуальные или групповые). При этом даже в реалистичном исполнении изображения можно увидеть проявление архетипических символов, предметов, позволяющих понять характер представленного, их индивидуальные черты.
Изображение чтения в живописи и графике прошло свой исторический путь, попробуем представить его основные этапы и изменения.
Древнейшее изображение читателя можно видеть в произведениях раннехристианского и средневекового искусства. Здесь процесс чтения получил твердое значение положительного действия. Грамотность, умение читать – это признак не только учености, мудрости, но и понимания Высшего, ибо позволяет постичь знания богодухновенных книг.
Одна из первых популярных композиций, изображающих чтение или обучение ему, в большинстве случаев показывала данный процесс как высшую добродетель, что связано не только с античной мифологией, но и с христианской традицией.
Пречистая Дева Мария получает весть от архангела Гавриила за чтением – это один из иконографических вариантов Благовещения. В западноевропейской традиции, согласно толкованию св. Бернарда, Дева Мария читала пророчество Исайи (Ис. 7:14): «Се, Дева во чреве примет, и родит Сына…»; закрытая книга в руках Девы Марии также была связана с пророчеством Исайи: «И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге» (Ис. 29:11–12) [12, с. 104]. В произведениях XIV–XV вв. книга у Пресвятой Девы имеет символико-атрибуционный характер как необходимый элемент композиции, например в Благовещении (1308–1311) Дуччо ди Буонинсенья (Duccio di Buoninsegna, ок. 1255–1319), в Благовещении (1333) Симоне Мартини и Липпо Мемми (Simone Martini, ок. 1284–1344; Lippo Memmi, 1291–1356). Однако позднее, в сцене Благовещения, она приобрела конкретный смысл, например в знаменитом Алтаре Мероде (1425–1430) Робера Кампена (Robert Campin, ок. 1378–1444) мы видим изображение Часослова на столе и в руках Девы Марии. Известны образы Богородицы просто за чтением. Среди русских произведений можно вспомнить чудотворную икону Богоматери Калужской, покровительницы г. Калуги и Калужской земли, обретенную в 1748 г. (ил. 2, 3).
Ил. 2. Робер Кампен (возможно его ученики). Алтарь (триптих) Мероде (Благовещение). 1425-1430. Дерево, масло. Нью-Йорк. Музей «Клойстерс» – филиал Метрополитен-музея
Ил. 3. Богоматерь Калужская. 1853. Дерево, масло, серебро, чеканка, гравировка. Калуга. Храм в честь святителя Николая
C XIV в. появляются изображения, на которых св. Анна, мать Девы Марии, обучает ее чтению. Этот сюжет, в частности, получил развитие в католической церкви. Его можно видеть в качестве алтарного образа в часовнях и храмах, посвященных св. Анне и возведенных, как правило, в эпоху барокко.
В поздней традиции мы видим изображение Святого Семейства, где Богородица обучает Младенца Иисуса чтению, например гравюра французского художника Антуана Луи Романе (Antoine-Louis Romanet, 1742–1807) по оригиналу Бартоломео Шедони (Скедони, Bartolomeo Schedoni, 1578–1615) «Богоматерь, обучающая чтению Младенца Иисуса» из альбома Галереи герцога Орлеанского.
Известны и другие сюжеты из Священного Писания, например, «Пророчица Анна, обучающая чтению Самуила» – гравюра Дж. Вагнера (Joseph Wagner, 1706–1786) по оригиналу Якопо Амигони (Jacopo Amigoni, 1675/1682–1752) 1730–60-х годов. По всей видимости, эти произведения – одни из первых изображений семейного чтения (ил. 4).
Ил. 4. Гравюра Антуана Луи Романе по оригиналу Бартоломео Шедони «Богоматерь, обучающая чтению Младенца Иисуса». Конец XVIII в. Резец. Москва. Частное собрание
В Средневековье книга была, прежде всего, атрибутом Девы Марии, пророков, апостолов, св. Иеронима и других святых. Она изображалась как священный предмет, Священное Писание, однако чтение в современном его понимании на картинах данного периода отсутствует. При этом мы видим святых писцов – евангелистов, читателей, обитающих в монастырях и т. п. Процесс чтения в средневековом искусстве – это сакральный процесс постижения Божественной истины.
В XVI–XVII вв. изображение чтения приобрело не только религиозный, но и светский характер (нравоучительный, аллегорический и символический). С развитием гуманистических идей, Реформации среди образов читателей в европейском изобразительном искусстве появились новые герои, например «дурак-библиофил» в знаменитом «Корабле дураков» Себастьяна Бранта в исполнении Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer, 1471–1528). Создаются первые портреты издателей, причем не всегда с изображением книги и соответствующей атрибутики. Например, на прижизненном портрете антверпенского издателя Христофора Плантена (лат. Christophorus Plantinus, 1520–1589), гравированного Яном Вириксом (Jan, Johannes Wierix, 1549–1620), изображен почтенный человек без какого-либо книжного контекста. О роде его деятельности сообщает лишь гравированная надпись на эстампе. Но на другом портрете кисти неизвестного мастера 1612–1616 гг. Христофор Плантен уже с книгой и циркулем, указывающими на род его деятельности.
В эпоху Просвещения получили распространение образы нерадивых читателей и неблагочестивого «бесовского чтения», например в эстампе французского гравера и историка искусства, автора трехтомного словаря граверов Пьера-Франсуа Базана (Pierre-François Basan, 1723–1797) (ил. 5). Однако при большом разнообразии сюжетов в изображении чтения сохранялся символико-аллегорический характер, прежде всего в популярных античных мотивах, образах муз, героев и богов.
Ил. 5. Гравюра Пьера-Франсуа Базана «Бесовское чтение». Середина XVIII в. Офорт, резец. Москва. Частная коллекция
В картинах на античные сюжеты находим своеобразные изображения семейного чтения как акта передачи мудрости и учености. Например, полотно «Меркурий, обучающий Амура чтению» Тициана (Tiziano Vecellio, 1488/90–1576) находилось в коллекции Филиппа II, герцога Орлеанского. Впоследствии оно было растиражировано при помощи техники гравирования и, увидев свет в альбоме 1808 г., стало одним из популярных сюжетов (ил. 6).
Ил. 6. Гравюра Жака Буйера (Jacques Bouillard, 1744–1806) по оригиналу Тициана «Меркурий, обучающий Амура чтению». 1808. Офорт, резец. Москва. ГМИИ им. А.С. Пушкина
Эти своеобразные картины «семейного чтения», обучения чтению сохраняли то направление в сюжетах, которое продолжало архетипическую традицию, идущую изначально из понимания чтения как добродетели.
В век Просвещения эти тенденции продолжали сохранять назидательность и нравоучительность в изображении чтения, а также в использовании книги как атрибута конкретного персонажа, характеризующего его. В это время такие произведения начали приобретать светские черты и реалистические сюжеты. Книга получила более широкое смысловое значение в картинах, предметном мире искусства, раскрывая скрытое, не изображённое содержание композиций.
Однако среди живописных изображений семейного чтения главной темой оставалось чтение Библии, обсуждение и толкование Священных текстов. Это особая тема в изобразительном искусстве. Она получила развитие в групповом, семейном и индивидуальном портрете, например в творчестве Рембрандта, нарисовавшего портрет своей матери за чтением Библии (1631–1632). На картине Герарда Доу (Gerard Dou, 1613–1675) «Пожилая женщина, читающая Библию» видим пожилую семейную пару в домашнем интерьере за чтением «Книги книг». По природе эту работу можно рассматривать и как семейный портрет, и как жанр. Одним из выдающихся живописных произведений на эту тему стала картина Жана-Батиста Грёза (Jean-Baptiste Greuze, 1725–1805) «Чтение Библии», или «Отец семейства читает Библию своим детям», написанная маслом в 1755 году. Она была выставлена в Королевской академии 28 июня 1755 г., а затем в Парижском салоне, произвела впечатление на публику и пользовалась успехом. Через несколько лет Пьер Франсуа Мартинази (Pierre Francois Martenasie, 1729–1789) исполнил с нее гравюру. В XXI в. картина была объявлена национальным достоянием Франции и выставлена в Лувре (ил. 7).
Ил. 7. Жан-Батист Грёз. Чтение Библии, или Отец семейства читает Библию своим детям. 1755. Холст, масло. Париж. Лувр
Еще в XV–XVII вв. в жанре портретной живописи сложился образ добропорядочного человека, занятого чтением как благочестивым делом. Появился тип семейного портрета, представлявший семью за конкретным, объединявшим ее занятием. В Европе этот тип портрета получил широкое распространение в XVII в., а в России – в XVIII – начале XIX века. Именно в этом жанре создавались настоящие картины семейного чтения, музицирования и декламаций поэтических сочинений. Именно через семейное чтение раскрывалось неизображенное – образ просвещенной, образованной, добродетельной семьи.
При этом в изобразительном искусстве процесс чтения, выполняя по сути аллегорическо-символическую функцию, начал приобретать реальные черты. Таковы, например, некоторые русские портреты дворянских и купеческих семей (ил. 8, 9). Впрочем, изображение дворянских семей за чтением можно было найти и в искусстве Европы и Америки. Тема чтения как важного семейного занятия в XVIII–XIX вв. стала общей для изобразительного искусства всех народов.
Ил. 8. Неизвестный художник. Семейный портрет. 1830-е гг. Холст, масло. Москва. Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени
Ил. 9. Неизвестный художник. Семейный портрет (За чтением). Вторая треть XIX в. Холст, масло. Рыбинск. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
С конца XVIII в. черты реализма при изображении семейного чтения стали в русском искусстве преобладающими. Картинами иллюстрировали мемуары, художественные произведения, этнографические очерки.
Любопытно, что в российском «просвещенном обществе» содержание народного чтения осуждалось. В лубке, народных книгах видели распространение невежества и дурного вкуса, причем как в изображении, так и в содержании. Однако при этом иллюстрации в журналах представляли картину народного чтения (группового и семейного) вполне в идиллическом свете. Например, писатель-сатирик Н.И. Страхов в своих путевых записках отмечал: «Мужики, живущие на больших дорогах, украшают ими (народными картинками, лубками и книжками. – О.Х.) в избе всю стену, а некоторые прибивают их на воротах и подклетах. По вечерам безграмотные собираются на них смотреть, а грамотные читать их и толковать»1. В картинках этого периода нередко можно было видеть крестьянскую семью за сельским чтением – грамотный селянин, подобно античным героям и богам, делился мудростью книг с младшими (ил. 10).
Ил. 10. Г. Фаробин. Сельское чтение. Обложка книги. 1843. Офорт, резец. Российская государственная библиотека
Такие литературно-этнографические иллюстрации, сохраняя этнографическую историческую достоверность, воспроизводили архетипическое представление о книге как высшей добродетели просвещенного общества.
Настоящие изменения в изображении чтения произошли в искусстве после эпохи Романтизма с ее внимательным взглядом в прошлое и настоящее, постепенным уходом от героизации личности и вниманию к человеку, его духовному миру и близкому окружению. Вместо театральности постановок в композициях картин XVIII – начала XIX в. художник изображал окружавшую модель реальность. В постановке модели, ее движении ушла искусственность и пришла естественность, однако по-прежнему в изображении чтения сохранялся архетипический смысл, раскрывающий данный процесс как добродетель, сохраняется он и в наши дни.
В XIX в. во время быстрого развития полиграфической промышленности, эпохи журналов и газет, возраставшего распространения грамотности и образованности произошла демократизация чтения. Прежде сакральный процесс передачи знаний, постижения Божественных истин превратился в обычное занятие, работу, развлечение и семейный досуг.
Достоянием семейного чтения стали не только священные книги, но и газеты, журналы, светские сочинения. Их чтение по-прежнему характеризовало личность. Появились в искусстве и новые изображения чтения в семье, его понимание как семейного занятия. Теперь чтение не всегда объединяло семью. Примером могут служить несколько карикатур Гаварни (Paul Gavarni, 1804–1866) из серии «Мученики», демонстрировавшие различное отношение к чтению в семье: мужа, засыпающего под увлекательное чтение жены и жену, уснувшую под чтение мужа (ил. 11, 12). В то же время в изобразительном искусстве можно видеть процесс чтения как особую форму семейной жизни, домашнего уютного существования. Именно так представлено семейное чтение на картине Л.О. Пастернака (1862–1945) «Под зеленой лампой (За чтением)» (1890-е гг.).
Ил. 11. Гаварни. Вечернее чтение. Литография из серии «Мученики». Лист 5. 1847. Москва. Частное собрание
Ил. 12. Гаварни. Чтение газеты жене. Литография из серии «Мученики». Лист. 4. 1847. Москва. Частное собрание
Изменения в изображении процесса чтения наглядно показывает женский портрет, запечатлевший мечтательных дам за чтением в различном антураже, подчеркивающем романтические настроения (в саду, беседке, спальне, комнате за столом при свете лампы и т. п.). Эти образы столь схожи и многочисленны, что можно обойтись без конкретных примеров, но в любом из них при общем типаже, иконографической схеме показана личность, каждый образ становиться индивидуальным, открывающим конкретного читателя.
Главным приобретением искусства XIX в. в том аспекте, который нас интересует, являлось открытие и изображение конкретного читателя как личности с его эмоциями и переживаниями, отражением его духовного мира. Изображение процесса чтения художником превратилось из воспроизведения символического акта в увлекательный творческий процесс визуального представления мира человека, недоступного зрению и воображаемого читателем.
Глаза, жесты, поза читателей приобретали удивительное пластическое разнообразие, раскрывали высоту духа, духовный мир человека через его внешние эмоциональные проявления за процессом чтения, причем не придуманные, а вполне реальные, реалистические.
Задача изображения человека за чтением интересна по рисунку, пластическим качествам для художника. В портрете это еще и прием для решения психологических задач в представлении модели. Отметим, например, зарисовки, наброски с натуры читающего Л.Н. Толстого, сделанные И.Е. Репиным (1844–1930) (ил. 13). Мимика лица, движения ярко раскрывают внутреннюю силу, мощь духа и масштаб мысли великого классика.
Ил. 13. И.Е. Репин. Толстой за чтением. 1891. Бумага, карандаш. Открытка. Издание Общины Святой Евгении Красного Креста. Москва. Частное собрание
Изменились и картины семейного чтения – теперь это реалистические изображения близких людей, занятых общим делом, где каждый изображен в своих духовных переживаниях о прочитанном. Классическим произведением в этом смысле можно назвать знаменитую картину В.И. Сурикова (1848–1916) «Меньшиков в Березове» (1883, ГТГ). Интересные изображения семейного чтения как повседневного занятия оставила замечательная художница Е.Д. Поленова (1850–1898) («За чтением. Нельшевка. На даче Антиповых». Этюд. 1889) (ил. 14).
Ил. 14. Е.Д. Поленова. За чтением. Нельшевка. На даче Антиповых. Этюд. 1889. Холст, масло. Ярославль. Ярославский художественный музей
Таковы, на наш взгляд, основные этапы изображения семейного чтения в искусстве. Данная тема прошла долгий путь от изображений символико-аллегорических до реалистических, пока процесс чтения в живописи не стал признаком конкретной личности, способом передачи ее психологических характеристик, выступая, по сути, выражением архетипических представлений о книге, сформировавшихся в глубокой древности.
Изучение книги как части предметного мира в изобразительном искусстве позволяет лучше понять процесс изменения отношения к книге и чтению в обществе в исторической перспективе, правильно реконструировать историю книжного дела и чтения как общественного и индивидуального явления.
Конечно, изучение образа читателя, семейного чтения в изобразительном искусстве – тема во многом необъятная. Однако, рассматривая конкретные примеры, детали, можно увидеть то, что порой нам недоступно в словесном изложении и описании. В настоящей статье мы лишь обозначили некоторые аспекты этого подхода, который в будущем поможет лучше понять особенности развития нашей цивилизации, неразрывно связанной с книгой.
1 Страхов Н.И. Мои петербургские сумерки: в 2 ч. Ч. 2. Санкт-Петербург: Сенат. тип., 1810. С. 50-51.
About the authors
Oleg R. Khromov
Moscow Theological Academy of the Russian Orthodox Church; The «Nauka» Scientific and Publishing Center of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: oleghrom@gmail.com
academician of the Russian Academy of Arts in the Department of Art Studies, member of the Presidium of the Russian Academy of Arts, Doctor of Art History, Professor of the Department of History and Theory of Church Art, chief researcher
Russian Federation, Moscow; MoscowReferences
- Andreeva, O.V. (2008) Istoriya knizhnogo dela v izobrazitel`ny`x, audiovizual`ny`x i veshhestvenny`x istochnikax: ucheb. posobie [History of Book Publishing in Fine, Audiovisual and Material Sources: a Tutorial]. Moscow: Moscow State University of Printing Arts. (In Russian).
- Kniga v russkoj i sovetskoj zhivopisi (1989) [Book in Russian and Soviet Painting]. Compl. and Author of the Introd. Art. N.I. Baburina et al. Moscow: Kniga. (In Russian).
- Gorbunova, N.T., Kononova, L.M. (2011) Chelovek s knigoj v izobrazitel`nom iskusstve: kniga pechatnaya [A Man with a Book in the Visual Arts: a Printed Book]. Moj universitet [My University], No. 2, 74-79. (In Russian).
- Fomin, D.V. (2012) Propaganda chteniya v russkom plakate 1920-x godov [Propaganda of reading in the Russian poster of the 1920s]. Rumyancevskie chteniya–2012: Materialy` Vserossijskoj nauchnoj konferencii (17-18 aprelya 2012 goda): v 2 chastyax [The Rumyantsev Readings-2012: Materials of the All-Russian Scientific Conference (April 17-18, 2012): in 2 parts]. Pt. 2. Moscow: Pashkov dom, 321-329. (In Russian).
- Bollmann, S. (2008) Women Who Read Are Dangerous. New York: Abbeville Press. (In English).
- Camplin, J., Ranauro, M. (2018) Books Do Furnish a Painting. London: Thames & Hudson. (In English).
- Camplin, J. (2018) The art of reading: an illustrated history of books in paint. Los Angeles: Getty publ. (In English).
- Trigg, D. (2018) Reading Art: Art for Book Lovers. London; New York: Phaidon Press Ltd. (In English).
- Herman, N. (2018) Le livre enluminé, entre représentation et illusion. [Paris]: Bibliothèque nationale de France. (In French).
- Shherbinina, Yu. (2020) Vidimaya nevidimaya zhivopis`. Knigi na kartinax [Visible Invisible Painting. Books in Paintings]. Moscow: AST. (In Russian).
- Kniga v kul`ture Vozrozhdeniya (2002) [Book in the Renaissance]. Ed. Board: L.M. Bragina (the Execut. Ed.) et al.]. Moscow: Nauka. (In Russian).
- Hall, J. (1996) Slovar` syuzhetov i simvolov v iskusstve [Dictionary of Subjects and Symbols in Art]. Transl. from English and the Introd. Art. by A. Maykapar. Moscow: KRON-PRESS. (In Russian).
Supplementary files