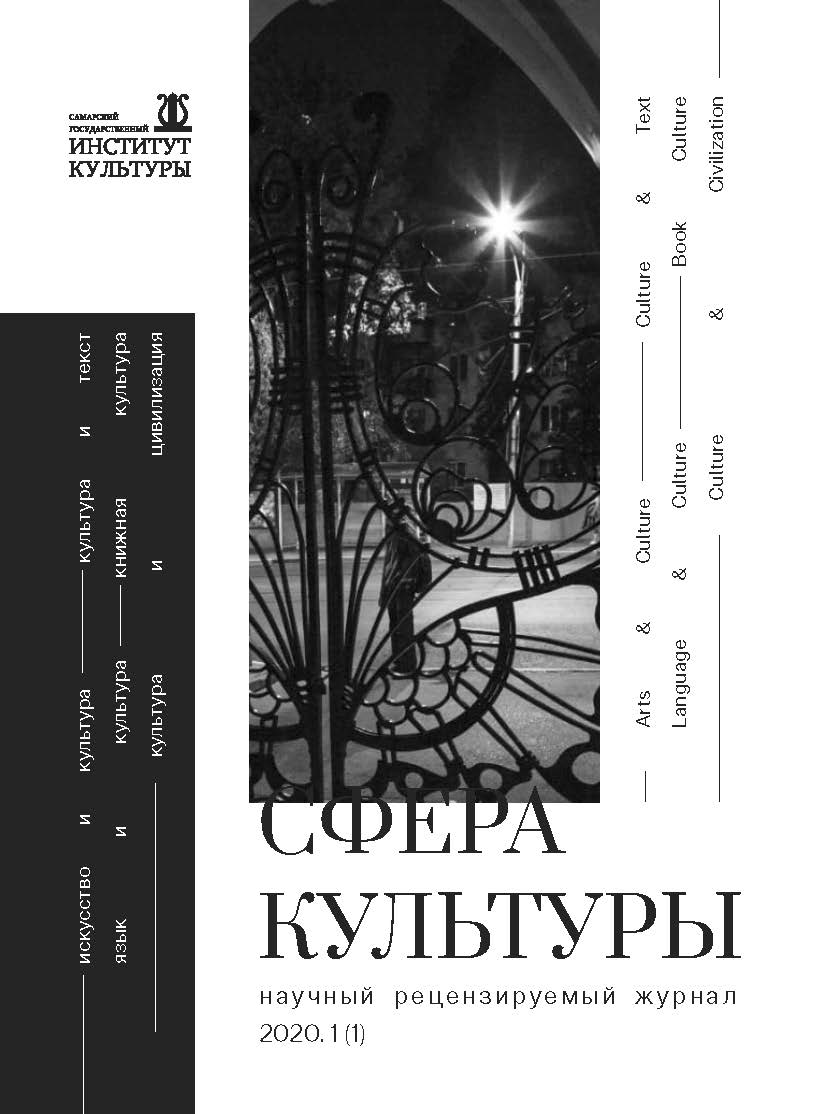Anthropological interpretation of non-classical art
- Authors: Krivtsun O.A1
-
Affiliations:
- Issue: Vol 1, No 1 (2020)
- Pages: 13-29
- Section: Articles
- Published: 15.06.2020
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/82753
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2020_1_13
- ID: 82753
Cite item
Full Text
Abstract
The logic of the modern era prepared the way for the birth of “non-classical” art as it was a part of the growing distrust of rationalism. Skepticism of the classics came as a consequence of the crisis of classical rationalism that erupted in European culture starting in the 1830’s. The new art focused on ways of expression that cast doubt on the absolute norms of classical art. In painting, this was manifested in the prevalence of pictoriality (color-light relations) over plasticity (the primacy of the line, drawing), the dynamic over the static, atectonics over tectonics, and a shift from the central axis of the picture in favor of so-called “landscape vision,” in which the painting has several centers at once. Artists of the post-classical age (including the present) understand that life presents a completely different picture of the world and their works reflect a contradictory era, expressed by colors, lines, complex composition, deformed space, and displacement of the painting’s fixed center. The language of painting dramatically changed. The tried and tested elements of classical art were unsuitable for depicting the dramatic and tragic collisions of modern times. In the sharp, painful, depressing images of Egon Schiele, Rene Magritte, Francis Bacon, Anselm Kiefer, and Jean-Michel Basquiat, modern philosophical art captures the conditions of unhealthy eroticism, loneliness, acute anxiety-an existential impasse, almost an anthropological disaster. Nevertheless, all of the creators listed have a powerful style. The works of these twentieth-century artists do not fit into any expected, familiar format but are full of hidden vitality. A number of examples of non-classical art demonstrate that in their own unique ways these painters are not afraid to confront the problem of good and evil.
Full Text
Большинство современных зрителей редко питают бесспорные симпатии к искусству Новейшего времени, т. е. к искусству XX и XXI веков. Чаще относятся к нему с подозрением - приглядываясь, сопоставляя, сомневаясь, отвергая. Действительно, на первый взгляд, новейшие практики живописи почти не имеют ничего общего с живописью времен ее расцвета: искусством XVII и XVIII вв., времен Рембрандта, Веласкеса, Рубенса, Гойи, Пуссена. Именно в эти века триумфа классической живописи, наследующей творческие завоевания Возрождения, выдающиеся художники довели до совершенства принцип светотени как психологический инструмент письма. Научились обходиться без контура в изображениях фигур и предметов, работая лишь с помощью наложения тонких переходов красочных пигментов. Виртуозное претворение приемов сфумато великолепно смягчало очертания моделей, создавало эффект их рассеивания, исчезновения в пространстве, позволяло передавать окутывающий их воздух. Техника лессировки, основанная на нанесении тонких (почти прозрачных) красок друг на друга, позволяла добиваться нежных переливчатых тонов. Все эти важные составляющие классической живописи придавали картине сочность, утонченность, особое настроение. Упомянутые техники в сочетании с мастерским владением теорией перспективы позволяли создавать иллюзию изображения пространственных объектов на плоскости: рождали картину с большой глубиной. Картину, в которую можно «войти» и которую интересно «обживать» изнутри. Рождалось произведение, которое можно обозначить словами: не «как в жизни», а сама жизнь. Даже этот краткий обзор неувядающих достоинств классической живописи позволяет судить об огромных усилиях в достижении мастерства ее творцов. Для того чтобы стать заметной фигурой в художественной жизни Европы XVII-XVIII вв. были необходимы годы специального образования. Требовалось владение высочайшей культурой техники письма. Какова бы ни была изначальная одаренность - только длительная упорная учеба, тренировка глаза, тренировка руки, выработка своей неповторимой маэстрии, свободы и виртуозности письма постепенно превращали подмастерье в мастера. Сейчас в искусстве XX и XXI вв. этого нет. Все, что было взращено опытом великих мастеров классического искусства, оказывается невостребованным. Отсюда и недовольство той части публики, художественный вкус которой воспитан на общении с произведениями классических художественных музеев и галерей. Однако не будем сетовать по этому поводу. Модифицируется язык живописи, и искусство по-прежнему дает каждому столько, сколько человек способен от него взять. Тем более, что в ряде стран (в особенности в России) продолжает существовать развитая система академического художественного образования. Выпускаются живописцы, скульпторы, графики, владеющие бесспорными способностями классических творческих практик. В художественных вузах России обучается большое число иностранных студентов, желающих овладеть академическими приемами письма. Однако созданные сегодня картины, портреты на основе классической школы чаще всего проходят по ведомству «масскульта» - отражают вкусы не очень просвещенной, художественно неподготовленной аудитории, заполняют особняки хозяев с большими амбициями, но недостатком художественного чутья. Молодой художник, выпускник классического творческого вуза, чаще всего не знает, что ему делать с полученной академической выучкой. Он, человек XXI в., уже успел посетить все ведущие музеи мира, досконально знаком и с творчеством импрессионистов, и с творчеством кубистов, с панорамой достижений экспрессионизма, сюрреализма, «нового реализма», «новой эмоциональности», «новой вещественности», поп-арта и т. д. (К слову сказать, лучшие произведения творцов перечисленных новаторских художественных течений XX в. уже во многом музеефицированы, т. е., в известной мере, приравнены к классике). В мире растет и расцветает сеть музеев современного искусства (Contemporary Art). Новый художник понимает, что его жизнь протекает в условиях совсем иной картины мира и прикладывает много усилий, чтобы его произведения были способны стать художественным эквивалентом внутреннего мира человека его времени, выразили дух современной ему эпохи. Уже опробованные и адаптированные средства для этого непригодны. Конечно, и в прошлом - в творчестве Иеронима Босха, Питера Брейгеля, Франсиско Гойи, нередко мы встречаем образы, повествующие о «мире на грани катастрофы», демонстрацию чудовищных, страшных образов, совсем не из области классики, сюжетов, не столько предписанных академической выучкой, но вырывавшихся у творцов непроизвольно. Дело в том, что поствозрожденческий художник-исследователь никогда не ограничивал сферу своего творчества лишь образами романтической линии, душевного равновесия, покоя. Дерзкая кисть каждого крупного художника полна саркастического вольнодумства, стремления продемонстрировать и «изнанку мира»: отсюда и эсхатология Босха, сомнение в существовании в мире надежных опор Брейгеля, жутковатые образы Гойи. Новейший художник еще в большей мере ощущает себя исследователем всех сторон жизни - разумеется, задействуя в творчестве не столько «рацио», сколько интуицию, собственное чутье, художнический вкус и проницательность. Почему искусство в последние полтора столетия отличается особо сильным вниманием к изломанному, «ночному сознанию»? Новый художник понимает, что его жизнь протекает в условиях совсем иной картины мира и прикладывает много усилий, чтобы его произведения были бы созвучны полному противоречий духу современного времени, были бы художественным выражением эпохи, рассказанным красками, линиями, сложно построенной композицией, деформированным пространством, соотношением объемов - всем тем, чем владеет язык живописи. Уже опробованные и адаптированные средства классического искусства оказываются непригодны для претворения драматических и трагических коллизий, происходящих с человеком Новейшего времени. Истоки и природа неклассического искусства Неклассическим искусством сегодня обозначают сумму художественных практик, развернувшихся в европейском искусстве приблизительно с середины XIX в. в разных видах искусств. Авторы произведений неклассических форм художественного творчества ориентированы на способы выразительности, ставящие под сомнение абсолютность норм классического искусства. В живописи это проявилось в превалировании принципа живописности (цвето-световых отношений) над пластичностью (первенство линии, рисунка), динамики над статикой, атектоники над тектоникой, сдвига от центральной оси картины в пользу так называемого «пейзажного видения», сообщающего картине сразу несколько центров. Рождение феномена «неклассического искусства» было подготовлено самой логикой исторического движения культуры Нового времени. Если попытаться выразить это в краткой формуле - на определенном этапе поисков человека возникает рациональное недоверие к рациональному. Кризис классики наступил как следствие кризиса классического рационализма, вспыхнувшего в европейской культуре начиная с 30-х гг. XIX века. Терпит распад вера в возможности совершенного устройства мира на разумных основаниях. Коллективные конвенции, идеи демократии и парламентаризма, так выстраданные людьми, в итоге не смогли кардинально изменить жизненные устои. Опора на науку как концентрацию высших рациональных способностей человека, как оказалось, также не делает человека счастливым, не решает глобальных проблем и не исправляет большинства его недостатков. Декларируемые ценности не имеют ничего общего с теми механизмами, которые на деле вершат жизнь. Таким образом, кризис классики был следствием антропологического кризиса, крушением базовых опор, выступавших основой всех устремлений людей, начиная с Возрождения. Человек вступал в эпоху Нового времени окрыленный надеждой, а завершал эту эпоху с чувством отчаяния. В словаре теории искусства незыблемое положение заняли опознавательные признаки художественности: прекрасное, мера, гармония, целостность, форма. Реальная художественная практика, интеллектуальная атмосфера середины XIX столетия свидетельствовали о принципиально новой ситуации. Важнейшим признаком неклассической эстетики стало вытеснение на периферию понятия прекрасного. Отныне прекрасное воспринимается не как коренное предназначение искусства, а как одна из его возможностей. Понятия красоты и искусства все более дистанцируются, а новые представления о художественности в большей степени отождествляются с понятиями «выразительное», «занимательное», «убедительное», «оригинальное», «интересное». Эти новые тенденции в искусстве и его теории вдохновлялись идеей творчества, свободного от панлогизма, не спрямлявшего парадоксальность реального мира, но обладавшего способностью вобрать в себя все его нерациональные стороны. По мнению Ницше, любые прекрасные формы эксплуатируют изначальную «сладость иллюзии и умеренности». В современном искусстве «вообще нельзя принимать в расчет категорию красоты, хотя заблуждающаяся эстетика, занимающаяся заведенным в тупик и вырождающимся искусством, привыкнув к понятию ‘‘красоты’’, все еще продолжает делать это» [1, с. 204]. Все частные споры и дискуссии в итоге восходили к глобальной дилемме: что хотела бы прочувствовать публика - власть действительности (враждебной, бесчеловечной, опасной), которую художник вскрывает и анализирует, или же власть искусства как мира, преодолевающего и нейтрализующего действительность? Совместить и то и другое, как это демонстрировало искусство прошлого, в новых условиях было невозможно. Из этого следует, что ризоматическое сознание - одновременное сосуществование параллельных ориентиров, при котором ни один не является доминирующим - зародилось уже в это время. Ризоматическое сознание в искусстве и в культуре взяло на себя функцию формирования новой картины мира, предполагающей сосуществование разных художественных миров, каждый из которых правомерен и культивирует собственную модель человека, по-своему обоснованную. Такие, к примеру, нонклассики, как прерафаэлиты, ищут опоры в девственном царстве позднего Средневековья, акцентируя «неземные, загадочные, экстатические состояния». Однако на деле внимательный зритель видит, что плод творчества и Г. Россетти, и Д. Миллеса - это сакральные сюжеты, написанные десакрализованным сознанием. Прерафаэлиты удерживались каким-то образом на пограничье высокого эстетического вкуса и желания производить массовый эффект. Оттого их «новая чувственность» - иногда с привкусом глянца, а их новая живописность порой переходит в самодовлеющую декоративность. Другие нонклассики транспонируют жизнь в царство игры: так, картины импрессионистов радуют глаз бесцельной игрой со светом, эйфорией случайных находок, потоками чистых эмоциональных энергий. Поиски «центральных смыслов», как и опыт живописи в «рассказывании историй», с этих творческих позиций кажутся занятием сомнительным. За этим - тоже есть истина. Третьи - О. Домье и Г. Курбе - апологеты реализма, жизненной прозы, порой даже утрированной, порой гротескно-эротичной. Но и такое прочтение мира - правомерно, убедительно, несет свою правду. Или же столь авторитетный сегодня их современник Сезанн. Станковизм Сезанна с его сосредоточенным желанием представить «истину в живописи» был по-своему претворением пантеистического чувства предметного мира, нащупыванием его надличностных, объективных оснований. Его произведения сложно написаны: пространство картин Сезанна всегда перенапряжено. Все перечисленные опыты по-своему равновелики. Можно даже утверждать, что поиски новой художественной лексики на рубеже XIX-XX вв. по-прежнему происходили на фоне пиетета перед идеей творчества как приращением бытия. Но здесь уже - многовекторный поиск, отражающий весь мыслимый спектр интересов самого человека. Теперь уже никто не претендует на истину в последней инстанции. Кончилось время так называемой «обязывающей эстетики». Художнику отныне присуще чувство, что он сам гораздо больше знает о человеке, чем все представители «выводного знания» - ученые и философы. В то время как философия ищет истину, искусство уже заключает ее в самом себе. Убежденность в этой важной идее стремительно растет по экспоненте вплоть до нашего времени. Непрерывное наслоение художественных практик явилось причиной того, что уровень энтропийности (избыточности) элементов художественного языка стал резко возрастать. Состояние культурной избыточности и многогранности - это условие обеспечения свободы современного человека. Каждый находит свое, сам производит селекцию, «прислоняется» к любимому художественному течению или же множит свои пристрастия, избирает состояние «плавающей идентификации». Так или иначе, избыточность, одновременность, симультанность художественных жестов, языковых приемов активно способствуют развитию гибкости нашей психики, нашего мышления. Разнообразие композиций, парадоксальные связи, непрямые логические ходы, смещения, соседства - все это мощный ресурс самопревышения, который дарит человеку художественное воображение. Усваивая способы обращения с различными художественными творениями, человек обретает возможность проигрывать новые модели сущего и его связей, по-новому оценивать роль детали, фрагмента, схватывать новые типы целостности, соединять ранее несоединимое в своем сознании. Именно в этом - обратное креативное влияние художественных поисков неклассического искусства. Психологи установили такую закономерность: разглядывание сложной и непонятной живописной картины, незнакомого композиционного пространства тренирует способности гештальта - т. е. схватывания в единую структуру первоначально, казалось бы, разнородных, несовместимых элементов. Необычность, оригинальность художественного языка на любых этапах истории тренирует и расширяет способности воображения человека, развивает его ассоциативный аппарат, помогает человеку разбивать формулы обыденного сознания. В итоге неклассическое искусство преобразует сами мыслительные структуры человека, переориентируя их на видение ацентричного мира. Новое творчество в лучших своих образцах помогает адаптации человеческого сознания, его включению в непростые приемы осмысления сущего. Поиск новой выразительности приводит к модификации изобразительных форм: насыщенность пластической памяти человечества побуждает авторов к особому лаконизму. Все это - фиксация особого уровня плотности ассоциативного аппарата современного человека, для которого уже один только намек моментально воссоздает целое. Это такое состояние сознания, которому не требуется столь подробное изложение, как в прежние века, так как художественная память и внутренний словарь ее символов существуют в постоянном перетекании и взаимодействии. И когда мы говорим о таких новейших языках искусства, как бриколаж, открытая форма, дословность (способы выразительности до-, между-, вместо- конвенциональных знаков), мультирецепция, симультанность, то оцениваем эти способы выразительности как важные художественные эквиваленты уже действительно существующего в человеческом сознании. То есть видим в них новые замеры языком искусства того, что свершается в человеческой памяти, в воображении, в человеческой интуиции. Подобные новые тенденции в искусстве и в его теории вдохновлялись идеей творчества, свободного от панлогизма, не спрямлявшего парадоксальность реального мира, но обладавшего способностью вобрать в себя все его нерациональные стороны. Таковы, к примеру, импрессионисты - Эдуар Мане, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Клод Моне, Пабло Пикассо, Анри Матисс и другие, убедительно утверждавшие правомерность субъективности и относительности человеческого восприятия, делавшие цвет, свет, воздушное пространство, форму автономными составляющими своего языка. Незыблемое академическое понятие «цветовая толерантность» уходит с авансцены теоретического искусствознания как отжившее. Новые художники смело сталкивают насыщенные тона: коричневое и синее, ярко-зеленое и красное и т. д. Такая практика характерна для столь крупного течения ХХ в., как экспрессионизм, возникшего в самом начале ХХ в. и протянувшего свою эстетику выразительности вплоть до сегодняшнего дня. Хрестоматийные тексты в старых учебниках будут повествовать, что экспрессионизм возник как «болезненная реакция на уродства цивилизации начала XX века, на Первую мировую войну и революционные движения». Но такое объяснение - поверхностно, схематично, оно фиксирует лишь изображение вне его сложного выражения. Да, его первые авторы - поколение, травмированное бойней мировой войны. Однако в своих произведениях они не транслировали увиденное, но являли собой новый тип художественного сознания, выражавший необычными средствами тот новый мир и того нового человека, который занял место классических форм. Экспрессионизм в ХХ в. представлен во множестве художественных форм, включая живопись, литературу, театр, архитектуру, музыку, танец, кинематограф. Преобладание негативного строя образов само по себе ничего не говорит о силе и влиятельности этого художественного направления. Франц Марк, Эмиль Нольде, Эрнст Кирхнер, Макс Пехштейн, Отто Мюллер разработали собственные приемы изобразительного языка. При помощи угловатых, искореженных линий, быстрых и грубых мазков, кричащего колорита, контрастных цветов художники выражали состояние взвинченности, зашкаливающие эмоции восторга, негодования, ужаса. Течение экспрессионизма (в частности, творчество художников близких группе «Мост», основанной в 1905 г.) демонстрирует колоссальную энергетику, которую невозможно объяснить, лишь тщательно описывая используемые ими средства. С одной стороны, экспрессионисты возвели роль цвета до самоценной составляющей произведения. Столь изобильное использование «ударных» тонов - кирпичного, пламенно-красного, глубинно-синего, фиолетового, на первый взгляд, ничего хорошего не сулит; все они как будто бы излучают вибрации тревоги, это действительно физические свойства, несущие в генетической памяти человека импульсы возбуждения и даже раздражения. С другой стороны, каким-то фантастическим способом собственно физическое воздействие цвета, не переставая быть таковым, одновременно переходит в символическое. И тогда первоначально мрачное, тяжелое настроение в портрете прочитывается уже как медитативное, самоуглубленное. Скошенная композиция, накрененные фигуры, предельное (часто крупными, пастозными мазками) сгущение и кристаллизация природных стихий - воздуха, воды, ураганного ветра, свинцовых облаков - обнаруживает своеобразный «сезаннизм» экспрессионистов. В приемах их письма видна редукция центральных и фоновых образов к трапецевидным формам, конусам, квадратам. Все эти находки визуально опредмечивают энергию: там, где у импрессионистов явлены легкий бриз и свежий морской ветерок, у экспрессионистов накатывает буря или готова взорваться затаенная, сокрытая сила. В произведениях последних звучит густая, почти оглушающая мощь органа, кажущаяся зыбкость атмосферических явлений модифицируется в их твердость, властность - то ли мирового духа, то ли величия человека, умеющего устоять в предлагаемых условиях. Разумеется, у мэтров этого течения есть и самоирония, и растерянность, но главное в их произведениях - это колоссальная воля к жизни. Перед нами явлен высокий творческий образец энтелехии, позволивший художникам, не поступаясь искренностью, детонировать душевное состояние из мира абсурда в мир «не-абсурда». Продемонстрировать в качестве главного основополагающего смысла произведений огромную силу духа, значительность, «самостояние» своих моделей, пейзажей, натюрмортов. Эти смысловые акценты, несмотря на хрестоматийные искусствоведческие заклинания о «болезненности и «душевной изломанности» экспрессионистов, непостижимым образом - вне убедительных концептуальных авторских программ, вне конвенциональной художественной символики - все-таки пробиваются к сердцу зрителя. Интересно, что всякий раз размышляя о секретах воздействия такого типа художества, не решаешься применить для его оценки столь высокое и хрупкое понятие как «аура». Скорее перед нами явлена сильная энергетика, эмпатия, прямой эмоциональный удар, вызывающий глубокое влечение и симпатию к художнику тех, кто после этого удара устоял на ногах. Развивая и модифицируя эстетику экспрессионистского письма, состоялись как выдающиеся художники Василий Кандинский, Анри Матисс, Макс Бекман, Оскар Кокошка, Марианна Веревкина, Алексей Явленский и многие другие, ставшие ныне классиками. Важно понять: все переломы в художественном сознании живописцев, поэтов, композиторов на рубеже XIX-XX вв., конечно же, были мотивированы как извне (всем комплексом культурных идей в философии, науке, практике), так и изнутри: напряженной работой с модификацией языка живописи. Новейшие художественные течения, каждое по-своему, меняли как то время, в котором жили, так и сознание воспринимающего их произведения человека. Негативные образы в новейшем искусстве Первое, что бросается в глаза, в искусстве последних ста пятидесяти лет заметно возросла доля негативных образов. Но прежде надо попытаться ответить на вопрос: что мы определяем в качестве негативного в искусстве? Они негативны с обыденной, моральной стороны или же негативны с эстетической точки зрения? Как философия искусства сегодня способна интерпретировать острые, болезненные, гнетущие, образы Эгона Шиле, Рене Магритта, Френсиса Бэкона, Ансельма Кифера, Жана-Мишеля Баскиа? Их произведения демонстрируют состояния болезненной эротики, одиночества, острой тревоги, экзистенциального тупика, едва ли не антропологической катастрофы. И тем не менее - у всех перечисленных творцов - сильное письмо. В этом признании будут едины большинство искусствоведов. Произведения названных художников ХХ в. не вписываются ни в какой ожидаемый, привычный «формат», однако они полны какой-то скрытой витальности. Оказывается, что живописцы не очень-то робеют, решая сегодня по-своему проблему «искусство и зло». Способны творить так, что искусство способно соперничать с жизнью в любом ее обличье. Если восприятие таких произведений и не вызывает катарсис в его классическом понимании («очищение через страх и сострадание трагическому действию»), то подобное восприятие полно сопереживания, эмпатии, вовлеченности в произведение. А это уже немало, чтобы мы могли говорить о полноценном художественном контакте автора и зрителя. Возвращаясь к художникам-классикам, важно признать: при всех радужных надеждах и обещаниях Просвещение потерпело фиаско. Опора на науку как концентрацию высших рациональных способностей человека, как оказалось, не делает человека счастливым, не решает глобальных проблем и не исправляет большинства его недостатков. Английский мыслитель Бернард Мандевиль (1670-1733), автор нашумевшего произведения «Басня о пчелах», утверждал: «То, что делает человека общественным животным, заключается не в его общительности, не в добродушии, жалостливости или приветливости, не в других приятных, привлекательных свойствах. Самыми необходимыми качествами, делающими человека приспособленным к жизни в самых больших, в самых счастливых и процветающих обществах, являются его наиболее низменные и отвратительные свойства» [2, c. 45]. В басне открыто разрабатывались тезисы прямо противоположные возрожденческим установкам. В адрес тех, кто хотел бы возродить «золотой век», Мандевиль с сарказмом замечает, что в таком случае они должны быть готовы не только стать честными, но и питаться желудями. Жесткая концепция Мандевиля явилась попыткой прервать инерцию мышления, порождавшую штампы наподобие такого: «человеческая природа от рождения не хороша и не плоха, поддается совершенствованию» и т. п. По-своему это был смелый шаг - непредвзято оценить человеческую сущность через всю сложность отношений биологического и социального, определяющую содержание реальных действий. Особое внимание Мандевиль уделил роли цивилизации в этом процессе, которая сама нередко ставит человека в условия, провоцирующие авантюрность, смену ролей, готовность поступаться убеждениями или не иметь никаких убеждений. Мандевиля критиковали за то, что он не просто говорил о «маргинальных» сторонах человеческой личности, но фактически акцентировал их как универсальные, неизменные свойства его натуры. Косвенно в произведении Мандевиля прочитывается попытка в той или иной мере объяснить поиски, происходящие в это время в искусстве, не чурающемся негативных характеров и отрицательных героев. Размышляя о нарастании феномена «ночного сознания» в искусстве, нельзя не упомянуть и важный тезис, содержащийся в работах Гегеля. В работах мыслителя есть размышления о том, что зло в мировой истории играло гораздо большую роль, чем добро. Это не означает в устах Гегеля, что большинство людей корыстны, недоброжелательны и полны пороков. Но означает, что политические интриги, авантюрность капиталистического предпринимательства, ставка на низменные качества человека чаще выступали детонатором социокультурных перемен, чем человеческая благонамеренность. Особую проблему на пути понимания отношений искусства и морали представляет осмысление причин привлекательности для искусства аффективных сторон человеческой психики, экстремальных порывов человеческой души, часто влекущих за собой тяжкие последствия и даже катастрофы. Очевидно, элементы «ночного сознания», проявляющиеся через экстремальные ситуации в произведениях искусства, в той или иной мере живут в каждом из нас. Негативный, остроконфликтный материал, привлекающий искусство, есть более богатая жизнь, чем та, которая дана нам в непосредственном опыте. Во многом такое внимание искусства отвечает и глубинной потребности нашей психики. Зарубежные и отечественные психологи на разном материале неоднократно приходили к выводу, что инстинкт разведки, поиска нового, живущий в каждом человеке, способен порой даже превышать инстинкт самосохранения. Потребность выйти за рамки рационально освоенного, действовать рискуя, повиноваться внутренней стихии может оттеснить инстинкт безопасности. С одной стороны, несомненно, любой организм стремится к равновесию и адаптации, но с другой - возведенное в абсолют равновесие грозит превратиться в стагнацию. Тогда и возникает стремление к нарушению адаптивности, стремление соотнести себя с более сложной и необычной ситуацией. Потребность превзойти себя предполагает процесс усложнения навыков, обретение более многомерных возможностей. Внешние обстоятельства могут быть максимально благоприятны, не посылать импульсы тревоги, однако человек способен «без причины» расстаться с уютом и отправиться путешествовать на лодке в Атлантический океан, начать восхождение в горы, хотя это и сопряжено с риском для жизни. Об этой потребности как о глубоко природной, сущностной «эксцентричности человека», потребности выйти за данные субъекту границы много писали философы и психологи [3, с. 31-58]. Именно бескрайнее пространство во внутреннем мире человека, все его поле возможного и делает его человеком, выделяет из остального мира. В философской антропологии такое выделение как раз и увязывается с «эксцентрическим» (по выражению Хельмута Плеснера) положением внутреннего человека по отношению к самому себе внешнему. Стремление внести разнообразие, раздвинуть рамки обыденного побуждает к переживанию того, что превосходит норму. Можно ли говорить, что подобные зрительские установки свидетельствуют о неких порочных свойствах человеческой натуры, которые эксплуатирует искусство? Главный герой Герман в опере «Пиковая дама» П.И. Чайковского поет: «Гляжу я на тебя и ненавижу, а насмотреться вдоволь не могу». Вспомним и самого А.С. Пушкина: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного сулит неизъяснимы наслажденья». Очевидно, речь здесь идет о тех магнетических состояниях, которые эстетика может интерпретировать как мрачное величие и которые по-своему также притягательны. Более того, тяга к неизъяснимой метафизике, к неизреченному, к смутно предчувствуемому - это глубокая сущностная сторона художественного творчества. По наблюдению авторитетного исследователя художественных потребностей Дж. Кавелти, обыватель ищет в восприятии новых произведений подтверждения уже ему знакомых норм, отношений, понятий. Он ценит произведения эскапистские, позволяющие уйти от действительности, не напрягаясь в распознавании незнакомой символики и лексики. Искушенный знаток искусства, напротив, готов к восприятию всей неоднозначности и сложности художественных решений. В артхаусном искусстве художественное претворение всегда непредсказуемо, в нем отсутствует конвенциональность, присущая «формульному миру», оно требует удержания и совмещения в памяти многих ассоциаций, чувствительности к тонкой нюансировке. В результате восприятия артхаусных произведений живописи, литературы, театра многие проблемы могут остаться нерешенными, стать источником новой неопределенности и беспокойства для человека. Массовый зритель хочет «прикрыть» незнакомое. Обыватель никогда не согласится признать внутри своего сознания и бессознательного существование противоречивых, неадаптированных свойств психики, которые открывают ему новые произведения. Знаток, напротив, хочет открыть незнакомое, не боится признать весь спектр действительно существующим внутри него. С этих позиций вполне внятно довольно резкое высказывание много размышлявшего на эту тему мудрого Томаса Манна: «Кто разгадает суть и стать жизни в искусстве? Кто поймет, как прочно сплавились в ней самообуздание и необузданность? …Наш мастерский стиль - ложь и шутовство, наша слава и почет нам оказываемый, - вздор, доверие, которым нас дарит толпа, - смешная нелепость, воспитание народа и юношества через искусство - не в меру дерзкая, зловещая затея. Где уж быть воспитателем тому, кого с младых ногтей влечет к себе бездна» [4, с. 214]. Действительно, в мучительном горниле творчества переплавлены необузданность и самообуздание, страсть и культура, инстинкт и чувство формы. Художник не знает прикрепленности к раз найденному, хочет прорваться за открывшиеся горизонты, прийти к осознанию собственной способности быть, невзирая на тяжесть открывшихся истин. Не будем скрывать: в совокупности своих образов и выразительных средств новое искусство оказывается весьма проблематичным, «неудобным» для прямых воспитательных целей, где требуется внятность и недвусмысленность. Адекватно поймать интенции, излучаемые сложным художественным объектом, и верно оценить их способен человек, хорошо владеющий способностью прочтения художественных опосредований. Что же ищет человек в страшном, угрожающем, в невообразимой пропасти? Может быть, это «темные стороны» человека ищут выход своим негативным эмоциям? Этот ответ не следует исключать. В значительной мере посредством искусства может происходить изживание страстей и пороков. Искусство в этом случае выступает в качестве зеркала, в котором человек видит собственное несовершенство. В художественном переживании человек может испытать на прочность свои убеждения и иллюзии. Перемещаясь в художественную реальность, он способен прикоснуться к скрытому от глаз беспощадному хаосу, готовому в любой момент взорвать каждую отдельную судьбу. Своеобразие художественного переживания-удовлетворения и состоит в том, что, с одной стороны, человек помещен в данную ситуацию, но с другой - остается вне ее. Данный механизм во многом определяет природу художественного катарсиса. Таким образом, негативный (в этическом смысле) материал выполняет в искусстве важную роль. Так или иначе через испытание аффектированными переживаниями происходит приобщение к самым разнообразным, противоположным сторонам бытия, осуществляется процесс самоидентификации и социализации человека. Читатель и зритель фильтруют, отбирают те переживания и отношения, которые наиболее адекватны для их внутреннего мира. И вместе с тем убеждаются, что «в снятом виде» многие темные стороны и пороки присутствуют и в их собственном воображении. Имеется еще одно объяснение внимания искусства к аффектированному, чрезмерному. Занимаясь уплотнением и концентрированным выражением больших человеческих страстей, искусство способно выявлять некие сущностные стороны бытия, которые в рутинном, повседневном существовании от нас ускользают. То, что в художественном мире выступает как невероятное, острое, сбивающее с ног, способно приоткрывать скрытые аспекты жизни, «тайны бытия». В связи с этим Ж. Маритен считал возможным говорить об особой артистической морали, побуждающей художника к нравственно-рискованной пище. «Художник хочет вкусить от всех плодов земли, попробовать изо всех ее сосудов и быть полностью обученным в опыте зла, чтобы затем питать им свое искусство» [5, с. 191]. Поэтический опыт художника «не от мира сего», наполненный разными аномалиями, в итоге побуждает его к эстетической добродетели. Сама же по себе добродетель не способна диктовать художнику верный поэтический выбор. (Сошлюсь на распространенное мнение по поводу творчества Френсиса Бэкона [6] и Дэмиена Херста [7]). Сегодня не может не удивлять, что исследовательское направление «антропология искусства» возникло столь поздно. Человек творил искусство. Искусство творило человека. Прямой и обратный обмен идеями: - что есть антропная ценность? - происходил непрерывно, во всех типах культур. Что в мире проходит «по ведомству» человека, а что располагается «вне его», т. е. противно человеческой сущности? Если не все внутренние побуждения «усиливают человека», то что в таком случае валентно человеку, а что надлежит вытеснять и табуировать? В чем критерий «человекомерности» творческих практик, разнообразие которых в современном мире способно даже исследователя поставить в тупик? Антропология искусства исходит из того, что главный стимул художественного творчества во все времена - это противоречие между языковыми возможностями искусства и чувством жизни человека, его экзистенцией. Важнейший тезис антропологии искусства: все утвердившееся, освоенное - не может быть местом искусства. Природа творческого акта как способность художника выйти за пределы себя, превзойти границы адаптированного мира расширяет горизонты мыслимого, постижимого. Современный художник открывает новые и новые зоны человеческой аффективности, всякий раз заставляя иначе работать наши чувственные и познавательные способности. Отсюда и тщетность деления современного искусства на «правильное» и «неправильное»; что связано со стремительной модификацией эстетического, расширением спектра выразительных возможностей визуального, вербального, музыкального языков. По сути дела, сама природа художественного творчества выталкивает художника в такие сферы, приблизиться к которым иначе (вне найденного им языка искусства) он был бы не в состоянии независимо от степени душевной и интеллектуальной концентрации, на которую он способен вне творчества. Несмотря на проникновение в образный строй произведений новейшего искусства негативного материала, острые эксперименты по трансформации художественной формы, искусствоведение продолжает искать такие измерения, которые могли бы являть собой устойчивые опознавательные признаки художественности, позволяли бы осознать современные критерии художественного качества. Как уже упоминалось, для оценки высоты современных произведений искусства не всегда может использоваться классическое понятие катарсиса. Возможно, эффект сильного сопереживания зрителем произведений неклассического искусства, высокая концентрация внутренней энергии в момент восприятия может быть более точно выражена посредством понятия витальности искусства, которое по своему объему превышает понятие катарсиса. Таким образом, «наличное бытие», и «заброшенность-в-мир», маркирующая роль «страха», «тревоги», ощущение человеком своей смертности, вносящее глубинные деформации в рефлексирующее сознание - это все факторы, не отягощающие роль и предназначение искусства, а заданная, то есть сегодня - естественная среда его существования в современном мире.×
References
- Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб.: Худож. лит., 1993. 670 с.
- Мандевиль Б. Басня о пчелах. М.: Мысль, 1974. 375 с.
- Плеснер X. Ступени органического и человек: введение в философскую антропологию / пер. с нем. М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2004. 368 с.
- Манн Т. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 10: Статьи. 1929-1955. М.: Гослитиздат, 1961. 696 с.
- Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры ХХ века: мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М.: Политиздат, 1991. С. 171-207.
- По сути, реализм: Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и другие в Москве // The Art Newspaper Russia. 2019. 25 февр.
- Демиен Херст, художник в самом расцвете сил // The Art Newspaper Russia. 2019. 03 июня.
Supplementary files