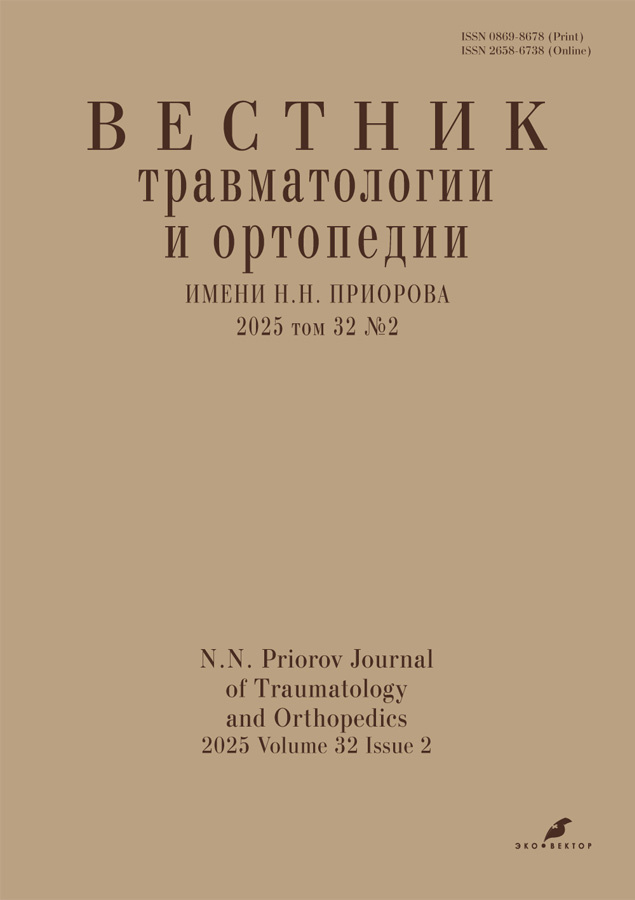Microbiological monitoring of major pathogens in infected long bone fractures treated with external osteosynthesis
- Authors: Tsiskarashvili A.V.1, Melikova R.E.1, Nazarenko A.G.1
-
Affiliations:
- Priorov Central Research Institute of Traumatology and Orthopedics
- Issue: Vol 32, No 2 (2025)
- Pages: 457-475
- Section: Original study articles
- Submitted: 14.02.2025
- Accepted: 10.03.2025
- Published: 22.07.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-8678/article/view/655983
- DOI: https://doi.org/10.17816/vto655983
- EDN: https://elibrary.ru/IIYFKQ
- ID: 655983
Cite item
Abstract
BACKGROUND: The development of fracture-related infection disrupts osteoreparative processes at the fracture site, which may result in the need for repeated surgical interventions. It is well known that the etiology of fracture-related infection involves microorganisms, whose spectrum may vary considerably across healthcare facilities. Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci are the predominant pathogens in this condition, whereas Gram-negative bacteria, anaerobes, and fungi are less common.
AIM: The work is aimed to determine the spectrum and changes of major pathogens in patients with long bone fracture-related infection and post-traumatic chronic osteomyelitis treated with external osteosynthesis from 2019 to 2024.
METHODS: A single-center retrospective analysis was conducted based on microbiological findings in 247 patients with long bone fracture-related infection and chronic osteomyelitis as its sequela, all treated with external osteosynthesis. The spectrum of major pathogens and their changes over time were examined. The statistical analysis was performed using Pearson’s chi-square(χ2) test.
RESULTS: Positive cultures were obtained in 70.4% of cases, whereas 29.6% were negative. A total of 230 microorganisms were identified: 158 (68.7%) Gram-positive, 71 (30.9%) Gram-negative, and 1 (0.4%) fungal isolate. Monomicrobial infections were revealed in 76.4% of cases, whereas in 23.6% of cases, the infection was polymicrobial. A microbial shift was observed in 18.4% of patients: in 15.5% during treatment and in 2.9% upon recurrence.
DISCUSSION: The major causative pathogens of fracture-related infection were S. aureus (36.9%), S. epidermidis (10%), K. pneumoniae (9.1%), E. faecalis (7.8%), A. baumannii (6.1%), P. aeruginosa (4.3%), E. cloacae and Corynebacterium (3.5% each). Between 2019 and 2024, the incidence of MRSE and E. faecalis increased from 0.6% to 5.7% and 8.2%, respectively; Corynebacterium from 0% to 3.2%; K. pneumoniae from 2.8% to 12.7%; and E. cloacae from 1.4% to 9.9%. A microbial shift during treatment was observed in patients with open fractures and extensive soft tissue defects. Microbial composition showed unpredictable variation. In cases of recurrence, the primary isolate was often replaced by MSSA, E. faecalis, or Corynebacterium.
CONCLUSION: Despite an increasing proportion of MRSE, E. faecalis, Corynebacterium, K. pneumoniae, and E. cloacae in the etiological structure of fracture-related infection, S. aureus remains the predominant pathogen.
Full Text
ОБОСНОВАНИЕ
Постоянное совершенствование металлоконструкций сделало возможным выполнение остеосинтеза переломов длинных костей любой сложности. Широкое применение погружных и наружных фиксаторов обусловлено максимально возможным восстановлением анатомической целостности и оси повреждённой кости, что способствует своевременной консолидации перелома с сохранением функциональности травмированной конечности [1]. Однако после остеосинтеза костей, как и любой другой хирургической операции, всегда существует риск развития инфекционного осложнения. В данном случае это перелом-ассоциированная инфекция (ПАИ), представляющая собой достаточно опасную [2] и сложно поддающуюся лечению патологию [3]. Частота встречаемости ПАИ составляет 1–5% случаев после фиксированных закрытых переломов и достигает 30–50% [4–7] после остеосинтеза открытых переломов. При этом удельный вес инфекционного осложнения продолжает неуклонно расти [8]. К примеру, в Германии в период с 2008 по 2018 г. распространённость инфекции, связанной с переломами, возросла на 0,28, то есть с 8,4 до 10,7 случая на 100 000 жителей [9], и эта цифра сохраняется неизменной и в 2019 г. (10,5 случая) [2].
Наличие костной инфекции в области перелома, фиксированного металлоконструкцией, негативно влияет на процесс консолидации [1, 3], может потребовать неоднократных хирургических вмешательств [5, 10], а при отсутствии адекватного лечения и длительном течении процесса — и вовсе перейти в хроническую форму остеомиелита (до 15%) [11].
Посттравматический остеомиелит конечностей составляет большую часть случаев ПАИ и вызывает значительную заболеваемость [8], потенциально приводящую к потере функциональности конечности или её ампутации [11], что создаёт серьёзную проблему для хирургов-ортопедов [5] и накладывает значительное социально-экономическое бремя на звенья здравоохранения [6, 8, 12].
В основе этиологии ортопедической инфекции лежат патогенные микроорганизмы, спектр которых может широко варьировать [13]. В настоящее время наиболее изучен микробиологический спектр возбудителей при перипротезной инфекции (ППИ) как составляющей ортопедической инфекции, при ПАИ и хроническом остеомиелите длинных костей данные весьма скудные [4] — всего лишь небольшое число ретроспективных наблюдательных исследований [14]. По этой причине большинство рекомендаций касательно лечения ПАИ и хронического остеомиелита как её последствия являются экспертным мнением и заимствованы в основном из алгоритмов лечения ППИ [3, 10]. Эмпирическая антибактериальная терапия также экстраполируется из знаний микробиологического спектра при ППИ. При этом похож ли спектр возбудителей ПАИ на ППИ или отличается от неё, неизвестно. Считается, что ведущими возбудителями хронического остеомиелита, развившегося на фоне длительно текущей ПАИ, чаще всего являются грамположительные [Грам(+)] кокки рода Staphylococcus, в частности золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) [2] и коагулазонегативные стафилококки (CoNS). В меньшей степени при ПАИ встречаются грамотрицательные [Грам(-)] микробы, в основном представители семейства Enterobacteriaceae [4, 15], и реже всех — анаэробы и грибы [16, 17]. Общеизвестно, что микроорганизмы, вызывающие инфекции, существуют в условиях трёхмерных микробных биоплёнок и могут быть представлены как монокультурами, так и различными ассоциациями. При этом видовой состав и компонентность ассоциаций микробной флоры непостоянны [13] и в зависимости от формы, локализации повреждения и длительности инфекции могут меняться [15].
Знание эпидемиологических и микробиологических характеристик пациентов с ПАИ является весьма важным для руководства клиническим лечением [18], особенно оно актуально в случаях культуроотрицательных инфекций или когда лечение проводится эмпирически [19]. Именно этот факт и определяет необходимость постоянного мониторинга микробиологического спектра бактерий при ПАИ, позволяющего выявить ведущих возбудителей, определить их тенденцию к динамическим изменениям и, соответственно, правильно подобрать антибактериальное лечение.
Цель исследования — определить ведущих возбудителей и проследить их динамику у пациентов с инфицированными переломами длинных костей конечностей, пролеченных методом чрескостного остеосинтеза за период с 2019 по 2024 г.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Проведён обсервационный одноцентровой ретроспективный анализ результатов микробиологического исследования, взятых от пациентов с переломом длинных костей, осложнённым ПАИ и хроническим остеомиелитом.
Условия проведения
Исследование проведено среди лиц, проходивших стационарное лечение в условиях клиники последствий травм опорно-двигательной системы и костно-суставной инфекции ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России.
Продолжительность исследования
Исследование длилось с января 2019 по декабрь 2024 г.
Критерии соответствия
Критерии включения в исследование были следующими:
- перелом длинных костей конечностей;
- подтверждённый диагноз ПАИ и/или хронического посттравматического остеомиелита;
- фиксация повреждённого сегмента конечности методом чрескостного остеосинтеза;
- выполненный забор материала для микробиологического исследования с наличием результатов посевов.
Критерии невключения:
- перелом длинных костей конечностей, не осложнённый инфекцией;
- корригирующие остеотомии длинных костей, выполненные в условиях ремиссии инфекции с целью исправления деформации или удлинения конечности, с применением метода чрескостного остеосинтеза;
- фиксация повреждённого сегмента конечности другими методами остеосинтеза (накостный / внутрикостный);
- отсутствие данных о выполненном заборе материала для микробиологического исследования и, соответственно, результатов посевов.
Описание медицинского вмешательства
Учитывая вышеуказанные критерии, в исследование вошли 247 пациентов с 253 повреждёнными сегментами. Женщин было 56 (22,7%), мужчин — 191 (77,3%). Средний возраст участников составил 44,6 года (min — 13, max — 76 лет), из них лиц старше 65 лет было 21 (8,5%). С травмой бедра поступило 58 (23,5%) человек, голени — 141 (57,1%), плеча — 29 (11,7%), предплечья — 13 (5,3%). С одновременным повреждением нескольких сегментов было 6 (2,4%) человек: бедра / голени — 1 (0,4%), бедра / предплечья — 1 (0,4%), плеча / предплечья — 1 (0,4%), обеих голеней — 3 (1,2%). Распределение пациентов по локализации переломов относительно временного фактора показано в табл. 1.
Таблица 1. Распределение пациентов по локализации повреждённых сегментов с учётом временного фактора
Table 1. Distribution of patients by localization of affected segments across time periods
Год | Сегменты конечностей | Всего | |||||||
Бедро | Голень | Плечо | Предплечье | Бедро / голень | Обе голени | Бедро / предплечье | Плечо / предплечье | ||
2019 | 3 | 22 | 3 | 6 | – | 2 | – | – | 36 |
2020 | 6 | 23 | 4 | 1 | – | – | – | – | 34 |
2021 | 10 | 15 | 5 | 2 | – | – | – | 1 | 33 |
2022 | 9 | 23 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | 42 |
2023 | 15 | 25 | 7 | 3 | – | – | – | – | 50 |
2024 | 15 | 33 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 52 |
Всего | 58 | 141 | 29 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 247 |
Перелом сегмента диагностирован в 41 (16,6%) случае, замедленная консолидация — в 16 (6,5%), ложный сустав — в 195 (78,9%). Распределение пациентов по механизму травмы и виду полученного первоначального перелома представлено в табл. 2.
Таблица 2. Распределение пациентов по механизму травмы и виду перелома длинных костей
Table 2. Distribution of patients by trauma mechanism and type of long bone fracture in the limbs
Механизм травмы | Вид перелома | |||||
Закрытый | Открытый | Всего | ||||
n | % | n | % | n | % | |
Дорожно-транспортное происшествие | 44 | 17,8 | 37 | 15 | 81 | 32,8 |
Кататравма | 3 | 1,2 | 7 | 2,8 | 10 | 4 |
Бытовой | 67 | 27,1 | 32 | 13 | 99 | 40,1 |
Производственный | 5 | 2,1 | 10 | 4 | 15 | 6,1 |
Огнестрельный | – | – | 17 | 6,9 | 17 | 6,9 |
Минно-взрывной | – | – | 19 | 7,7 | 19 | 7,7 |
Патологический | 5 | 2 | – | – | 5 | 2 |
Спортивный | 1 | 0,4 | – | – | 1 | 0,4 |
Всего | 125 | 50,6 | 122 | 49,4 | 247 | 100 |
Несмотря на отсутствие чёткой общепринятой классификации для длинных костей конечностей относительно сроков возникновения инфекционного осложнения, широкое распространение для ПАИ получила классификация Willenegger and Roth, созданная в 1980-х гг. Она основана на учитывании временных патофизиологических изменений, возникающих в области перелома после его фиксации [3, 20]. Согласно этой классификации, все инфекции делятся на три группы: с ранним (<2 недель), отсроченным (2–10 недель) и поздним (>10 недель) началом. Однако данную классификацию мы применять не стали (см. раздел «Обсуждение»). Для лучшего понимания и подробного анализа по срокам развития инфекции с момента получения первичной травмы нами были выделены 7 групп пациентов, которые представлены в виде диаграммы на рис. 1. Похожая схема приведена и для сроков длительности течения инфекции на рис. 2.
Рис. 1. Распределение пациентов по группам в зависимости от сроков развития инфекции и вида перелома.
Fig. 1. Distribution of patients by group, depending on the timing of infection onset and type of fracture.
Рис. 2. Распределение пациентов по группам в зависимости от сроков длительности течения инфекции.
Fig. 2. Distribution of patients by group, depending on the duration of infection.
До госпитализации в нашу клинику 237 (95,6%) пациентов были прооперированы в других учреждениях. Из них 150 (60,7%) человек оперированы неоднократно. С металлоконструкцией в области повреждённого сегмента конечности поступило 135 (54,7%) человек, и практически во всех случаях фиксирующее устройство было нестабильным. Локально болевой синдром испытывали 200 (81%) пациентов, свищи имели 53 (21,5%) человека, рану — 41 (16,6%), гиперемию — 55 (22,3%), гипертермию — 63 (25,5%), отёк повреждённой конечности — 49 (19,8%), патологическую подвижность кости — 33 (13,4%), деформацию в области перелома — 28 (11,3%), воспалительный инфильтрат в проекции послеоперационного рубца — 2 (0,8%) пациента. У 157 (63,6 %) человек при осмотре отмечалось нарушение функциональности конечности. Сопутствующие заболевания, являющиеся факторами риска развития ортопедической инфекции, выявлены у 85 (34,4%) пациентов, из них 25 (10,1%) человек имели одновременно несколько факторов риска.
Все пациенты в предоперационном периоде проходили полное клинико-лабораторное и рентгенологическое обследование. Во всех случаях в зависимости от вида травмы и её сроков давности выполняли тщательную или радикальную (резекция зоны ложного сустава) санацию очага с удалением металлоконструкции при её наличии и дебридментом операционной раны с последующим применением монолокального или билокального чрескостного остеосинтеза. Фиксация сегмента производилась аппаратом внешней фиксации стержневой или гибридной компоновки с учётом основных критериев биомеханической концепции, обеспечивающей прочную фиксацию отломков за счёт нейтрализации их рычаговых свойств [21, 22], что немаловажно для достижения консолидации переломов в условиях инфекции и подавления последней.
Обнаружение патогенной микрофлоры и её видовую идентификацию осуществляли с помощью микробиологического исследования материала, забор которого производили до операции (при наличии свища или раны), во время операции (из нескольких участков очага) и после операции до момента полного заживления раны. Помимо прочего, бактериологическому исследованию подлежали и составные компоненты удалённой металлоконструкции. Гистология интраоперационного материала проводилась с целью подтверждения наличия острого или хронического инфекционно-воспалительного процесса и выявления его латентной формы.
Культивирование микроорганизмов выполняли по стандартной методике [23]. Родовую и видовую идентификацию обнаруженных бактерий с определением их антибиотикорезистентности осуществляли с помощью бактериологического автоматического анализатора Vitec 2 compact (BioMerieux, Франция).
Этическая экспертиза
Все манипуляции, выполненные в исследовании с участием людей, соответствовали стандартам Комитета по этике ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, заседание № 3 от 01.06.2016 г.
Статистический анализ
Полученные данные обрабатывали с помощью статистической программы IBM SPSS Statistics 22. Статистическую значимость различий между группами определяли путём применения критерия χ2 Пирсона для качественных переменных. Статистически значимыми считались значения при p <0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Монолокальный чрескостный остеосинтез выполнен 106 (42,9%) пациентам, билокальный — 141 (57,1%)по причине формирования пострезекционного дефекта в 3 см и более. Из 253 наложенных нами аппаратов внешней фиксации 178 (70,4%) были спице-стержневой, 75 (29,6%) — стержневой компоновки.
Положительный рост микрофлоры получен у 174 (70,4 %) человек, отрицательный — у 73 (29,6%). Всего было идентифицировано 230 микроорганизмов, из них 158 (68,7%) относились к грамположительной микрофлоре, 71 (30,9%) — к грамотрицательной и 1 (0,4%) — к грибам. Спектр выявленной Грам(+) флоры включал 11 видов бактерий, подавляющее большинство из которых были представителями рода Staphylococcus. Спектр Грам(-) флоры охватывал 15 видов микроорганизмов. Весь микробный профиль идентифицированных возбудителей при ПАИ и остеомиелите как её последствии показан на рис. 3. К группе Staphylococcus sp. (S. sp.) нами отнесены Staphylococcus lugdunensis (S. lugdunensis), Staphylococcus xylosus (S. xylosus) и Staphylococcus spp. (S. spp.), к категории «др. Грам(-)» — Acinetobacter haemolyticus, Pseudomonas stutzeri, Proteus hauseri, Serratia fonticola, Chryseobacterium, Achromobacter denitrificans, Burkholderia cepacia, Ochrobactrum anthropi и Providencia stuartii. Стоит отметить, что видовой состав патогенов у пациентов с одновременным поражением двух сегментов полностью совпадал.
Рис. 3. Микробиологический спектр возбудителей при инфекции, связанной с переломом, и хроническом посттравматическом остеомиелите длинных костей (указана доля от всех возбудителей).
Fig. 3. Microbiological spectrum of pathogens in fracture-related infection and chronic post-traumatic osteomyelitis of long bones.
В структуре Грам(+) микрофлоры (n=158) ведущим возбудителем был S. aureus, на долю которого приходилось 57,6% (n=91) случаев высеваемости. При этом удельный вес метициллинчувствительных штаммов (MSSA) составил 34,8%, метициллинрезистентных (MRSA) — 22,8%. На втором месте с частотой обнаружения 17,1% (n=23) наблюдений расположился Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) с соотношением метициллинчувствительных и резистентных штаммов 5,2 и 11,9% соответственно. Далее в порядке убывания следуют изоляты Enterococcus faecalis (E. faecalis) — 11,4 % (n=18), анаэробные представители рода Corynebacterium — 5,1% (n=8), Staphylococcus haemolyticus (S. haemolyticus) и Staphylococcus hominis (S. hominis). Степень встречаемости в структуре последних двух микробов была одинаковой и равна 3,2% (n=5), причём совпадало и число резистентных штаммов — по 3 штамма и в том и в другом случае. Реже всех в исследуемых биоптатах пациентов выявляли S. lugdunensis (1,9%), Bacillus (1,3%), S. xylosus (0,6%), S. spp. (0,6%) и Anaerococcus prevotii (0,6%).
Среди Грам(-) микроорганизмов (n=71) в большей степени встречались представители семейства Enterobacteriaceae (53,5%, n=38). Лидирующую позицию как в самой структуре, так и внутри данного семейства с частотой обнаружения 29,6% (n=21) случаев заняла Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae), на долю Enterobacter cloacae (E. cloacae) приходилось 11,3% (n=8), а Escherichia coli (E. coli) — 5,6% (n=4). Факультативный анаэроб Proteus mirabilis (P. mirabilis) выделен в 7% (n=5) случаев. Обнаруживаемость неферментирующих бактерий, к которым относятся Acinetobacter baumannii (A. baumannii) и Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), составила 19,7% (n=14) и 14,1% (n=10) соответственно. Бактерии из категории «др. Грам(-)» идентифицировали в единичном случае каждую — по 1,4%. Динамика видовой устойчивости ведущих возбудителей за весь период исследования представлена на рис. 4, частота идентификации отдельно Грам(+) и Грам(-) микрофлоры — на рис. 5 и 6 соответственно.
Рис. 4. Видовая устойчивость наиболее распространённых возбудителей в микробиологическом спектре на всём протяжении исследования.
Fig. 4. Species-specific resistance of the most common pathogens throughout the microbial spectrum during the study period.
Рис. 5. Динамика частоты идентификации ведущих возбудителей среди грамположительной микрофлоры по исследуемым периодам времени.
Fig. 5. Changes in identification frequency of leading Gram-positive pathogens across the study periods.
Рис. 6. Динамика частоты идентификации ведущих возбудителей среди грамотрицательной микрофлоры по исследуемым периодам времени.
Fig. 6. Changes in identification frequency of leading Gram-negative pathogens across the study periods.
Мономикробная этиология инфекции была выявлена в 133 (76,4%) случаях. При этом доля исключительно Грам(+) микроорганизмов от общего числа монокультур составила 80,5% (n=107), только Грам(-) — 18,8% (n=25) и инфекции грибкового происхождения — 0,8% (n=1). Микробные ассоциации были выделены в 41 (23,6%) наблюдении. Наибольший удельный вес (68,3%, n=28) имели микст-инфекции, включающие одновременно Грам(+) и Грам(-) бактерии. В остальных случаях сообщества состояли либо из Грам(+) изолятов (19,5%), либо из Грам(-) возбудителей (12,2%). У 13 (31,7%) пациентов микробные ассоциации были представлены тремя и более патогенными штаммами. Соотношение встречаемости двухкомпонентных ассоциаций с трёх- и четырёхкомпонентными составило 2,2:1. Динамика частоты выявления Грам(+) и Грам(-) микробов в монокультурах и в составе ассоциаций в зависимости от периода времени показана на рис. 7 и 8 соответственно. Стоит отметить, что единственный случай инфекции грибкового происхождения был обнаружен в 2024 г.
Рис. 7. Динамика частоты выявления мономикробной инфекции по исследуемым периодам времени с учётом грампринадлежности верифицированных микроорганизмов, n=133.
Fig. 7. Changes in monomicrobial infection detection rates across the study periods, based on Gram classification of verified microorganisms (n=133).
Рис. 8. Динамика частоты обнаружения полимикробной инфекции по исследуемым периодам времени с учётом грампринадлежности идентифицированных микроорганизмов, n=41.
Fig. 8. Changes in polymicrobial infection detection rates across the study periods, based on Gram classification of identified microorganisms (n=41).
Из 230 верифицированных микроорганизмов в этиологии микст-инфекций участвовало 98 (42,6%), из них 52 имели Грам(+) принадлежность, что составило 32,9% от их общего числа (n=158), и 46 относились к Грам(-) микрофлоре с удельным весом 64,8% от общего количества (n=71). Частота встречаемости микробов в ассоциациях представлена в табл. 3.
Таблица 3. Частота встречаемости микроорганизмов в ассоциациях от их общего числа
Table 3. Frequency of microorganisms occurring in associations relative to their total species identification count
Микроорганизм | В микробных ассоциациях | n | % |
MSSA | 7 | 55 | 12,7 |
MRSA | 14 | 36 | 38,9 |
MSSE | 2 | 7 | 28,6 |
MRSE | 2 | 16 | 12,5 |
E. faecalis | 15 | 18 | 83,3 |
Corynebacterium sp. | 4 | 8 | 50 |
S. hominis | 3 | 5 | 60 |
S. haemolyticus | 2 | 5 | 40 |
Bacillus | 2 | 2 | 100 |
S. sp. | 1 | 5 | 20 |
P. aeruginosa | 4 | 10 | 40 |
A. baumannii | 9 | 14 | 64,3 |
K. pneumoniae | 12 | 21 | 57,1 |
E. cloacae | 6 | 8 | 75 |
E. coli | 4 | 4 | 100 |
P. mirabilis | 3 | 5 | 60 |
др. Грам(-) | 8 | 9 | 88,9 |
У 32 (18,4%, n=174) пациентов наблюдалась смена видового состава микрофлоры, из них у 5 (2,9%) изменения обнаружены при рецидиве инфекции, у 27 (15,5%) — в процессе лечения. При этом в последней когорте 15 человек имели обширный дефект мягких тканей, среди них семерым терапия проводилась с применением системы лечения ран отрицательным давлением (ЛОД-система). В 2 (1,1%) случаях микробный состав менялся и в ходе лечения, и при рецидиве инфекции. Изменения антибиотикочувствительности ранее идентифицированных микроорганизмов отмечены у 6 (3,4%) человек.
Принимая во внимание изменчивость состава микрофлоры, дополнительно было идентифицировано 50 микроорганизмов, видовая структура и процентное соотношение которых представлены на рис. 9. Десять выявленных при смене патогенных штаммов принадлежали к новым таксонам, относящимся к родам Enterococcus (E. durans, E. hirae, E. gallinarum, E. faecium), S. sp (S. lentus (2 штамма), S. warneri, S. intermedius, S. auricularis) и Serratia. Смена компонентности микрофлоры показана в табл. 4.
Рис. 9. Видовой состав микроорганизмов, пришедших на смену первоначально выявленным возбудителям в ходе лечения и при рецидиве инфекции.
Fig. 9. Species composition of microorganisms identified during microbial shift in the course of treatment and in cases of infection recurrence.
Таблица 4. Изменение численности микрофлоры в процессе лечения и при рецидиве инфекции
Table 4. Changes in the microflora composition during treatment and in case of infection recurrence
Первоначально выявленная компонентность микрофлоры | При повторном исследовании | |||
Монокультура | Двухкомпонентная | Трёхкомпонентная | Неоднократная смена с изменением компонентности | |
Монокультура | 14 | 4 | 2 | 3 |
Двухкомпонентная | 2 | 2 | 1 | 2 |
Трёхкомпонентная | – | – | 1 | 2 |
Четырёхкомпонентная | 1 | – | – | – |
Всего | 17 | 6 | 4 | 7 |
Стоит отметить, что в монокультурах из 11 Грам(+) изолятов 10 сменились на другой вид грамположительного микроорганизма и 1 бактерия — на Грам(-) штамм, в частности MRSA сменилась на K. pneumoniae, обладающую хорошей чувствительностью к бета-лактамам широкого спектра действия (БЛРС); 3 Грам(-) патогена сменились на Грам(+): A. baumannii (БЛРС) — на MSSA, K. pneumoniae, чувствительная только к полимиксину (S-П), на Corinebacterium sp., и K. pneumoniae (S-П) — на метициллинрезистентный штамм S. haemolyticus. В двух случаях смены монокультуры на двухкомпонентную, одном случае четырёхкомпонентной на монокультуру и одном случае двухкомпонентной с трёхкратной сменой на монокультуру отмечалась полная замена видового состава микроорганизмов: MRSA — на MSSA+E. cloacae; MSSE — на MSSA+E. faecalis; MRSA+E. faecalis+K. pneumoniae (БЛРС)+A. baumannii (S- П) — на MSSA с промежуточной чувствительностью к фторхинолонам; и K. pneumoniae+A. baumannii (S-П) — на MRSA, затем на E. hirae, после чего на MSSA соответственно. В остальных наблюдениях помимо новых выявленных микробов в составе сохранялись один или два вида ранее идентифицированных.
У пациентов с рецидивом инфекции из исследуемого материала чаще всего выделяли штаммы MSSA, E. faecalis либо Corynebacterium sp.
ОБСУЖДЕНИЕ
Как показал наш анализ, переломы большеберцовой кости (58,5%) являются наиболее распространёнными, за ними следуют переломы бедренной кости (23,7%), реже всех с частотой 5,9% встречаются переломы костей предплечья (см. табл. 1), что в целом не противоречит данным других авторов [8, 18, 19, 24–26].
Травмирование длинных костей конечностей чаще всего происходило в быту (40,1%), на втором месте — дорожно-транспортные происшествия (ДТП) (32,8%). Такой же процент травм в результате ДТП описывается в аналогичном исследовании, однако данный вид механизма преобладал над бытовым (32,8% против 29,8%) [18]. Согласно литературным источникам, частота высокоэнергетических травм длинных костей достигает 25%, и риск возникновения ПАИ зависит от тяжести повреждения и развивается в большей степени после открытых переломов [27]. Доля переломов, полученных под воздействием высоких энергий, включая кататравму, огнестрельные и минно-взрывные травмы, в нашем исследовании превысила данные вышеуказанных авторов и в целом составила 51,4% (см. табл. 2). При том, что разницы в частоте развития ПАИ после открытых или закрытых переломов костей не выявлено (p >0,05), есть различия в сроках развития инфекции: 93,4% открытых переломов инфицируются в раннем послеоперационном периоде в сроки до 2 недель, что в два раза выше по сравнению с закрытыми переломами (45,6%) (см. рис. 1).
Несмотря на значительный удельный вес пациентов с ранним инфицированием области перелома, у подавляющего большинства из них воспалительный процесс переходит в хроническую форму (см. рис. 2). Постоянное персистирование инфекции в кости нарушает процесс остеогенеза, впоследствии приводящего к нестабильности фиксирующей металлоконструкции и отсутствию своевременной консолидации отломков с исходом в замедленное сращение, формированию ложного сустава или, в худшем случае, всё заканчивается ампутированием повреждённой конечности.
Считается, что одним из факторов риска развития ПАИ является принадлежность к мужскому полу [27, 28]. Возможно, это и объясняет чрезмерное преобладание мужчин (77,3%) в нашей когорте пациентов. Другие авторы обосновывают повышенную заболеваемость мужчин ПАИ (81,8%) их частым задействованием в тяжёлом физическом труде или деятельности с высоким риском ДТП и несчастных случаев на производстве [18].
Ведущим возбудителем ПАИ в нашем исследовании оказался S. aureus c частотой выявления 36,9%, за которым, уступая почти в 4 раза, следует CoNS S. epidermidis (10%), далее в порядке убывания идут K. pneumoniae (9,1%), E. faecalis (7,8%), A. baumannii (6,1%), P. aeruginosa (4,3%), E. cloacae и Corynebacterium (по 3,5% соответственно) (см. рис. 3). Встречаемость P. mirabilis, S. hominis и S. haemolyticus была одинаково невысокой и составила 2,2%. Учитывая микробиологическую структуру, вероятность того, что ПАИ будет иметь Грам(+) этиологию, составляет 2:1 [68,7% против 30,9% Грам(-)].
Текущая литература по микробному профилю ПАИ демонстрирует большую изменчивость, но наблюдаются определённые тенденции [19]: почти для всех общим является доминирование в спектре возбудителей S. aureus, за которым следует S. epidermidis [5, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 25, 29], различия в основном заключаются в последовательности расположения Грам(-) бактерий в этиологической структуре. В одном исследовании, к примеру, после золотистого и эпидермального стафилококков следовали P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae и E. cloacae [18], в другом — E. cloacae, E. coli, A. baumannii и P. aeruginosa [5, 30], в третьем — E. coli и E. cloacae [29]. Есть работы, где наиболее распространёнными в спектре микроорганизмами были не S. aureus, а CoNS [14]. Преобладание S. aureus как этиологического агента при ПАИ и остеомиелите, вероятнее всего, обусловлено колонизацией им 25–30% населения мира, продуцированием множества факторов вирулентности [9] и множественными механизмами инвазии и адгезии костной ткани [24].
Общая заболеваемость Enterobacteriaceae у когорты пациентов с ПАИ составила 53,5%, что превосходит показатели, приведённые М. Depypere и соавт., В. Wang и соавт., P.G. Mthethwa и соавт. и J. Peng и соавт., — 20,6, 29, 29,3 и 35,5% соответственно [4, 18, 20, 29]. Причём среди них одни высокий процент заболеваемости пациентов энтеробактериями связывают с открытым характером перелома и повреждением мягких тканей [18], другие — с ранним началом инфекции [20].
Среди Грам(+) инфекций в более половине случаев высевался S. aureus (57,6% при n=158), который оказался не только наиболее распространённым, но и устойчивым на видовом уровне микроорганизмом, в частности, это касается штаммов MSSA (см. рис. 4). Доля последних за весь период исследования составила 34,8%, что несколько выше по сравнению с метициллинрезистентными изолятами (22,8%). В исследуемой работе К.Н. Patel и соавт. описан такой же удельный вес MSSA (34,2%), как и у нас, но уровень MRSA был значительно ниже нашего — 7,1% [19]. О похожем, на первый взгляд, низком проценте высева резистентных штаммов S. aureus (8,8 %) информируют и Z. Zhang и соавт., однако эта доля рассчитана от общего числа всех выявленных микробов (n=546). При отдельном рассмотрении частота высеваемости MRSA практически не уступала MSSA (48 штаммов против 53) [5]. М. Dudareva и соавт. и С.И. Бурнашов и соавт. сообщают о 11,4 и 11,8% MRSA соответственно [15, 31]. М. Depypere и соавт. выделили всего 6 штаммов MRSA у пациентов с ПАИ, что в целом составило 3,1% [20]. В противовес остальным Jorge и соавт. в своей работе показали весьма высокие результаты частоты выделения MRSA — 34,7% [32].
Каких-либо значимых изменений в динамике идентификации S. aureus в нашем исследовании не обнаружено. Так, частота выявления MSSA к 2021–2022 гг. выросла всего на 1,2% (p=0,306) и сохраняется на том же уровне в 2023–2024 гг. В случае MRSA в 2021–2022 гг. отмечается снижение с 8,2 до 5,7%, но к концу исследования показатели вновь возвращаются к первоначальным данным (p=0,833). В. Wang и соавт. получили похожую частоту идентификации MRSA (25,3%). Однако, изучая динамику штамма с 2011 по 2020 гг., они отметили увеличение доли микроба с 14,3 до 37,5%, но разница не была статистически значимой (p >0,05) [18]. Согласно данным литературы, метициллинустойчивые штаммы S. aureus играют важную роль во всём мире из-за резистентности ко многим антибактериальным препаратам. Эти штаммы имеют большую значимость в США и Китае, поскольку их удельный вес составляет 44 и 25,3% соответственно. В Германии, напротив, MRSA пока не столь значимый микроорганизм, так как идентифицируется только в 1% случаев [33].
Хотя S. epidermidis по частоте своей верификации существенно уступает S. aureus (10% против 36,9%), за ним наблюдается тенденция к постепенному росту с преобладанием в его структуре метициллинрезистентных штаммов (MR). Если в начале периода исследования доля MSSE и MRSE была одинаковой — по 0,6%, то к середине исследования картина меняется в сторону частого выявления устойчивых штаммов (p=0,146) (3,8% против 1,3%), а к концу исследования удельный вес MRSE составил 5,7% (p=0,925) по сравнению c 2,5% MSSE (p=0,692).
Доля E. faecalis и Corynebacterium sp. не имеет первостепенного значения в структуре Грам(+) микрофлоры (11,4 и 5,1% соответственно), однако обращает на себя внимание тенденция к увеличению частоты их выделения. Удельный вес E. faecalis в 2021–2022 гг. незначимо вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим периодом, но к 2023–2024 гг. высеваемость патогена резко и значимо возросла до 8,2% (p=0,035), опередив с разницей в 2,5% частоту идентификации MRSE на тот же период времени и сравнявшись с S. epidermidis в целом. Что касается Corynebacterium sp., то первый штамм обнаружен нами в 2021 г., в дальнейшем микроб из года в год стабильно высевался из биоптатов пациентов, так что к концу исследуемого периода его доля составила 3,2% (p=0,831). Несмотря на то, что большая часть микробов рода Corynebacterium являются комменсалами, они имеют клиническое значение из-за способности быстро приобретать устойчивость к антибактериальным препаратам и тем самым усложнять лечение.
Анализ литературы показал где-то совпадения с нашими результатами, где-то — расхождения. К примеру, Y. Ren и соавт. среди Грам(+) микрофлоры выделили всего 3 доминирующих микроба, и порядок их отличался от нашего — это S. aureus (27,49%), E. faecalis (5,19%) и S. epidermidis (4,87%). При этом десятилетнее динамическое наблюдение показало значительное снижение уровня заражения пациентов S. epidermidis — c 10,42 до 3,2% — при неизменной динамике S. aureus и E. faecalis [8]. В другом исследовании оценка динамики частоты доминирующих Грам(+) штаммов продемонстрировала существенное снижение S. aureus (на 10%), доля же S. epidermidis уменьшилась на 2,1% по сравнению с предыдущим периодом [25].
В случае Грам(-) микрофлоры количество выделенных бактерий в 2023–2024 гг. выросло в 2,6 раза по сравнению с показателями 2019–2020 гг. Видовая устойчивость грамотрицательных микроорганизмов на всём протяжении исследования была нестабильной (см. рис. 4), отличается и их процентное соотношение. Изначально ведущие позиции внутри структуры занимала A. baumannii, но с 2021 по 2024 г. лидером стала K. pneumoniae (см. рис. 6). При этом максимальный пик обнаруживаемости штаммов K. pneumoniae — 14,1% — приходится на период 2021–2022 гг., что существенно, но незначимо выше (p=0,077) в сравнении с 2,8% в 2019–2020 гг. К 2023–2024 гг. доля изолятов незначимо снижается до 12,7% (p=0,278). Удельный вес других представителей Enterobacteriaceae (E. cloacae и P. mirabilis) в 2019–2020 гг. был равен 1,4%, в 2021–2022 гг. количество P. mirabilis увеличилось в два раза (p=0,802) и сохранялось на том же уровне до конца исследования. В 2023–2024 гг. клинические изоляты E. cloacae после двухлетнего отсутствия продемонстрировали значимые (p=0,024) высокие показатели верификации — 9,9% — и вышли на второе место по частоте высеваемости после K. pneumoniae. Доля же неферментирующих микроорганизмов, таких как P. aeruginosa и A. baumannii, в 2021–2022 гг. была одинаково равной с незначимым увеличением на 2,8 и 1,4% соответственно в сравнении с предыдущим периодом. К 2023–2024 гг. процент высеваемости A. baumannii остаётся прежним, а P. aeruginosa существенно, без статистической значимости (p=0,096), снижается с 7 до 2,8%.
В аналогичных исследованиях авторами получены результаты, которые разнятся с нашими не только в отношении процента высеваемости Грам(-) бактерий, но и в доминировании того или иного грамотрицательного патогена. Например, L. Yang и соавт. указывают на частоту Грам(-) флоры в 46,15% и выделяют штаммы E. coli (15,4%) и E. cloacae (10,6%) как доминирующих внутри спектра. Вместе с тем, сопоставляя свои результаты с итогами многоцентрового исследования в Пекине, авторы констатируют существенные различия с провинцией: в столице преобладали P. aeruginosa (26,9%) и E. coli (17,9%) [25]. Это говорит о том, что популяризация ведущих возбудителей ПАИ может различаться не только в разных странах, но и внутри одного государства. В работе К.Н. Patel и соавт. доля Грам(-) изолятов составила 39,7% и наиболее распространёнными микробами были P. aeruginosa (8,2%), E. cloacae (7,8%) и E. coli (6,9%) [19]. В третьем исследовании и вовсе отмечают достаточно высокий показатель обнаружения Грам(-) микрофлоры — 55,54%, при этом лидировали 5 микроорганизмов: P. aeruginosa (10,92%), E. cloacae (10,34%), E. coli (9,47%), A. baumannii (7,92%) и K. pneumoniae (3,33%), — без явных статистически значимых изменений за десятилетний период [8]. В сравнении с вышеуказанными работами выделение штаммов E. coli у пациентов c ПАИ в нашем исследовании оказалось достаточно редким явлением — всего 4 (5,6%) изолята, и все они были обнаружены в 2023 г. Анализ же отечественной литературы показал преобладание среди Грам(-) бактерий P. aeruginosa, Enterobacter sp., Acinetobacter sp. и Klebsiella sp. Причём с 2017 по 2019 г. авторами наблюдалось снижение количества Грам(-) микробов на 9,6% при одновременном росте частоты K. pneumoniae и Proteus sp. Так, процент высеваемости первых патогенов повысился на 39,7% по сравнению с 2018 г. и на 48,9% — с 2017 г., вторых — на 20% в сравнении с 2018 г. [34], что в целом согласуется с нашими выводами о повышении роли этих бактерий в структуре Грам(-) микрофлоры за последние годы.
В своём подавляющем большинстве ПАИ является мономикробной инфекцией (76,4%). При этом вероятность того, что в монокультурной инфекции обнаружится Грам(+) микроб, составляет 4:1 [80,5% против 18,8% Грам(-)]. Наиболее склонными к изолированному существованию в биоплёнках оказались штаммы MSSA, MSSE и MRSE (см. табл. 3). Полученные нами результаты аналогичны данным других авторов, которые также сообщают о превалировании мономикробных ПАИ с вовлечением в процесс в основном Грам(+) микрофлоры, среди которой лидировали S. aureus и S. epidermidis [24, 31]. В одном из таких исследований доля инфекции, вызванной одним патогеном, составила 70,9%, из которых 73,9% являлись Грам(+) микробами и 26,1% — Грам(-), и наиболее распространёнными изолятами были S. aureus (64,6%) и S. epidermidis (14,1%) [18]. В другой работе, напротив, в монокультурах превалировали CoNS (24,5%) по сравнению с S. aureus (20,5%) [14]. Вместе с тем динамика обнаружения Грам(+) мономикробных инфекций в нашем исследовании постепенно возрастает без каких-либо статистически значимых изменений (см. рис. 7). Мономикробная Грам(-) инфекция, напротив, увеличилась с 3 до 7,5% в 2021–2022 гг. (p=0,364) и продолжает расти в 2023–2024 гг., что, по всей видимости, связано с увеличением числа Грам(-) бактерий. В противовес нашим результатам L. Yang и соавт. отмечают снижение частоты мономикробных ПАИ с 88,2 до 78,6% за счёт увеличения удельного веса полимикробных инфекций с 11,7 до 21,4%. Рост уровня микст-инфекций авторы объясняют длительным течением заболевания, продолжительным нерегулярным приёмом антибактериальных препаратов и ранее неоднократным лечением пациентов в других учреждениях [25]. Другие исследователи полимикробный характер инфекции связывают с её ранним началом [20, 33], открытым типом перелома [9, 19, 27, 28], замещением дефектов и длительным сроком сращения таких переломов [35]. Доля полимикробной инфекции в нашем исследовании составила 23,6% случаев, что в целом согласуется с данными одних источников литературы [12, 14, 20, 25, 29] и несколько уступает другим, показывающим уровень 30–37,8% [18, 19, 24, 30, 32]. Хотя частота микст-инфекций в целом варьирует в определённом интервале — 8,6–36% [33], есть источники, где сообщается о показателях полимикробности ПАИ, не входящих в указанный диапазон: к примеру, 2,8% [5] и 45% [4, 19].
В основном преобладают ассоциации с одновременным содержанием в своём составе микробов разной грампринадлежности (68,3%), но частота их идентификации на всём протяжении исследования не была постоянной. К примеру, в 2019–2020 гг. их доля составила 19,5% от общего числа ассоциаций, затем, в 2021–2022 гг., отмечается несущественное (p=0,146) снижение до 14,6%, а к 2023–2024 гг. их удельный вес резко возрастает до 34,1% (p=0,18) (см. рис. 8). С. Carbonell-Rosell и соавт., сравнивая несколько ранние периоды 2009–2014 и 2015–2019 гг., тоже отмечают пик высеваемости полимикробных инфекций (33,3%) именно к концу исследования [14]. Одновременно с этим частота ассоциаций, состоящих исключительно из Грам(+) и исключительно из Грам(-) патогенов, была равнозначной в первые два периода исследования — 2,4 и 7,3% соответственно, в последующем процент Грам(+) ассоциаций увеличился и достиг 9,8%, а процент Грам(-) сообществ вернулся к первоначальному показателю.
Среди Грам(+) микроорганизмов наибольшую приверженность к совместному существованию с другими изолятами проявили E. faecalis (83,3%), Corynebacterium sp. (50%) и MRSA (38,9%). Похожая тенденция намечается и у S. hominis и Bacillus (см. табл. 3). Среди Грам(-) микрофлоры такая склонность отмечается практически у всех идентифицированных видов микробов, в особенности эта черта выражена у E. cloacae (75%), E. coli (100%), P. mirabilis (60%) и A. baumannii (64,3%). Полученные нами данные не противоречат другим работам, в которых также сообщается, что Enterococcus, Enterobacter и неферментирующие Грам(-) бактерии были ответственны в большей части за полимикробные ПАИ [36]. Штаммы P. aeruginosa (60%) в нашем исследовании оказались более мономикробными грамотрицательными бактериями, что согласуется с выводами отечественных авторов [37].
В целом Грам(-) микробы считаются наиболее распространённой микрофлорой при полимикробных инфекциях [19, 30]. К слову, В. Wang и соавт. в составе ассоциаций обнаружили 65,8% Грам(-) изолятов и 34,2% Грам(+). При этом основными грамотрицательными бактериями в сообществах были E. coli, P. aeruginosa и K. pneumoniae, грамположительными — S. aureus и S. epidermidis [18]. Об аналогичных результатах сообщается и в работе М. Depypere и соавт. [20]. Несмотря на преобладание в этиологии полимикробной инфекции Грам(+) микрофлоры (52 штамма против 46), Грам(-) бактерии, на наш взгляд, обладают большими свойствами ассоциативности. В пользу этого говорит обнаружение 64,8% изолятов от их общего числа в микст-инфекциях по сравнению с 35,2% в монокультурах. L. Yang и соавт. и J. Peng и соавт. на основании полученных ими результатов придерживаются иной точки зрения, отличной от большинства, и заключается она в преобладании как в мономикробных ПАИ, так и в микст-инфекциях штаммов S. aureus [25, 29].
Как выяснилось из нашего исследования, в процессе лечения ПАИ возможна смена микрофлоры. Видовой состав наряду с ведущими возбудителями включал 10 новых видов, которых не было изначально в первичных посевах. В основном это были представители Staphylococcus sp. и Enterococcus sp., составившие вместе со штаммами MSSA и Corynebacterium sp. весомую долю в спектре бактерий, участвовавших в смене микрофлоры (см. рис. 9). Далее в порядке убывания удельного веса следовали P. aeruginosa (8%), MRSE и K. pneumoniae (по 6%), MRSA, E. cloacae, Bacillus и Serratia sp. (по 4%), A. baumannii, P. mirabilis, E. coli и S. haemolyticus (по 2% соответственно).
Доля сменившихся микробов в ходе лечения ПАИ составила 15,5% случаев. Этот феномен отмечен в основном у пациентов с открытыми переломами и обширными дефектами мягких тканей, у которых априори имеется массивное бактериальное обсеменение раны. В 11,5% случаев смена была однократной и в 4% — неоднократной. Последняя имела место у лиц, проходивших лечение раны отрицательным давлением. Подобная коррелирующая связь между применением ЛОД-системы и неоднократной сменой микрофлоры в процессе лечения была обнаружена и описана нами ранее у пациентов с имплантат-ассоциированной инфекцией позвоночника [38]. Возможно, дело заключается в самой системе ЛОД, длительное применение которой подавляет рост одной раневой микрофлоры и в то же время создаёт благоприятные условия для присоединения и пролиферации другой микрофлоры. С другой стороны, массивная бактериальная контаминация раны при открытой травме подразумевает обсеменение повреждённых тканей различными видами микроорганизмов c различной степенью колониеобразующих единиц (КОЕ). Вероятнее всего, из забранных биоптатов во время санации очага в первую очередь культивируются патогены, имеющие высокую степень нагрузки. В дальнейшем под действием этиотропной антибактериальной терапии выявленные изоляты элиминируются, в то время как в данных условиях начинают расти нечувствительные к выбранному препарату персистирующие бактерии с низкой степенью КОЕ. Таким образом, при очередной этапной некрэктомии оголяются новые участки, содержащие ранее не обнаруженные, но успевшие распространиться к этому времени патогены. Конечно же, не исключается версия присоединения внутрибольничной микрофлоры, в особенности этот риск высок, опять же, у пациентов с открытыми высокоэнергетическими травмами и обширными дефектами мягких тканей, возможно, из-за склонности к замедленному заживлению раны, нарушению защитного барьера кожи и многоэтапности проводимого хирургического лечения [9, 39].
Согласно литературным источникам, при рецидивирующих инфекциях стоит ожидать высева Грам(-) микроорганизмов и микст-инфекций [6], мы же наиболее часто выделяли Грам(+) микробы с хорошей антибиотикочувствительностью. В основном наблюдалась смена одной монокультуры на другую, в частности на MSSA, E. faecalis и Corynebacterium sp. Только в одном случае к первоначально идентифицированному P. mirabilis при реинфекции присоединилась Corynebacterium sp., которую через некоторое время заменил штамм MSSA. Смена микробов при рецидиве инфекции в нашем исследовании оказалась редким явлением, составив всего 2,9% от общего числа пациентов с положительным результатом посевов. Ещё более редким явлением (1,1%) была изменчивость состава микробов, выявленная у одного и того же пациента и в ходе лечения, и при обострении инфекции.
Если при рецидиве инфекции прослеживается некая тенденция к изменчивости микробного состава, то смена микроорганизмов в процессе лечения, особенно обширных мягкотканных дефектов, может быть абсолютно непредсказуемой. Пример одного из множества имеющихся вариантов — изначально верифицированный штамм A. baumannii (S-П) сменяется на двухкомпонентную ассоциацию, содержащую помимо данной бактерии ещё и K. pneumoniae (S-П), затем штамм A. baumannii сменяется на P. aeruginosa (S-П), далее сообщество становится трёхкомпонентным, состоящим из ампициллинчувствительного, но ванкомицинрезистентного E. gallinarum, K. pneumoniae (БЛРС) и тотально резистентного P. mirabilis. Также способно резко меняться и количество изолятов в биоплёнках, к примеру с 4 до 1 патогена либо с 1 до 3 или 4 (см. табл. 4), причём не исключена полная замена видового состава. Последнее возможно и в ассоциациях с сохранением численности бактерий.
Анализ научной литературы показал отсутствие публикаций, в которых была бы освещена тема изменчивости микрофлоры при ПАИ. Только в двух источниках — отечественном и зарубежном — авторы описывают обнаруженные различия в составе микробного пейзажа у небольшой когорты пациентов во время первой реконструктивной операции и при рецидиве инфекции [13, 15]. Так, В.С. Young и соавт. констатируют, что у 49 (39,2%) из 125 пациентов все микроорганизмы, выделенные при повторной операции, принадлежали к видам, отличным от тех, которые были культивированы при первой операции [13]. Также есть исследования, показавшие слабую корреляцию результатов посевов, взятых из свищей, с данными посевов интраоперационного материала. Сообщается о 20,8% случаев полного совпадения результатов, 31,3% случаев частичного совпадения и, наконец, о 45,8% наблюдений, когда микроорганизмы, обнаруженные в интраоперационных пробах и раневом отделяемом, не имели никаких совпадений [19]. S. aureus, будучи распространённым штаммом, чаще обнаруживается в отделяемом из свищей (59,1%) и в меньшей степени — из операционных биоптатов (55,9%). CoNS, стрептококки, энтерококки и Грам(-) микрофлора, наоборот, часто выделяются из операционных ран, чем из свищей [37]. Исходя из этого, не рекомендуется основывать лечение ПАИ исключительно на результатах раневых проб, кроме тех случаев, когда выполнение операции с забором образцов из глубоких слоёв тканей не представляется возможным [19].
Не исключены ситуации, когда результаты микробиологического исследования при наличии явных клинических симптомов воспаления и гистологически подтверждённого диагноза ПАИ могут быть отрицательными. Частота таких культуроотрицательных инфекций колеблется от 6,1 до 18,1% [12]. Наш показатель составил 29,6%, что в 1,6 раза выше верхнего порога значения приведённого интервала. Схожий с нами показатель — 27,7% — получили в своей работе С. Carbonell-Rosell и соавт., но эти данные были актуальны для периода с 2009 по 2014 г., к 2015–2019 гг. авторы отмечают его снижение до 19,4% (p=0,266) [14]. D. Graan и соавт., ссылаясь на работы S.H. Sheehy и соавт., сообщают о 28% отрицательных культурных образцов [9, 26], М. Dudareva и соавт. — о 32,3% [31], М. Rupp и соавт. — о 14% [12]. М. Depypere и соавт., напротив, указывают на низкую долю таких инфекций (3,6%, 7 случаев из 194 пациентов), акцентируя внимание на том, что у пятерых пациентов забору материала предшествовала двухнедельная антибиотикотерапия [20].
Культивирование интраоперационных биоптатов по сей день остаётся золотым стандартом обнаружения и идентификации возбудителей ПАИ [40]. Процент получения положительных результатов роста микрофлоры, согласно источникам, варьирует от 40 до 85. К примеру, в недавно проведённом многоцентровом исследовании этот параметр составил 50,8% [41], тогда как другое многоцентровое исследование показало 88% [42], а крупный травматологический центр Великобритании — 82,5% [19]. Несмотря на столь широкий размах результатов, положительный показатель по-прежнему остаётся далёким от удовлетворительного. Причина отсутствия роста микрофлоры многофакторна, начиная с предшествующей антибактериальной терапии, объёма хирургического вмешательства, выбора и количества биоптатов [41] и заканчивая низкой микробной нагрузкой материала, сложностью выращивания многих культур и микробными биоплёнками. Играет роль и ограниченность самого метода исследования в аспекте патогенетической диагностики костной инфекции — выращивание культуры, её верификация и определение антибиотикочувствительности, как правило, занимают 3–6 дней, а порой и 6 недель. Высокий уровень обнаружения традиционным культуральным микробиологическим методом сохраняется пока за штаммами S. aureus [40].
Встречаются исследования, где прослеживается причинно-следственная связь между получением отрицательных результатов посевов и поздним сроком развития инфекции [43] или её гематогенным характером [31]. Также в этих работах рассматривалась взаимосвязь между временем развития ПАИ и конкретным типом возбудителя. Считается, что высоковирулентные микроорганизмы, особенно S. aureus, являются частыми патогенами ранней инфекции, низковирулентные, такие как S. epidermidis, — отсроченной и поздней инфекции [3]. R. Kuehl и соавт. отмечают равную степень высеваемости S. aureus на всех сроках развития ПАИ, вдобавок выделяют представителей Enterobacteriaceae и S. epidermidis как вторые по распространённости бактерии при ранней и поздней инфекциях соответственно [30]. Об аналогичном результате относительно S. aureus сообщают и М. Depypere и соавт., которые к тому же обращают внимание на частую идентификацию Enterococcus при инфекциях с ранним началом [20]. Исследования же других авторов не показали каких-либо различий между возбудителями, выделенными при ранней, отсроченной или поздней ПАИ [6, 43, 44]. Кроме того, R.A. Corrigan и соавт. не выявили никаких доказательств связи между вирулентностью микробов и сроками развития инфекции. Учитывая разнящиеся данные, вопрос о том, являются ли типы патогенов, идентифицированные при ПАИ, зависимыми от временного фактора, всё ещё остаётся открытым [43]. Мы же, в свою очередь, не стали рассматривать выявленную микрофлору ПАИ относительно классификации Willenegger and Roth, поскольку в нашем исследовании были пациенты с достаточно длительным течением инфекции, пролеченные в других учреждениях (95,6%) и с неоднократными операциями повреждённого сегмента в анамнезе (60,7%). За это время исходная микрофлора могла неоднократно смениться, а результаты первичных посевов, от которых можно было бы оттолкнуться, пациенты, как правило, не помнят, вследствие чего полученные данные и их интерпретация были бы неточными. Тем более, что доказательства для такого чёткого, основанного на времени разделения ПАИ с целью облегчения выбора метода хирургического лечения скудны. Вдобавок время до начала развития ПАИ — не единственный фактор, влияющий на хирургическую стратегию [20].
Хирургическое лечение и антибактериальная терапия — два краеугольных камня в лечении ПАИ, и оба важны, поскольку успешный исход зависит от каждого из них и требует мультидисциплинарного подхода с привлечением хирургов-ортопедов, микробиологов и клинических фармакологов. На сегодняшний день существует несколько вариантов хирургического лечения, выбор которых зависит от сроков развития ПАИ и степени консолидации перелома. Из имеющихся алгоритмов процедура DAIR (Debridement, antibiotics and implant retention), то есть попытка ретенции металлоконструкции, возможна в случае раннего нагноения области оперативного вмешательства; полное удаление имплантата — в случае сращения перелома; одно- или многоэтапное лечение с заменой первичного фиксирующего устройства на другое, как правило, на аппарат внешней фиксации, имеет место быть при длительном течении инфекции с замедленной консолидацией перелома или при формировании ложного сустава. Во всех трёх алгоритмах для успешного исхода лечения необходимо соблюдать условие тщательной санации очага с удалением всех патологических и нежизнеспособных тканей, что способствует механическому разрушению микробной биоплёнки на фрагменты и повышает вероятность высева возбудителя инфекции. К тому же фрагментированная хирургическим путём микробная биоплёнка более восприимчива к действию антибиотиков. Поскольку в подавляющем большинстве случаев ПАИ переходит в хроническую стадию, наиболее распространённым алгоритмом терапии является одно- или многоэтапное лечение с заменой металлоконструкции. При этом в приоритете — метод биомеханически обоснованного чрескостного остеосинтеза, позволяющий добиться стабильной фиксации костных отломков на фоне инфекции, что является немаловажным. В противном случае отсутствие стабильности перелома способствует постоянной подвижности костных отломков, постоянному травмированию окружающих мягких тканей, нарушению васкуляризации в области перелома и, как следствие, вызывает остеолизис — всё это в совокупности создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов. Последнее повышает степень выраженности воспалительного процесса, что, в свою очередь, усиливает лизис костной ткани и вызывает постепенное расшатывание фиксирующего имплантата — так порочный круг нестабильности замыкается [45]. Таким образом, концепция биомеханической стабилизации отломков кости не только играет решающую роль в достижении консолидации перелома, но и, наряду с антибактериальной терапией, участвует в подавлении инфекции.
Правильно подобранная антибактериальная терапия повышает успешность выполненного хирургического лечения, но для этого необходимо выявить возбудителя инфекции. Окончательная идентификация микроба требует определённого времени, а антибиотик необходимо назначить уже в день операции. Пока ожидаются результаты бактериального исследования, которые к тому же могут оказаться отрицательными, проводится эмпирическая терапия препаратами широкого спектра действия. Именно в этом случае знание микробного профиля при ПАИ поможет верно предположить потенциальных возбудителей инфекции и позволит рационально подойти к антибиотикотерапии, тем самым сузив спектр препаратов выбора.
Микрофлора ПАИ многообразна и видоизменчива и может различаться не только в разных географических зонах, но и в разных лечебных учреждениях одной страны. Следовательно, эмпирическая схема целесообразна для одного центра и нецелесообразна для другого, поэтому проведение ежегодного микробиологического мониторинга ведущих возбудителей с определением их антибиотикочувствительности следует осуществлять в каждом лечебном учреждении. Постоянный микробиологический мониторинг, как показало наше исследование, требуется и в процессе лечения когорты пациентов с открытым инфицированным переломом кости, сопровождающимся обширным мягкотканным дефектом. Это позволит вовремя выявить произошедшие изменения в составе первоначальной микрофлоры, своевременно откорректировать антибактериальную терапию и увеличит шансы на скорое заживление раны и консолидацию перелома к сроку в условиях биомеханически обоснованного чрескостного остеосинтеза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ведущим возбудителям ПАИ относятся S. aureus (36,9%), S. epidermidis (10%), K. pneumoniae (9,1%), E. faecalis (7,8%), A. baumannii (6,1%), P. aeruginosa (4,3%), E. cloacae и Corynebacterium (по 3,5% соответственно). Несмотря на преобладание S. aureus на всём протяжении исследования, за последние годы отмечается тенденция к росту частоты высеваемости E. faecalis, MRSE, Corynebacterium sp. и представителей семейства Enterobacteriaceae (K. pneumoniae, E. cloacae и P. mirabilis). ПАИ по своей природе является в большей степени мономикробной (76,4%), чем полимикробной (23,6%) инфекцией. При этом соотношение в мономикробной ПАИ грамположительных патогенов с грамотрицательными составляет 4:1. Наиболее склонными к изолированному существованию микроорганизмами оказались MSSA, MSSE и MRSE, а наиболее подверженными совместному существованию в сообществах — E. faecalis, Corynebacterium sp., MRSA и практически все идентифицированные грамотрицательные микробы, в особенности E. cloacae, E. coli, P. mirabilis и A. baumannii. Микрофлора при ПАИ способна меняться не только с течением времени — смена бактерий может произойти и в процессе лечения, в первую очередь это касается пациентов с открытыми переломами длинных костей, сопровождающимися обширными мягкотканными дефектами. Следовательно, для правильного составления схемы эмпирической антибактериальной терапии и своевременной её коррекции важно проведение микробиологического контроля не только ежегодно, но и на каждом этапе лечения ПАИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Все авторы одобрили финальную версию перед публикацией, а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов (личных, профессиональных или финансовых), связанных с третьими лицами (коммерческими, некоммерческими, частными), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи, а также иных отношений, деятельности и интересов за последние три года, о которых необходимо сообщить.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, данные).
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
Информированное согласие на публикацию. Авторами было получено письменное согласие пациентов на проведение исследования и публикацию результатов без идентификации личности.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: All the authors approved the final version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests (personal, professional, or financial) related to for-profit, not-for-profit, or private third parties whose interests may be affected by the content of the article, as well as no other relationships, activities, or interests in the past three years to disclose.
Statement of originality: No previously published material (text, or data) was used in this article.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used when preparing this article.
Provenance and peer review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
Consent for publication: Written informed consent was obtained from the patients for the participation in the study and publication of the results without personal identification.
About the authors
Archil V. Tsiskarashvili
Priorov Central Research Institute of Traumatology and Orthopedics
Author for correspondence.
Email: armed05@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1721-282X
SPIN-code: 2312-1002
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, 10 Priorova st, Moscow, 127299Regina E. Melikova
Priorov Central Research Institute of Traumatology and Orthopedics
Email: regina-melikova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5283-7078
SPIN-code: 8288-0256
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, 10 Priorova st, Moscow, 127299Anton G. Nazarenko
Priorov Central Research Institute of Traumatology and Orthopedics
Email: nazarenkoag@cito-priorov.ru
ORCID iD: 0000-0003-1314-2887
SPIN-code: 1402-5186
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor of RAS
Russian Federation, 10 Priorova st, Moscow, 127299References
- Giannitsioti E, Salles MJ, Mavrogenis A, et al.; The Esgiai Collaborators Study Group. Osteosynthesis-associated infection of the lower limbs by multidrug-resistant and extensively drug-resistant Gram-negative bacteria: a multicentre cohort study. J Bone Jt Infect. 2022;7(6):279–288. doi: 10.5194/jbji-7-279-2022
- Rupp M, Walter N, Popp D, et al. Multidisciplinary Treatment of Fracture-Related Infection Has a Positive Impact on Clinical Outcome-A Retrospective Case Control Study at a Tertiary Referral Center. Antibiotics (Basel). 2023;12(2):230. doi: 10.3390/antibiotics12020230
- Metsemakers WJ, Kuehl R, Moriarty TF, et al. Infection after fracture fixation: Current surgical and microbiological concepts. Injury. 2018;49(3):511–522. doi: 10.1016/j.injury.2016.09.019
- Mthethwa PG, Marais LC. The microbiology of chronic osteomyelitis in a developing world setting. SA Orthopaedic Journal. 2017;16(2):39–45. doi: 10.17159/2309-8309/2017/v16n2a4
- Zhang Z, Liu P, Wang W, et al. Epidemiology and Drug Resistance of Fracture-Related Infection of the Long Bones of the Extremities: A Retrospective Study at the Largest Trauma Center in Southwest China. Front Microbiol. 2022;13:923735. doi: 10.3389/fmicb.2022.923735
- Baertl S, Walter N, Engelstaedter U, et al. What Is the Most Effective Empirical Antibiotic Treatment for Early, Delayed, and Late Fracture-Related Infections? Antibiotics (Basel). 2022;11(3):287. doi: 10.3390/antibiotics11030287
- Muthukrishnan G, Masters EA, Daiss JL, Schwarz EM. Mechanisms of Immune Evasion and Bone Tissue Colonization That Make Staphylococcus aureus the Primary Pathogen in Osteomyelitis. Curr Osteoporos Rep. 2019;17(6):395–404. doi: 10.1007/s11914-019-00548-4
- Ren Y, Liu L, Sun D, et al. Epidemiological updates of post-traumatic related limb osteomyelitis in china: a 10 years multicentre cohort study. Int J Surg. 2023;109(9):2721–2731. doi: 10.1097/JS9.0000000000000502
- Graan D, Balogh ZJ. Microbiology of fracture related infections. J Orthop Surg (Hong Kong). 2022;30(3):10225536221118512. doi: 10.1177/10225536221118512
- Corrigan R, Sliepen J, Rentenaar RJ, et al. The effect of guideline-based antimicrobial therapy on the outcome of fracture-related infections (EAT ПАИ Study). J Infect. 2023;86(3):227–232. doi: 10.1016/j.jinf.2023.01.028
- Pliska NN. Pseudomonas Aeruginosa as the Main Causative Agent of Osteomyelitis and its Susceptibility to Antibiotics. Drug Res (Stuttg). 2020;70(6):280–285. doi: 10.1055/a-1150-2372
- Rupp M, Baertl S, Walter N, et al. Is There a Difference in Microbiological Epidemiology and Effective Empiric Antimicrobial Therapy Comparing Fracture-Related Infection and Periprosthetic Jt. Infection? A Retrospective Comparative Study. Antibiotics. 2021;10(8):921. doi: 10.3390/antibiotics10080921
- Young BC, Dudareva M, Vicentine MP, et al. Microbial Persistence, Replacement and Local Antimicrobial Therapy in Recurrent Bone and Joint Infection. Antibiotics (Basel). 2023;12(4):708. doi: 10.3390/antibiotics12040708
- Carbonell-Rosell C, Lakhani K, Lung M, et al. Etiology and antimicrobial resistance patterns in chronic osteomyelitis of the tibia: an 11-year clinical experience. Arch Orthop Trauma Surg. 2024;144(2):773–781. doi: 10.1007/s00402-023-05095-3
- Burnashov SI, Shipitsyna IV, Osipova EV. Microflora of surgical wounds and fistulas in patients with chronic osteomyelitis of the tibia before reconstructive treatment, in case of recurrence of infection. Clinical Laboratory Diagnostics. 2019;64(10):627–631. doi: 10.18821/0869-2084-2019-64-10-627-631 EDN: FONHNW
- Shipitsyna IV, Osipova EV. Role of anaerobic microflora in the etiology of chronic osteomyelitis. Clinical Laboratory Diagnostics. 2024;69(2):92–96. doi: 10.51620/0869-2084-2024-69-2-92-96 EDN: GVYMGO
- Shenoy PA, Vishwanath S, Bhat SN, Mukhopadhyay C, Chawla K. Microbiological profile of chronic osteomyelitis with special reference to anaerobic osteomyelitis in a tertiary care hospital of coastal Karnataka. Trop Doct. 2020;50(3):198–202. doi: 10.1177/0049475520921283
- Wang B, Xiao X, Zhang J, et al. Epidemiology and microbiology of fracture-related infection: a multicenter study in Northeast China. J Orthop Surg Res. 2021;16(1):490. doi: 10.1186/s13018-021-02629-6
- Patel KH, Gill LI, Tissingh EK, et al. Microbiological Profile of Fracture Related Infection at a UK Major Trauma Centre. Antibiotics (Basel). 2023;12(9):1358. doi: 10.3390/antibiotics12091358
- Depypere M, Morgenstern M, Kuehl R, et al. Pathogenesis and management of fracture-related infection. Clin Microbiol Infect. 2020;26(5):572–578. doi: 10.1016/j.cmi.2019.08.006
- Tsiskarashvili AV, Zhadin AV, Kuzmenkov KA, Bukhtin KM, Melikova RE. Biomechanically validated transosseus fixation in patients with femur pseudarthrosis complicated by chronic osteomyelitis. N.N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics. 2018;(3–4):71–78. doi: 10.17116/vto201803-04171 EDN: XDXVSX
- Tsiskarashvili AV, Melikova RE, Zhadin AV, Kuzmenkov KA. Biomechanical evidence-based transosseous osteosynthesis in treatment of humerus fractures complicated by chronic osteomyelitis and consequences. N.N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics. 2020;27(4):28–40. doi: 10.17816/vto57136 EDN: CWGWWM
- Determination of the sensitivity of microorganisms to antimicrobial drugs: recommendations: version 2021-01. Available from: antibiotic.ru›files/321/clrec-dsma2021.pdf (In Russ.).
- Vanvelk N, Van Lieshout EMM, Onsea J, et al. Diagnosis of fracture-related infection in patients without clinical confirmatory criteria: an international retrospective cohort study. J Bone Jt Infect. 2023;8(2):133–142. doi: 10.5194/jbji-8-133-2023
- Yang L, Feng J, Liu J, et al. Pathogen identification in 84 Patients with post-traumatic osteomyelitis after limb fractures. Ann Palliat Med. 2020;9(2):451–458. doi: 10.21037/apm.2020.03.29
- Sheehy SH, Atkins BA, Bejon P, et al. The microbiology of chronic osteomyelitis: prevalence of resistance to common empirical anti-microbial regimens. J Infect. 2010;60(5):338–43. doi: 10.1016/j.jinf.2010.03.006
- Vicenti G, Buono C, Albano F, et al. Early Management for Fracture-Related Infection: A Literature Review. Healthcare (Basel). 2024;12(13):1306. doi: 10.3390/healthcare12131306
- Hussain SA, Walters S, Ahluwalia AK, Trompeter A. Fracture-related infections. Br J Hosp Med (Lond). 2023;84(8):1–10. doi: 10.12968/hmed.2022.0545
- Peng J, Ren Y, He W, et al. Epidemiological, Clinical and Microbiological Characteristics of Patients with Post-Traumatic Osteomyelitis of Limb Fractures in Southwest China: A Hospital-Based Study. J Bone Jt Infect. 2017;2(3):149–153. doi: 10.7150/jbji.20002
- Kuehl R, Tschudin-Sutter S, Morgenstern M, et al. Time-dependent differences in management and microbiology of orthopaedic internal fixation-associated infections: An observational prospective study with 229 patients. Clin Microbiol Infect. 2019;25(1):76–81. doi: 10.1016/j.cmi.2018.03.040
- Dudareva M, Hotchen AJ, Ferguson J, et al. The microbiology of chronic osteomyelitis: Changes over ten years. J Infect. 2019;79(3):189–198. doi: 10.1016/j.jinf.2019.07.006
- Jorge LS, Fucuta PS, Oliveira MGL, et al. Outcomes and Risk Factors for Polymicrobial Posttraumatic Osteomyelitis. J Bone Jt Infect. 2018;3(1):20–26. doi: 10.7150/jbji.22566
- Rupp M, Walter N, Bärtl S, et al. Fracture-Related Infection-Epidemiology, Etiology, Diagnosis, Prevention, and Treatment. Dtsch Arztebl Int. 2024;121(1):17–24. doi: 10.3238/arztebl.m2023.0233
- Shipitsyna I, Osipova E, Leonchuk D, Sudnitsyn A. Monitoring of gram-negative bacteria and antibiotic resistance in osteomyelitis. Genij Ortopedii. 2020;26(4):544–547. doi: 10.18019/1028-4427-2020-26-4-544-547 EDN: EKBOTN
- Shipitsyna IV, Osipova EV. Analysis of the qualitative and quantitative community composition of bacteria isolated from the purulent focus in patients with chronic osteomyelitis over a three year period. Genij Ortopedii. 2022;28(6):788–793. doi: 10.18019/1028-4427-2022-28-6-788-793 EDN: DWFHDG
- Gitajn I, Werth P, O’Toole RV, et al. Microbial Interspecies Associations in Fracture-Related Infection. J Orthop Trauma. 2022;36(6):309–316. doi: 10.1097/BOT.0000000000002314
- Rosova LV, Godovykh NV. The microbiological study of purulent focus of inflammation in patients with chronic osteomyelitis of long bones. Clinical Laboratory Diagnostics. 2016;61(10):727–730. doi: 10.18821/0869-2084-2016-61-10-727-730 EDN: XBFRYT
- Tsiskarashvili AV, Gorbatyuk DS, Melikova RE, et al. Microbiological spectrum of causative agents of implant-associated infection in the treatment of complications of transpedicular fixation of the spine using the negative pressure method. Russian Journal of Spine Surgery. 2022;19(3):77–87. doi: 10.14531/ss2022.3.77-87 EDN: TGAPAP
- Urish KL, Cassat JE. Staphylococcus aureus Osteomyelitis: Bone, Bugs, and Surgery. Infect Immun. 2020;88(7):e00932–19. doi: 10.1128/IAI.00932-19
- Zhang K, Bai YZ, Liu C, et al. Composition of pathogenic microorganism in chronic osteomyelitis based on metagenomic sequencing and its application value in etiological diagnosis. BMC Microbiol. 2023;23(1):313. doi: 10.1186/s12866-023-03046-x
- He SY, Yu B, Jiang N. Current Concepts of Fracture-Related Infection. Int J Clin Pract. 2023;2023:4839701. doi: 10.1155/2023/4839701
- Onsea J, Van Lieshout EMM, Zalavras C, et al. Validation of the diagnostic criteria of the consensus definition of fracture-related infection. Injury. 2022;53(6):1867–1879. doi: 10.1016/j.injury.2022.03.024
- Corrigan RA, Sliepen J, Dudareva M, et al. Causative Pathogens Do Not Differ between Early, Delayed or Late Fracture-Related Infections. Antibiotics (Basel). 2022;11(7):943. doi: 10.3390/antibiotics11070943
- Walter N, Baertl S, Engelstaedter U, et al. Letter in response to article in journal of infection: “The microbiology of chronic osteomyelitis: Changes over ten years”. J Infect. 2021;83(6):709–737. doi: 10.1016/j.jinf.2021.09.006
- Baertl S, Rupp M, Alt V. The DAIR-procedure in fracture-related infection-When and how. Injury. 2024;55 Suppl 6:111977. doi: 10.1016/j.injury.2024.111977
Supplementary files