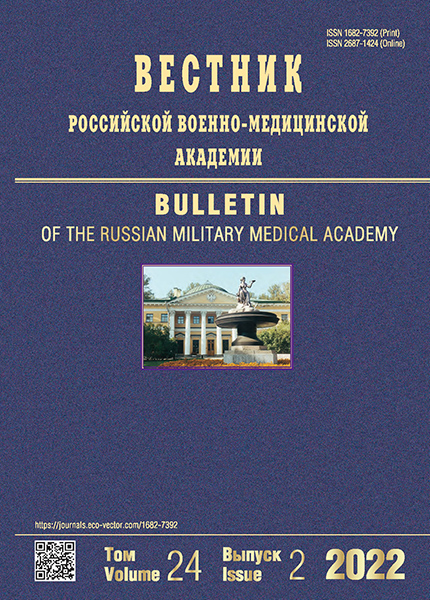The system of training of pedagogical and scientific personnel during the leadership of the department of general and military epidemiology by academician V.D. Belyakov (to the 100th anniversary of the birth of academician V.D. Belyakov)
- Authors: Belov A.B.1, Ishkildin M.I.1, Lantsov E.V.1
-
Affiliations:
- Military Medical Academy of S.M. Kirov
- Issue: Vol 24, No 2 (2022)
- Pages: 411-418
- Section: History of medicine
- Submitted: 21.04.2022
- Accepted: 26.04.2022
- Published: 13.07.2022
- URL: https://journals.eco-vector.com/1682-7392/article/view/106568
- DOI: https://doi.org/10.17816/brmma106568
- ID: 106568
Cite item
Full Text
Abstract
On the basis of generalization and analysis of published scientific works and memoirs of academician V.D. Belyakov’s contemporaries, the main stages of his scientific and pedagogical activity as head of the Department of General and Military Epidemiology of the Military Medical Academy named after S.M. Kirov are considered. It is shown how, under the leadership of the activities of the department staff by Vitaly Dmitrievich Belyakov, the training of the teaching staff was set, ensuring continuous professional development and the ascent of employees along the hierarchical service and scientific “ladder.” The system of training its own personnel worked correctly and effectively within the department, and some such systems continue to work even now, preserving the best traditions laid down in the era of V.D. Belyakov to maintain the reputation of the department created for decades. Academician Vitaly Dmitrievich Belyakov, an outstanding military epidemiologist, scientist, and teacher, Major General of the medical service, who consistently headed the epidemiology departments of two leading educational medical institutions of the country in St. Petersburg and Moscow, had a great influence on the development of not only military epidemiology but also domestic medicine in general. Having developed, with his students at the S.M. Kirov Military Medical Academy, the theory of internal regulation of parasitic systems, recognized as the biological foundation of the epidemiology of infectious diseases, he reformatted the previous theory of the epidemic process into the paradigm of population pathology of biomedical sciences. He was one of the first to consider epidemiology as a general medical diagnostic and preventive discipline, actively introducing epidemiological research methods into clinical medicine and public health, as well as into medical education at all levels at the I.M. Sechenov Moscow Medical Academy. He can be considered the founder of the methodology of epidemiological diagnostics, who extended it to population non-infectious pathology, and the founder of the original and effective concept of epidemiological surveillance. In addition, the system of training and management of pedagogical and scientific personnel created by V.D. Belyakov deserves attention.
Full Text
Общеизвестно, что академик Академии медицинских наук Союза Советских Социалистических Республик В.Д. Беляков в течение всей своей научной и практической деятельности на поприще эпидемиологии проявил себя выдающимся руководителем двух крупнейших учебно-педагогических коллективов, считавшихся ведущими центрами страны по подготовке врачей-профилактиков. С 1964 по 1982 г. он занимал должность начальника кафедры общей и военной эпидемиологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА), а с 1982 г. и до конца жизни заведовал кафедрой эпидемиологии 1-го Московского государственного медицинского института им. И.М. Мечникова (ныне кафедра эпидемиологии и доказательной медицины одноименного медицинского университета).
Рис. Академик В.Д. Беляков
Fig. Academician V.D. Belyakov
Московский период его научно-педагогической деятельности подробно освещен в воспоминаниях его сотрудников в соответствующей литературе [1–6]. Наша же задача — показать, используя многолетний личный опыт общения с В.Д. Беляковым в служебной обстановке, как при его руководстве деятельностью коллектива кафедры общей и военной эпидемиологии была поставлена внутрикафедральная подготовка профессорско-преподавательского состава, обеспечивающая непрерывное повышение квалификации и восхождение сотрудников по иерархической служебной и научной «лестнице». В прежние времена это было максимально связано с личными профессиональными качествами людей и прохождением ими всех положенных этапов службы с положительными результатами [7, 8].
Текущая деятельность преподавательского состава в академии, как и в других учебных заведениях, всегда складывалась из внекафедральных мероприятий и внутрикафедральной работы. Внекафедральный аспект реализовывался путем приобретения и совершенствования знаний и навыков преподавателей, который осуществлялся в нескольких видах. Для этой важной функции такого образовательного учреждения, как академия, предназначались адъюнктура, ординатура, курсы подготовки молодых преподавателей и доцентов по педагогике и психологии, специальная подготовка постоянного состава академии, учения, различные сборы и другие виды обучения [9, 10]. Занятия в рамках этих мероприятий включались в план работы академии, который организовывался и контролировался учебным и другими отделами управления академии. Однако основой обучения все равно оставались самостоятельная работа по освоению преподавательского дела на рабочих местах путем восприятия достигнутых успехов своих коллег и руководителей и приобретения личного опыта преподавания, изучения литературы и ведения научной и методической работы. Эту систему обучения правильнее было бы трактовать как «внутрикафедральный институт подготовки преподавательского и научно-исследовательского состава». Конечно, он сложился не только при руководстве кафедрой В.Д. Беляковым, а постепенно формировался в прежние времена, но именно при нем эта традиционная система обрела совершенство и работала безотказно и эффективно [8, 11].
Подготовка преподавательского и научно-исследовательского состава всегда была тесно связана с повседневной деятельностью академии и кафедр. На всех кафедрах в той или иной форме всегда существовало планирование деятельности кафедрального коллектива и реализовывались соответствующие планы по основным направлениям работы [9, 10]. Виталий Дмитриевич старался обсуждать с сотрудниками актуальные вопросы эпидемиологии, пользуясь диалектико-материалистическим подходом, которым он в совершенстве владел применительно к медицинским проблемам [11–13]. Но гораздо больше пользы для молодых преподавателей и ученых было от кафедральных совещаний, которые обычно проводились в среднем 2 раза в месяц. В.Д. Беляков придавал им большое воспитательное значение и считал школой освоения и совершенствования знаний и навыков по специальности. На них доводились до личного состава и раздавались задания с публичным озвучиванием ответственных лиц и сроков исполнения, будь то темы научно-исследовательских работ (НИР), внеплановые задания, учебно-методические документы, доклады на сборах или какие-либо дополнительные обязанности и нагрузки. Эта гласность позволяла исключить кривотолки по поводу справедливости распределения любых видов работ. При этом оставалась возможность при необходимости и для пользы дела перераспределить исполнителей. Но такие решения принимались по ходу дальнейшей работы, и это не было правилом: нужны были веские обоснования и согласования заинтересованных лиц. Все преподаватели имели определенные направления деятельности в соответствии с тематикой, рекомендованной В.Д. Беляковым, и отражали ее в преподавании, научной, методической и прочих работах. Это позволяло им углубленно изучать избранные проблемы и становиться специалистом в этой конкретной области. Виталий Дмитриевич обладал удивительной способностью (иногда на уровне интуиции) прозорливо угадывать интересы сотрудников и в таких случаях обязательно учитывал их личный практический и научный опыт. В интересах дела и реализации своих планов он буквально вытягивал из исполнителя все самое лучшее, на что тот был способен, и использовал результаты для продвижения в практику и в развитие научно-исследовательского процесса [3].
Кафедральные совещания обычно были продолжительными по времени и длились иногда по 3–4 ч. В.Д. Беляков придерживался известного принципа императора Петра I и всегда назначал докладчиков, рецензентов, выступающих в обсуждениях, внимательно слушал и, видимо, формировал свое мнение о способности преподавателя дискутировать, владеть терминологией, генерировать полезные идеи, демонстрировать знание предмета и степень освоения специальности. Эти оценки учитывались в дальнейшем при распределении обязанностей на кафедре и продвижении по службе. Поэтому роль кафедральных совещаний в становлении преподавателей, как показала жизнь, на самом деле была велика, несмотря на то что они многим казались слишком затяжными. В.Д. Беляков считал, что оппозиция полезна для дела, пока она действует конструктивно [1, 8].
Контроль соблюдения военной и производственной дисциплины, выполнения функциональных обязанностей и исполнения заданий личным составом кафедры осуществлял заместитель начальника кафедры доцент Борис Александрович Кожевников. Он был опытнейшим специалистом, прошедшим все возможные ступени карьерного роста на кафедре — от младшего до старшего преподавателя, и от младшего до старшего научного сотрудника. Поэтому, как и положено заместителю начальника кафедры, он отлично знал способности каждого сотрудника и его основное направление деятельности, заранее прорабатывал эти вопросы и предлагал кандидатуры исполнителей, исходя из их деловых качеств и личных предпочтений. Жесткий контроль способствовал тому, что в коллективе вынуждены были интенсивно активно работать даже те, кто попал в состав, не имея должной квалификации или мотивации, минуя отбор самой кафедры. Поскольку они порой были недостаточно компетентны в специальности, их обычно привлекали к решению второстепенных задач или организационных вопросов. Сам Борис Александрович был образцом исполнительности, корректности, но и требовательности, нес большую преподавательскую и научно-исследовательскую нагрузку [7].
Отдельные задания, нередко не по профилю и трудновыполнимые, распределялись по возможности равномерно, чтобы они не выпадали постоянно одним и тем же людям. Это также касалось различных дежурств, полевых занятий, учений, некоторых командировок. Постоянно велся наглядный учет таких нагрузок, и в учебной части можно было эти сведения увидеть и проверить. Б.А. Кожевников нередко выступал в качестве третейского судьи при решении спорных вопросов, которые иногда возникали среди представителей старшего звена сотрудников по поводу различных нагрузок, и старался соблюдать справедливость. Надо сказать, что он мог фактически руководить кафедрой даже при длительном отсутствии В.Д. Белякова, поскольку умел рационально решать любые вопросы деятельности и жизни коллектива. Поэтому он в течение значительного времени исполнял обязанности начальника кафедры в 1982–1983 гг., после отъезда Виталия Дмитриевича в Москву. Эти требования тогда предъявлялись ко всем таким должностным лицам ВМА, которые реализовывали стратегию функционирования кафедры, разрабатываемую руководителем и наиболее компетентными сотрудниками [1, 8, 14].
Любая отработанная документация проходила через Б.А. Кожевникова, и он совместно с исполнителями ее корректировал таким образом, что те получали хороший урок на будущее. Это особенно касалось работы начальника учебной части и ответственного за НИР кафедры. Упомянутые внештатные должности сами по себе были хорошей школой, воспитывали ответственность, аккуратность, культуру исполнения множества различных документов на всех уровнях, инициативу и другие навыки, необходимые в специальности. Функции помощников начальника кафедры по данным разделам работы выполняли перспективные и уже достаточно опытные преподаватели, иногда по многу лет. В идеале, конечно, желательно, чтобы преподавателей, прошедших эти школы, было бы больше, но это не всегда возможно. В принципе, несколько лет вполне достаточно для освоения такой работы и получения опыта, а отдельные сложные вопросы решало только командование кафедры. К тому же обычно выделялся помощник, способный в случае необходимости заменить отсутствующего ответственного лица [7].
В академии было заведено, что в начале каждого учебного года во время недельных сборов преподавательского состава подводились итоги предшествовавшего периода [10]. На кафедре это проводилось неформально. Вывешивалась подготовленная художником таблица, на которой каждый мог увидеть итоги своей работы и труда коллег, сравнить результаты. Почасовая нагрузка дифференцировалась на звонковые часы (лекции, практические занятия и проч.) и «незвонковые» (совмещенные группы, самостоятельная работа учащихся, самоподготовка под руководством преподавателя и проч.). Часть «незвонковых» часов шла в резервный фонд, а в конце учебного года они распределялись по специально разработанной системе квот. Это делалось с целью исключения обид, чтобы не было так: у одного преобладают звонковые часы, а у другого — «незвонковые». Кроме того, длительные командировки, сложные комплексные НИР или особые задания иногда не давали возможность набрать необходимую учебную нагрузку. Такой прием был введен и потому, что подобные прецеденты раньше случались и вызывали справедливое недовольство исполнителей. Была даже разработана балльная система оценки результатов труда преподавателей, но она после ухода В.Д. Белякова в Москву и назначения нового начальника кафедры больше никогда не использовалась. Эти попытки оценки труда сотрудников имели цель инициировать на кафедре «здоровую» соревновательность и тоже были направлены на повышение профессионального уровня в работе. И надо сказать, это действовало, хотя стимулы были преимущественно морального плана [15].
Необходимо пояснить, что учебные нагрузки в 1970–1980-е гг. были запредельными: количество реально выполненных 900–1200 ч (из них звонковых — 80–90%) было обычным делом для преподавателя, ведущего занятия на факультете подготовки врачей (ФПВ). Это почти в 1,5 раза перекрывало существующие тогда нормы. Лекторы вырабатывали по 500–600 ч, правда, часть из них приходилась на сдвоенные группы из-за частой нехватки классов и аудиторий, что было «головной болью» учебной части. Была даже система самоподготовки слушателей ФПВ и офицеров-эпидемиологов под руководством дежурного преподавателя. В то время работали по 6-дневному расписанию, и ни о каких-то библиотечных днях или «отгулах» речи не могло быть. Нетрудно представить, как сложно было составлять расписание занятий не только на месяц, но даже на неделю вперед; оно все время корректировалось. Графики занятий были напряженными, учебная дисциплина неукоснительно соблюдалась и контролировалась заместителем начальника кафедры и учебной частью, которая ежемесячно подводила итоги и уравнивала нагрузку преподавателей, учитывая общую занятость другими работами. Все положенные нормативы по преподаванию с лихвой выбирались, а те, кто по служебной необходимости не мог их полностью выполнить, получали необходимую добавку из накопленного резерва часов. Даже преподаватели-пенсионеры, работающие на полставки, реально давали гораздо больший практический выход, чем было регламентировано, благодаря своему опыту, мастерству и добросовестности [7, 8, 10].
Также много времени отводилось на методическую работу. На кафедре занималось огромное количество учебных групп (до 40 и более в семестр) — от курсантов ФПВ до главных эпидемиологов округов и от офицеров запаса до преподавателей медвузов, курсантов и слушателей-офицеров иностранных армий (нередко с переводчиком), вплоть до высшего командного состава. Особенно много было непрофильных групп: через кафедру проходили обучающиеся почти со всех остальных кафедр академии, в том числе клинического профиля. Преподаватели были закреплены за каждым факультетом, потоком или даже группой определенной специализации и обязаны были периодически обновлять учебные программы, тематические планы и другую документацию, особенно в периоды подготовки к внутриакадемическим и внешним проверкам. Эту работу планировала учебная часть и следила за сроками и качеством обновления документации. Кроме того, преподаватели отвечали за тематические классы и наглядные пособия, которые нужно было периодически обновлять, используя внутренние резервы и мастерские академии [7, 8].
При отсутствии в то время компьютеров все учебные и методические материалы печатались машинисткой или самими преподавателями, а иногда писались от руки. Учебные группы имели разную часовую нагрузку (от нескольких часов до многих сотен), и в каждом методическом документе надо было отразить специфику преподавания предмета применительно к специальности обучающихся; упростить методическую работу путем тиражирования содержания подобных документов было практически невозможно. Поэтому разработка и переработка документов была весьма трудоемким делом и занимала больше времени, чем официально отводилось на нее. Надо сказать, что эта повседневная, но тем не менее творческая работа на самом деле была полезной в становлении преподавателя, так как помогала освоить терминологию и понять структуру и содержание предмета, творчески применить знания к специфике обучения специалистов любых профессий. Кроме того, такая работа, безусловно, расширяла кругозор, и, по опыту, ее лучше и проще было проводить добросовестно и неформально. Она тоже подлежала распределению среди сотрудников, а по исполнению крупные документы подвергались рецензированию и обсуждению коллектива на кафедральных совещаниях. В какой-то степени к методической работе можно отнести и руководство научными кружками курсантов и слушателей, а также курирование исполнителей опытно-конструкторских работ (ОКР), кружковцев, исполнителей и соискателей, которые закреплялись за многими преподавателями-кураторами.
Научно-исследовательская работа всегда являлась третьей важнейшей составной частью деятельности кафедры [7]. Она жестко регламентировалась по срокам, и за нее строго спрашивали в случае задержки представления материалов. У каждого преподавателя (научного сотрудника) было по несколько тем НИР, которые требовали значительного времени исполнения. Общее количество НИР достигало 50–60, были и крупные комплексные темы. Старшие опытные товарищи выполняли НИР в качестве ответственных исполнителей, младшие — соисполнителей или исполнителей небольших тем. На кафедральных совещаниях в обязательном порядке заслушивались руководители (исполнители) НИР, выступали рецензенты, заранее изучившие отчеты, выносились рекомендации и заключения. То же самое делалось при написании учебных пособий, руководящих документов, статей в журналы. Особое внимание было к материалам, которые могли получить широкий резонанс со стороны Главного военно-медицинского управления Министерства обороны (ГВМУ МО) или эпидемиологической общественности. Да и собственная работа над диссертационными темами обязательно имела не только научно-практический выход, но и дидактический аспект. Защита диссертации венчала становление преподавателя как исследователя, способного вести самостоятельный научный поиск, и демонстрировала умение докладывать и дискутировать. К этому надо было долго готовиться и тренироваться для апробации, а затем и защиты проекта.
На кафедре была замечательная школа, позволяющая воспринять опыт лучших преподавателей. Помимо обязательных посещений курса практических занятий перед выходом на собственную арену преподавания, необходимо было прослушать лекционные курсы начальника кафедры и доцентов. В.Д. Беляков был великолепным лектором и, несмотря на огромную занятость, считал своим долгом читать основополагающие лекции на I, VI факультетах врачей и курсантам 4–5-х курсов ФПВ. Он подчеркивал, что никто не имеет права под предлогом занятости игнорировать преподавание. Общее расписание составлялось учебной частью, корректировалось Б.А. Кожевниковым и утверждалось начальником кафедры. Кроме того, начальник учебной части ежемесячно приносил начальнику кафедры проект расписания для него из 8–10 лекций, и он выбирал несколько тем из этого списка с учетом графика своих командировок в ГВМУ МО, Академию наук, в округа или за границу. К лекции подолгу готовился, раздумывая в кабинете, увешанном отобранными таблицами, и дымя неизменной сигаретой. Лекции на одну и ту же тему были всегда разные, хотя суть была одна; обязательно давались новые научные сведения и рекомендации. В.Д. Беляков считал, что лекция — это всегда экспромт [16], и это позже многие поняли, став лекторами. И хотя на кафедре немало преподавателей были сильными педагогами, так четко, сжато, с глубоким смыслом формулировать на лекции ее содержание, любую мысль вряд ли кто-то еще мог. Это было важно и для опытных преподавателей: ведущие практические занятия и доценты-экзаменаторы должны были знать, что преподавали на лекциях. Молодые преподаватели, адъюнкты почти всегда присутствовали на этих лекциях, даже проводимых неоднократно на одну и ту же тему, и получали незабываемые уроки. На некоторые лекции, особенно новые, приглашались почти все свободные сотрудники; это обычно совпадало с занятиями на кафедре групп высококвалифицированных специалистов [4, 8, 14, 16].
Лекторская школа кафедры всегда славилась своим высоким уровнем, и тот, кто хотел, мог опосредованно получать опыт на занятиях Б.А. Кожевникова, А.П. Ходырева, П.Б. Остроумова, А.А. Дегтярева и других преподавателей. В 70–80-е гг. прошлого века за право читать лекции (а это прерогатива профессоров и доцентов) была серьезная конкуренция. Система подготовки лекторов раньше предусматривала чтение 1–2-х лекций по теме диссертации молодыми преподавателями (иногда даже адъюнктами). Затем они допускались к лекциям на непрофильных группах обучающихся врачей. Это был полигон для приобретения первичного педагогического мастерства. Перед занятиями на более сложные темы устраивались пробные лекции с последующим обсуждением на кафедральном совещании.
В порядке подготовки к переходу на должность старшего преподавателя и получению звания доцента нужно было не только пройти обучение на специальных академических курсах, но и реально уже читать лекционный курс на ФПВ и несколько избранных лекций на I и VI факультетах (это считалось высшим пилотажем). С целью обеспечения дублирования преподаватели должны были освоить некоторые темы, ведущиеся другими лекторами. Так было и в отношении сложных видов занятий (деловых игр, задач, командно-штабных учений, полевых занятий и др.). Существовала система контроля качества проводимых занятий на всех уровнях с обсуждением результатов на кафедральных совещаниях. Кроме того, во время плановых и неплановых проверок кафедры руководством академии или ГВМУ вопросам преподавания курсантам и слушателям уделялось особое внимание, и это всегда являлось серьезным испытанием для коллектива. Среди проверяющих всегда были не только профессора ввузов, но и представители эпидемиологической службы войск (флота), включая главного эпидемиолога МО и его заместителей [1, 7, 14].
Можно еще упомянуть такие необходимые формы повышения знаний и расширения кругозора преподавательского и научно-исследовательского состава, как участие в сборах руководящего состава ГВМУ МО РФ и ВМА, в работе различных съездов и конференций, особенно с представлением докладов, в командно-штабных и полевых учениях, заседаниях научных обществ и присутствие на защитах диссертаций [9, 0]. Если представлялись доклады от кафедры, то сотрудники должны были при этом присутствовать и участвовать в дискуссиях.
Нужно с сожалением отметить, что в нынешней социально-экономической обстановке наблюдается постепенный отход от многих полезных традиций в подготовке кадров, утрачивается связь поколений и преемственность школ. А это сказывается на качестве преподавания и подготовки выпускников по специальности «эпидемиология». Только со временем понимаешь, насколько правильно и эффективно работала внутри кафедры система подготовки собственных кадров. Случайные люди рано или поздно отсеивались, не выдержав конкуренции, находили более легкие и выгодные для себя должности. Те, кто принимал ее как осознанную необходимость, стали настоящими профессионалами своего дела, и им не стыдно за свою прошлую и настоящую работу. Они и сейчас, в трудных условиях реформирования Вооруженных сил, здравоохранения, профессионального образования, сложной эпидемиологической обстановки в стране и мире, честно и добросовестно трудятся и пытаются, насколько возможно, сохранять лучшие традиции, заложенные нашими учителями, и поддерживать реноме кафедры общей и военной эпидемиологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
About the authors
Alexander B. Belov
Military Medical Academy of S.M. Kirov
Email: syezd2@mail.ru
SPIN-code: 6547-9289
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Russian Federation, Saint PetersburgMars I. Ishkildin
Military Medical Academy of S.M. Kirov
Email: syezd2@mail.ru
SPIN-code: 6107-6013
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Russian Federation, Saint PetersburgEvgeniy V. Lantsov
Military Medical Academy of S.M. Kirov
Author for correspondence.
Email: lantsov83@mail.ru
SPIN-code: 4384-2924
Candidate of Medical Sciences
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Belov AB, Ogarkov PI, Ishkildin MI, et al. Vitaly Dmitrievich Belyakov — an outstanding scientist and epidemiologist. History of Medicine. 2014;(2):27–36. (In Russ.). doi: 10.17720/2409-5834.v1.2.2014.20g
- Briko NI. Scientific and practical educational aspects of modern epidemiology: a view through the prism of history. History of Medicine. 2014;(1):36–45. (In Russ.). doi: 10.17720/2409-5834.v1.1.2014.03o
- Briko NI, Mindlina AYa, Pokrovsky VI. Epidemiology is the most important preventive discipline of modern medicine (on the 80th anniversary of the Department of epidemiology and evidence-based medicine, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University). Epidemiology and Infectious Diseases. Current Items. 2011;(2):4. (In Russ.).
- Lebedev SM, Chistenko GN, Fedorova IV. To the 100th anniversary from birth of Belyakov Vitaly Dmitrievich. Voennaya meditsina. 2021;(4):141–147. (In Russ.). doi: 10.51922/2074-5044.2021.4.141
- Cherkasskii BL. Rossiiskaya i amerikanskaya ehpidemiologicheskaya shkoly: sravnitel’nyi analiz. Epidemiology and infectious diseases. 1999;(4):9–12. (In Russ.).
- Shkarin VV, Kovalishena OV. Concept of the development of Russian epidemiology: 5 years later. Epidemiology and Infectious Diseases. Current Items. 2013;(1):9–14. (In Russ.).
- Belov AB, Ishkildin MI, Kuzin AA, Zobov AE. An outstanding military epidemiologist, scientist, and teacher academician Vitaly Dmitrievich Belyakov. Military medical journal. 2022;343(1):72–80. (In Russ.). doi: 10.52424/00269050_2022_343_1_72
- Ogarkov PI, Ishkildin MI. Akademik VD Belyakov i ego vklad v razvitie otechestvennoi ehpidemiologii. Saint Petersburg: Boston-spektr; 2001. 74 p. (In Russ.).
- Kotiv BN, Ivchenko EV, Zubenko AI, Ovchinnikov DV. Military postgraduate courses at the military medical academy: history, current state and prospects. Military Medical Journal. 2013;334(12):52–58. (In Russ.).
- Kotiv BN, Ivchenko EV, Mazur AF, Ovchinnikov DV. The history and state of home and forein high skilled scintific-pedagogical personnel training systems. Izvestia of the Russian Military Medical Academy. 2016;(3):45–52. (In Russ.).
- Belyakov VD, Golubev DB, Kaminskii GD, Tets VV. Samoregulyatsiya parazitarnykh sistem. Leningrad: Meditsina; 1987. 238 p. (In Russ.).
- Belyakov VD. Vnutrennyaya regulyatsiya ehpidemicheskogo protsessa (otvety na zamechaniya i voprosy, podnyatye pri obsuzhdenii teorii). Journal of Microbiology, Epidemiology, Immunobiology. 1987;64(10):78–89. (In Russ.).
- Belyakov VD. Izbrannye lektsii po obshchei ehpidemiologii infektsionnykh i neinfektsionnykh zabolevanii. Moscow: Meditsina; 1995. 176 p. (In Russ.).
- Belov AB. The academician VD Belyakov — the founder of the domestic theory of epidemiological science of the XXI century. Epidemiology and Vaccinal Prevention. 2016;15(6):9–15. (In Russ.).
- Belov AB. Solved problems and theoretical issues of epidemiological science. Epidemiology and Vaccinal Prevention. 2014;(2):7–15. (In Russ.).
- Belyakov VD. Ehvolyutsiya struktury meditsinskoi nauki i ee otrazhenie v sisteme meditsinskogo obrazovaniya. Aktovaya rech’. Moscow: I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, 1989. 29 p. (In Russ.).
Supplementary files